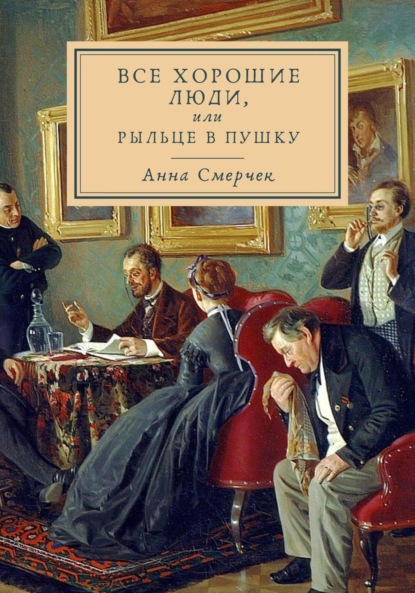
Полная версия:
Все хорошие люди, или Рыльце в пушку

Анна Смерчек
Все хорошие люди, или Рыльце в пушку
Глава 1,
в которой совершается преступление
29 мая 1907 года Иван Никитич Купря – полноватый, среднего роста господин сорока трех лет от роду – крался вдоль забора дома отставного полковника Вайскопфа и чувствовал, как волнение, точно пузырьки шампанского, поднимается от желудка вверх, к самой голове. Этот дом Купря выбрал еще два месяца назад, но обстоятельства сложились удачно только сегодня. На взгляд человека, недостаточно знакомого с географией города Золотоболотинска, двухэтажный каменный дом полковника Вайскопфа для затеи Ивана Купри подходил наименьшим образом: своим фасадом он смотрел на широкую, проезжую Александровскую улицу. Тут же сидел у хозяев на цепи их большой черный лохматый пес. Пес был злой и бестолковый, и всем было известно, что с цепи его никогда не спускают. Но Иван Никитич, проживший в городишке уже без малого семь лет, любивший пешие прогулки и изучивший все местные закоулки, знал, что непарадной своей частью полковничий дом повернут к безлюдной живописной местности, которая раскинулась позади него. После зеленеющего майской свежестью луга там вставал негустой лесок, который скрывал от глаз обитателей дома те самые болота, что дали название городу. Ожидать тут встречи с кем-либо из жителей Золотоболотинска не приходилось. Сейчас, вечером, даже мальчишки не стали бы здесь играть, опасаясь встречи с болотной нечистью, рассказы о которой так любили обыватели. Сам же полковник Вайскопф вместе со своим слугой – это было достоверно известно Купре – отбыл накануне по делам в Санкт-Петербург. Его жена Амалия Витальевна должна была этим вечером непременно быть в Общественном собрании по случаю приезда итальянского тенора. Мужик, работавший у Вайскопфов по хозяйству, бывший одновременно конюхом и извозчиком, ясное дело, отбыл вместе с хозяйкой и оставался при экипаже, чтобы после концерта отвезти ее домой. Горничная была отпущена до утра в дом своей дальней родственницы, где отмечались именины, и куда девушку пригласили не столько гостьей, сколько помощницей на праздник. Эти на первый взгляд совершенно излишние сведения, были господину Купре сегодня необходимы, и он накануне озаботился тем, чтобы все проверить. В доме могла оставаться только кухарка, но Иван Никитич надеялся, что она уже ушла спать, да и не будет она показываться на хозяйской половине.
Купря, никем не замеченный, благополучно, если не считать промокших во влажной траве ботинок, достиг, наконец, владений Вайскопфов. Забор здесь, на задах, был не то что с проезжей улицы, а довольно шаткий. Иван Никитич уцепился двумя руками за подгнившую доску, потянул вбок, и без особого труда вырвал её нижнюю часть. Примерился к образовавшемуся отверстию. Нет, голубчик, в этакую щель ни за что не пролезть. Тогда он, немного смущаясь и воровато оглядев раскинувшийся за спиной лужок с парой разволновавшихся под вечерним ветерком осинок, достал припрятанный под полой фланелевого пиджака металлический крюк. Крюк он тоже приглядел давно в собственном своем сарае. Поначалу крюк этот пробудил его любознательность совершенно не меркантильного толка.
– А что это, скажи-ка ты мне, Трофим, за штуковина такая у нас в сарае? – спросил тогда Иван Никитич дворника, помогавшему ему разобрать вещи после переезда.
– Это-то? – Трофим бросил хмурый взгляд из-под мохнатой шапки. – Сами и сказали: штуковина. Лучше и не скажешь.
– Я, брат, не столько названием, сколько назначением интересуюсь, – уточнил Иван Никитич.
Трофим почесал в затылке, так низко сдвинув шапку на лоб, что его глаз стало вовсе не видно:
– А кто ж его разберет? От старой хозяйки осталось, видать. Кочерга, не кочерга. Ломик, не ломик. Это, видать для того, чтобы… того. Или чтобы это… ну, этого самого. Да вы сами знаете!
Иван Никитич, выслушав объяснение старожила, хмыкнул, взвесил в руке металлический гладкий прут в пол локтя длиной с цепким ухватистым крюком на конце и решил:
– Глядишь и пригодится.
Вот и пригодилась штуковина. Купря поддел крюком доску забора, потянул на себя. Она легко подалась, наружу полезли длинные ржавые нити гвоздей. Теперь, когда отверстие стало пошире, Иван Никитич нагнулся и бойко нырнул за забор.
По ту сторону забора даже сам воздух показался Купре другим. Сад дышал особым запахом ухоженной земли, заботливо высаженных цветов, полнился уютными, нестрашными шелестами и шорохами. Под яблонями, которые готовились уже вот-вот зацвести, было сумрачно и влажно. На скамейке лежала, покрываясь вечерней росой, забытая и неприбранная служанкой светлая шаль хозяйки дома.
«Вот ведь что я удумал!» – подивился Купря собственному решению и, чуть пригнувшись, быстрыми мелкими шажками побежал к дому, глядевшему сквозь прозрачные вечерние сумерки темными прямоугольниками окон. Света нигде не было, значит, расчет был верный. На эту удаленную часть сада выходило семь окон первого этажа, и Купря, не веря своей удаче, сразу увидел, что одно из них приоткрыто. Он присел прямо под ним, позади цветочной клумбы со сложно и сладко пахнущими нарциссами, прислонился спиной к прохладной каменной стене и прислушался. В саду посвистывали какие-то мелкие птахи, радуясь весне и цветению, под легким ветром шелестела свежая майская листва, где-то в городе гавкали собаки, что-то скрипело, слышны были даже далекие, невнятные голоса, а вот в доме было тихо. Дом безмолвствовал так, как безмолвствует жилище, оставшееся без хозяев.
Иван Никитич приподнялся, отворил пошире окно и заглянул внутрь. Никого. Тогда он весело подпрыгнул, чтобы ловчее уцепиться, подтянулся на руках и лег животом на подоконник.
«Да что ж такое, право слово, – посетовал он мысленно. – Летом регулярно катаюсь на велосипеде, зимой имею привычку бегать на лыжах, а вот извольте видеть: живот-с!»
На животе лежать было мягко, но несподручно оказалось перелезать через подоконник в комнату.
«Хорошо хоть цветов в горшках на окне не понаставили!» – порадовался Купря, стараясь заглушить нарастающее нехорошее чувство, которое, стоило оказаться в чужом доме, моментально пришло на смену давешней веселости.
Комнатенка была маленькая, нежилая. Здесь помещались только трехдверный деревянный одежный шкаф, стул да стол с утюгом, какими-то щетками и ворохом не глаженных ещё юбок и рубашек. Купря огляделся, сделал пару шагов к двери, приоткрыл её, выглянул в темный коридор. Все здесь было незнакомым, половицы скрипели непонятно, в воздухе висел запах чужого жилища.
«Нет, дальше, пожалуй, не пойду. Я уже в доме – и будет!» – строго сказал себе Иван Никитич, шагнул назад и затворил дверь. Прислушался к своим ощущениям. Весь его азарт куда-то разом улетучился. Он вдруг понял, что ощущения у него препоганые, потому что теперь ему сделалось страшно и стыдно. Но дело не было ещё доведено до конца.
Он выудил из кармана припасенный заранее холщовый мешок и снова оглядел скромную комнатенку. Взялся было за утюг, но тут же вернул чугунного тяжеловеса на место. Потянул из вороха белья что-то воздушное, кружевное, явно женское, усмехнулся в усы, но тут же устыдился и сунул это непонятное обратно поглубже под юбки и оборки. На третий раз, наконец, ухватил подходящую вещь: мужскую плотную рубаху, и ещё одну, и ещё, а затем и кальсоны. Начал запихивать находки в мешок. Заметил задвинутую к стене синюю коробочку с пол-ладони величиной, и сунул ее, не открывая, в карман. Потом решил посмотреть в шкафу. На полках высокими крахмальными стопками лежало белье. Иван Никитич хотел заглянуть было, что лежит в другом отделении шкафа, и вдруг мельком выхватил из полутьмы свое круглое, искаженное азартным воодушевлением и вместе с тем откровенно испуганное лицо, отразившееся на миг в зеркале, закрепленном на створке шкафа.
«Господи прости, что я делаю!» – спохватился он, отшатнулся сам от себя, шагнул назад и опустился на подвернувшийся кстати колченогий стул.
«Да ведь это грех! А если сейчас придут? Который час? Поди полдесятого уже. Что же это у них тут и часов нет? Что я здесь делаю?!»
Он кинулся выкладывать из мешка обратно на стол только что украденные вещи. Как они лежали раньше? Ведь заметят, что иначе сложено! Кинутся догонять и ведь догонят непременно, и поймут сразу, что это он: он и в дом влез и вещи покрал. Где-то совсем рядом заполошно залаяла собака, заскрипели ворота.
«Стыд-то какой!» – взвыло все в душе у Ивана Никитича. Он отбросил мешок с нелепо торчащими рукавами и штанинами прочь от себя, прямо на пол, и кинулся к окну. Перебросил одну ногу через подоконник и остановился. Прислушался. В саду было тихо, если не считать щелкающего где-то совсем рядом соловья.
«Э нет, брат, а как же все-таки…?»
Он быстро вернулся, поворошил кучу одежды. Взгляд его упал на жилет благородного серого оттенка, матово блеснувший в сумерках плотной, дорогой шелковой тканью. Жилет понравился Ивану Никитичу тем, что по сравнению с рубахами и кальсонами, не занял бы много места, будучи спрятан. Купря только теперь подумал, что прилично одетый господин, идущий по улице с мешком одежды в руках, выглядел бы подозрительно – чай, на прачку-то не похож. Нет, покраденное следовало спрятать на себе так, чтобы не привлекать внимания. Неловко сложив жилет, он сунул его под ремень брюк и прикрыл полой пиджака. Левый бок Ивана Никитича при этом несколько оттопырился, придав его и без того плотной фигуре нездоровую кривизну. Несмотря на это, Купря плотно запахнул пиджак и теперь уже без промедлений бросился к окну. Он быстро перелез через подоконник и побежал, все так же мелко переступая и пригибаясь, но теперь уже не разбирая пути через сад к лазу через забор.
По прошествии двадцати минут Иван Никитич был уже на привокзальной площади и сидел в трактире. Первым его намерением после удачной кражи было немедленно воротиться домой, забиться в кабинет, запрятать там покраденный полковничий жилет в самый дальний угол ящика письменного стола, запереть его непременно, чтобы никто не мог эту улику обнаружить, и затем тщательно записать все произошедшее. Записать, конечно, от третьего лица, изменив, само собой, имя и звание обворованного полковника. Иван Никитич уже и придумал даже, что изобразит дом богатого и скаредного купца, и положил себе выдумать для него какую-нибудь неудобную, даже немного стыдную фамилию. Обворованный нынче отставной полковник носил гордую фамилию Вайскопф, что в переводе с немецкого означало «белая голова». Полковник был, и правда, белоголов – Купря был с ним шапочно знаком, и находил, что седина добавляла образу полковника солидности. Задуманный же купец должен был быть поименован от противного: Чернозадов? Нет, звучит неприлично, дамам не понравится. Крутопузов? Ладно, над именем можно было подумать и после, а вот ощущения стоило записать как можно скорее, пока они были так живы ещё в душе. Однако, направившись к себе на Рождественскую, оставив дом полковника уже далеко позади и вполне уверившись в том, что теперь едва ли кто-то будет преследовать его, чтобы уличить в совершенном преступлении, Иван Никитич вдруг почувствовал, что никак не может сейчас прийти домой. Он живо представил себе, как Сонечка и Лизонька, уже, вероятно, умытые на ночь, в светлых ночных рубашечках выскочат ему навстречу, обовьют ручонками шею. Ему сразу нарисовалась картина, как одна из дочерей, скорее всего младшая, резвая Лизонька, тут же запустит ладошки под его пиджак, заметив, что там что-то спрятано, и надеясь получить гостинец. А какие глаза будут у Лидии Прокофьевны, когда жилет будет извлечен на свет, и она сразу же, конечно, своим женским хозяйским чутьем распознает в нем чужую, да к тому же еще и недешевую вещь! И Ивану Никитичу придется тогда, не подав виду, объяснять жене, почему он прячет у себя под пиджаком предмет чужого гардероба. Тут же без всякого напряжения, как будто сама собой в голове Ивана Никитича составилась презабавная история, как будто он сговорился помогать заезжему фокуснику: интересно ведь посмотреть на скрытую сторону таких выступлений. Заранее спрятанный под полой пиджака жилет должен был неожиданно явиться перед публикой. Да вот незадача: фокусник оказался неловок, публика освистала его и он, схватив извозчика, умчался на вокзал, позабыв про свой реквизит. И, конечно, Лидушка бы не поверила. По его лицу и по глазам сразу бы поняла, что он все это сочинил, что все было как-то иначе, да только скорее всего смолчала бы, и смотрела бы на него долгим укоризненным взглядом. Иван Никитич почувствовал, что ему тогда было бы совестно вдвойне: и за покражу, и за обман. Поэтому домой он не пошел, а пришел прямо сюда, в трактир на привокзальной площади.
Купря заказал графинчик водки с соответствующей позднему вечернему времени легкой закусочкой в виде соленых грибков и квашеной капусты. Также он попросил подать бумаги и чернил и, выпив первую рюмку, стал торопливо записывать произошедшее, стараясь ухватить в себе и выразить словами все обуревавшие его чувства. После второй рюмки его не на шутку стал занимать и отвлекать от писания вопрос о том, куда деть украденный шелковый жилет. А после третьей он понял, что ему настоятельно нужно обсудить все случившее с кем-то понимающим. Он черкнул записку, подозвал мальчика и велел ему бежать на Луговую.
– Это к художнику, что ли? – переспросил мальчишка.
– К художнику, к художнику, да поторапливайся! – Ивану Никитичу не понравилась этакая нерасторопность. Его вообще уже все начинало раздражать в трактирном зале: и то, что хозяин явно экономил на освещении, и то, что водка в графинчике стала противно теплой и заканчивалась, и захотелось уже есть, и скучно стало, и мешал засунутый под ремень украденный жилет, и было душно. Он знал, что домой придет поздно, и Лидушка, скорее всего, станет его этим попрекать, а он даже не сможет ей рассказать, что совершил сегодня. Она ни за что не поймет, что это нужно было для дела. Почувствует только, что он пил, и будет огорчена или вовсе разозлится.
Вопреки опасениям Купри, что его товарищ не пожелает в такой поздний час выходить из дома, скоро на пороге трактира появилась знакомая фигура. Художник Тойво Виртанен был ростом несколько выше Ивана Никитича. По его неторопливым, уверенным движениям можно было признать в нем человека сильного, сдержанного, хорошо знающего, что он сделает в следующую минуту и никому не позволяющего сбить себя с толку. Поверх простой льняной рубахи у него была накинута широкая синяя блуза, местами испачканная краской – это означало, что, хоть он и откликнулся на приглашение приятеля, но засиживаться за праздным разговором не будет, а собирается как можно скорее вернуться к работе. Тойво молча уселся напротив Купри и стал смотреть на него укоризненно. Иван Никитич тоже сидел сначала молча, не зная с чего начать и обуреваемый чувствами: он и гордился своей смелостью, позволившей залезть в чужой дом, и стыдился кражи, и радовался приходу друга, и совестился того, что выпил.
– И давно ты тут сидишь? – спросил, наконец, Тойво, который не мог долго пребывать в бездействии и постоянно ставил себе множество малых и больших целей, чтобы, никогда не останавливаясь, двигаться от одной к другой. – Сколько ты выпил уже? Не дают тебе больше в долг?
– Бог с тобой, Тойво! Я и выпил-то всего пару стопок. И деньги у меня есть, – Иван Никитич хотел замахать на друга руками, но вспомнил о припрятанном жилете полковника и только прижал локти плотнее к бокам, чтобы полы пиджака не разошлись.
– Что это ты там прячешь, Иван Никитич? – Тойво острым глазом художника сразу отметил нездоровую дисгармонию в костюме приятеля. – Если щенка, то и не думай, не возьму больше ни одного! Отдай вон трактирщику, а мне моих двух собак хватает. И где ты их только находишь?
– Нет-нет, – с облегчением замотал головой Купря. – Никакого щенка у меня нет. Я, друг мой, о другом совсем. Я ведь сегодня – ты не поверишь – решился!
Тойво смотрел на Ивана с выражением полного непонимания на лице, и тогда тот, нагнувшись пониже над столом и приглушив голос почти до шепота, торопливо заговорил:
– Помнишь, мы давеча с тобой поспорили? Ну как давеча? С месяц тому уже будет, наверное. Я просил тебя подарить мне сюжетец. Ты же знаешь, мой издатель Свирин наседает, желает поскорее чего-нибудь занимательного. И я просил тебя припомнить какой-нибудь забавный случай из твоих путешествий. Я мог бы положить его в основу рассказа. Но ты мне отказал: сказал, что из этой затеи все равно ничего не выйдет. Потому что нужно самому пережить подобные события, чтобы правдиво написать историю. Ну же, помнишь, мы тогда ещё сидели у тебя в мастерской? И ты доканчивал тот пейзаж с березой и завалившимся забором. А потом угощал меня булочками из ржаной муки с брусничным вареньем. Как же они называются? Да ты сам знаешь! Твоя Зина их печет иногда, такие продолговатые, а посередке…
– Не припоминаю этого разговора, – нетерпеливо перебил Тойво. – Хотя, пожалуй, соглашусь, определенный опыт для писателя чрезвычайно важен.
– Как же не припоминаешь? – взвился Купря, отирая пот со лба. – Я тебя умоляю, давай возьмем ещё графинчик и чего-нибудь, хоть картошечки что ли. Так есть хочется! Грибы вот остались еще. Они очень даже приличные, попробуй!
Иван Никитич подтолкнул к художнику глиняную глубокую тарелочку, на дне которой, пересыпанные зеленым луком, словно ещё не собранные в траве, лежали маленькие крепенькие грибные шляпки. Тойво вытащил из кармана часы, хотел было сказать, что уже поздно и ему нужно домой, но, посмотрев в умоляющие и растерянные глаза Ивана Никитича, понял, что дело на этот раз вовсе не в выпивке, что тот, видимо, попал в историю, и ему нужно выговориться. Заказали ещё графин и пирожков с рыбой.
– Как же ты не припоминаешь, Тойво! – повторил Иван Никитич, с удовольствием опустошив рюмку и закусив свежим, теплым ещё пирожком. – М-м-м! А недурные пирожки! И что это они на ночь глядя напекли? А, это, верно, чтобы к проходящему поезду отнести и продать. Попробуй непременно! Что это за рыба такая у них в начинке? Не разберу. Надо бы потом спросить у полового. Да, так о чем это я? Как же ты не помнишь, что сказал мне тогда? Я твои слова принял так близко к сердцу! Да не просто к сердцу. А как прямое руководство к действию. Я запомнил буквально. Ты сказал: «Если хочешь описать, как твой герой скачет на лошади, сначала сам сядь на неё и проскачи хотя бы полверсты, чтобы почувствовать, каково это на самом деле. Если твой герой должен утонуть, то зайди на глубину, нырни и почувствуй себя лишенным воздуха и опоры под ногами. Хочешь писать о полете птиц, отправляйся в воздухоплавательную школу и не бойся подняться в воздух. Поверяй слово действием!» Ты сказал это точно такими словами, и мне эта твоя мысль показалось очень правильной и важной.
– И что же ты придумал? – с тревогой спросил Тойво, вглядываясь в растерянного Купрю. Тот наклонился ещё ниже, зажмурился и шепотом признался:
– Я, друг мой, нынче залез в дом полковника Вайскопфа и обокрал его!
– Господи, да зачем же ты это сделал? – Ивану Никитичу показалось, что Виртанен сейчас вскочит и выбежит в дверь. Но тот только выпрямился на стуле и в полном непонимании уставился на друга.
– Скажи, Тойво, ты читал рассказы о похождениях английского сыщика Шерлока Гольмса? Я вот прочел несколько новых переводов недавно. Ты знаешь, у Свирина в редакции все говорят, что истории, в которых описывалось бы раскрытие какого-нибудь преступления, чрезвычайно популярны среди читателей. Вот я и решил попробовать сам написать что-то в таком роде. Убийство мне описывать не хотелось – это все-таки крайность и, слава Богу, не так часто случается. Хотя мне, как ты знаешь, прежде приходилось сталкиваться с разного рода прискорбными случаями, но я решил все же первый опыт писания такого рассказа посвятить не очень страшному преступлению. И такому, чтобы каждый читатель мог легко себе вообразить эти события и чувства моих героев. Вот я и подумал, что краж происходит сколько угодно, хоть каждый день. Это может быть даже забавным. А если сделать так, что грабитель выступал бы в роли этакого Робина Гуда, который наказывал бы за скаредность и алчность, то сюжетец мог бы выйти неординарный и даже поучительный.
– И ты решил обокрасть Вайскопфа? Чтобы узнать, что чувствует грабитель?
– И чтобы в целом понять, как это делается. Только ты говорил бы потише, а то еще кто услышит ненароком. Да, обокрал. А что мне оставалось? Ты же не позволил мне описать какой-нибудь занятный эпизод из твоих путешествий. А ведь я мог бы протащить в печать и твои иллюстрации, конечно, если бы ты их нарисовал. И если бы Свирин согласился их оплатить и напечатать.
– То есть я ещё и виноват во всей этой истории? – опешил Тойво. – Вот уж воистину «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»! И как же ты проделал все это, позволь узнать?
– Дело, как оказалось, нехитрое. Я всего-то отогнул доску в заборе и был уже у них в саду. Не с улицы, конечно. Там бы непременно кто-нибудь заметил. Я сзади дом обошел и влез с той стороны, где позади дома луг. Ты ведь помнишь, как у них дом стоит? Одно окно было открыто, я через него и влез. Собака меня не услышала, видно, была на переднем дворе. Она у них злая, все время на цепи сидит. В доме никого не было. Я нарочно загодя узнал. Но я у них там по комнатам не разгуливал, хотя, получается, мог взять что угодно.
– Но ты ведь ничего не взял?
Иван Никитич нахмурился, открыл и закрыл рот. Потом вытащил потихоньку из-под полы пиджака полковничий жилет и под столом показал его Тойво.
– Вот. Взял для чистоты эксперимента. Как бы я иначе узнал чувства грабителя, если бы ничего не вынес из дома?
– Это что, жилет? Жилет Вайскопфа? И что ты думаешь теперь с ним делать?
– Ума не приложу! Может, ты его у меня заберешь?
– Я? С какой это стати? И не надейся! Не думай даже делать меня соучастником твоих глупостей! Хватит с меня и того, что я обо всем этом теперь знаю.
– Так что же мне делать? Домой я отнести его не могу. Лида сразу найдет. – Иван Никитич в отчаянии разлил по стопкам прозрачную жидкость. – Бросить где-нибудь незаметно в мусорную кучу? Закопать в саду? Отдать нищему? Подбросить кому-нибудь на задний двор?
– Верни его Вайскопфу, Иван! И кстати, я вовсе не нахожу полковника дурным человеком. Твой благородный разбойник напрасно выбрал его своей жертвой.
– Да это я предположил просто для сюжета, что у вора будут благородные побуждения. Подумал, что для читающей публики было бы занимательнее, если бы можно было проникнуться сочувствием к преступнику. Сам-то я полковничий дом выбрал только потому, что понимал, как туда можно незаметно влезть. Так ты считаешь, что я должен вернуть жилет? Но как же я объясню Вайскопфу, откуда я его взял?
– Так же, как мне только что объяснял.
– Нет, нет. Признаться полковнику, что побывал без спросу в его доме и буквально копался в его белье – нет, это невозможно. Он влиятельный в городе человек. К тому же немолодой уже. Да ещё и бывший военный. Да к тому же немец. Он не оценит такой шутки. Нет, исключено!
Они посидели в молчании. Половой открыл заднюю дверь, чтобы вымести наружу сор, в зал полилась весенняя ночь, совсем не темная, прохладная, полная аромата цветущей сирени и соловьиных трелей.
– Ладно, Иван, мне, пожалуй, пора идти. Зина будет волноваться. Я сказал ей, что на полчаса выйду.
– Постой, так а что же мне делать с жилетом?
Тойво, который уже было поднялся, чтобы уйти, снова присел к столу.
– Я тебе сказал мое мнение. Верни его полковнику и объясни, что проделывал эксперимент. Хотел узнать, что чувствует человек, забравшийся в чужой дом и взявший что-то из вещей хозяина. Ох, Иван, ты хоть понимаешь, насколько эта твоя творческая любознательность бывает чрезмерна и неуместна? И что, к слову сказать, чувствует этот самый человек? Воришка, если называть вещи своими именами. Теперь ты знаешь?
Иван Никитич тяжко вздохнул:
– Поначалу, возможно, некоторый азарт. Но тут неточно. Я ведь действовал не из нужды или корысти, а из исследовательского, или точнее сказать, литературного интереса. И знал к тому же, что это никогда не повторится, что я всего-навсего проделываю такой опыт. А потом я почувствовал стыд. И страх быть застуканным и пойманным. И снова стыд, что, возможно, поселил в хороших людях беспокойство за безопасность в их собственном доме, если они заметят следы моего там пребывания. А ведь могут подумать и на кого-то другого. Могут обвинить прислугу, если узнают о пропавших вещах. Ох, Тойво, не вышел бы из меня грабитель. Слишком много думаю.
– Думать, Иван, надо было раньше. И знай: я тебя к таким экспериментам не побуждал. Так что верни жилет хозяину. Иначе так и будешь жить с нечистой совестью.
С этими словами Виртанен решительно распрощался, бросил на стол несколько монет и пошел к дверям. Время было уже позднее, Иван Никитич расплатился и тоже направился домой. Глядя, как половой ловко составляет к себе на поднос опустевший графин и стопки, он как-то сразу, очень легко придумал, что сделает с украденным жилетом. Тойво, наверняка, прав, и взятое без спроса необходимо вернуть. Но сейчас для этого уже слишком поздно. Будет подозрительно, если кто-нибудь заметит его, шатающимся в такой час далеко от дома. Бог знает, что могут подумать. Жилет он, без сомнения, вернет. Но только нужно как следует обдумать, как это можно ловчее сделать. А заодно появится у него материал и для какой-нибудь шпионской истории, в которой герою предстоит подкинуть злодеям некий, например, компромат, и поэтому он вынужден таиться от близких, скрывать свои подлинные намерения и лгать. Окрыленный этой новой идеей, Купря сразу вспомнил, что в дровяном сарае у него есть одно местечко, где он временами скрывал от своей жены, Лидии Прокофьевны, припасенную по случаю не для гостей, а для самого себя бутылочку коньячку. Там и для краденого жилета место найдется!

