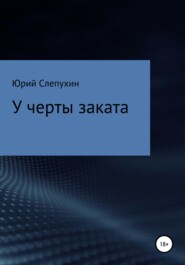
Полная версия:
У черты заката
31 декабря. Ну вот и Новый год, тысяча девятьсот пятьдесят третий от Рождества Христова. В Париже он уже наступил, здесь наступит через два часа – сейчас его встречают на судах посредине Атлантики. Термометр снаружи показывает плюс 34 по Цельсию. Как ни странно, к этому привыкнуть труднее всего – к новогодней жаре. Хорошо еще, что в квартире воздух искусственно охлаждается.
За окном – дождь бенгальского огня, взвиваются разноцветные ракеты, медленно улетают маленькие бумажные монгольфьеры, освещенные изнутри стеариновой плошкой. Бурный темперамент не позволяет аргентинцам дождаться полуночи – празднование Нового года здесь всегда начинается заранее, чуть ли не с заката солнца. Сегодня я истратил последние пиастры – купил куклу дочери консьержа Аните, а для себя бутылку хорошего бордоского. В двенадцать включу радио, настроюсь на Франс-II и буду слушать и пить за собственные успехи.
Да, вчера звонили из консульства – заходил какой-то тип, спрашивал обо мне, похоже, что хочет купить «Отъезд из Вокулёра». Я ответил, что эта вещь не продается. Секретарь пробурчал что-то насчет того, что я, мол, живу в квартире с телефоном и отказываюсь продавать картины, а прикидываюсь безработным. Я не дослушал и повесил трубку. Потом меня подмывало позвонить ему и пригласить на коктейль-парти. Если бы он увидел квартиру – совсем бы рехнулся. А по сути дела, «Отъезд» следовало продать. Какие уж тут красивые жесты, когда жрать нечего! Но все равно, Жаннету я не продам. Слишком к ней привык. Тем более что лишняя тысяча пиастров ничего не изменит, а только оттянет развязку.
8 января. Потешная история. Уже четыре дня промышляю в «Трес маринерос» карандашными экспресс-портретами – увековечиваю посетителей. Желающих много, хорошо платят. Впрочем, теперь эти глаголы следует переставить в «пассэ дефини»: промышлял, увековечивал, платили. Напротив харчевни расположена минутная фотография – я этого просто не учел. Сегодня, когда я как раз был в ударе и увековечивал одного парня с финского лесовоза, зашел фотограф – повертелся, заглянул через мое плечо. А под вечер, когда я в радужном расположении духа шел отдыхать после трудов праведных, со мной поравнялась какая-то мрачная личность и таким же мрачным тоном посоветовала отдать швартовы и переменить якорную стоянку. Он даже не уточнил, что меня ожидает в случае ослушания. Это, как говорится, было понятно без слов. Стоянку я пообещал переменить, потом личность попросила у меня два пиастра на кружку пива, и мы расстались по-джентльменски.
23 января. Звонил в консульство – спросил, не оставил ли адреса тот тип, что интересовался «Отъездом». Мне с ледяной любезностью ответили, что нет, к сожалению. Нет так нет. Вчера был по объявлению в рекламном агентстве «Орбе публисидад», им там требуется художник. Роскошная обстановка – стекло, нержавеющая сталь, мебель какого-то марсианского стиля, похоже на реквизит из фильма «Год 2000». Очень милая сеньорита из породы синтетических блондинок, типичная голливудская гёрл. Встретила меня так любезно, что я уже счел себя принятым, – усадила в марсианское кресло, сама села напротив, предложила английскую сигарету. Узнав, что я француз, рассыпалась в похвалах Парижу, где проводила отпуск в прошлом году. Отдав дань светской болтовне, я поинтересовался – что, собственно, потребуется от меня для того, чтобы осчастливить «Орбе» своим сотрудничеством. Оказалось, что потребуется совсем немного: справка о политической благонадежности (зачем, черт побери?) и несколько работ – с указанием, где, кем и когда были опубликованы. «Пусть мсье представит это господину директору, и в течение недели господин директор даст мсье ответ. О, мсье не пожалеет, если решит работать для нашего агентства, – с лучезарной улыбкой заверила сеньорита. – «Орбе публисидад» на хорошем счету, за один сегодняшний день к нам поступило шесть кандидатур…» Я небрежным тоном ответил, что пока не вижу за «Орбе» никаких преимуществ перед известными мне европейскими агентствами – за исключением подбора сотрудниц, делающего честь вкусу господина директора, – и что, вообще, я еще подумаю… Словом, отступление было проведено с достоинством. Не мог же, в самом деле, я ей признаться, что никогда в жизни не занимался рекламной графикой!
Каждый вечер сажусь к телефону и обзваниваю все одиннадцать магазинов, куда рассовал на комиссию свои холсты (все, кроме «Отъезда»; Жаннетту, что бы ни было, продавать не хочу). Никто ничего не покупает. Просто проклятье какое-то!
30 января. Дальше так продолжаться не может. Сегодня пригрозили выключить свет, если не уплачу по счету в течение недели. (Квартира, как мне говорил Брэдли, оплачена за полгода вперед, но за телефон, воду и электричество приходится платить мне.) Шестьдесят пять пиастров – откуда я их, к дьяволу, возьму? Я понимаю возмущение инкассатора, который приходит ко мне уже третий раз, – еще бы, жить в такой квартире и отказываться уплатить за свет. Поди объясни ему, что я вчера не жрал!
Впрочем, все это ерунда. Дело не в электричестве. Дело в том, что я месяц назад дал себе слово – в течение января решить, как быть дальше. Браться за «это дело» или не браться. Сегодня я понял, что все это время я вовсе не пытался найти решение, а просто трусил, играл в жмурки с собственной совестью, боялся признаться самому себе в уже свершившемся факте. Все было решено в тот вечер, когда я не дал Брэдли по физиономии и не ушел. Что уж теперь говорить красивые слова! Если я все же не позвоню этому Руффо, это будет лишь акт трусости, продиктованный боязнью последствий, а вовсе не доказательство моей стойкости. Ее уже нет – после того вечера. Не вижу принципиальной разницы между преступником, уже совершившим преступление, и человеком, в душе согласным на преступление, но боящимся его совершить. Может быть, преступник явный честнее преступника потенциального. Но и опять – и это самое страшное – я все же не уверен, действительно ли является преступлением то, что я собираюсь сделать. То, к чему я вынужден обстоятельствами. Цель оправдывает средства? Никогда не мог согласиться с такой постановкой вопроса – и к чему я пришел? Художник, работающий для самого себя, – живой труп. Он бесполезен так же, как бесполезна крутящаяся вхолостую динамо-машина, отключенная от линии. Если я пишу картины, которые ни на кого не воздействуют, – зачем их писать? Но у меня есть возможность добиться такого положения, при котором они будут воздействовать на многих, при котором мой талант не окажется бесплодным. Для этого нужно пройти через грязь, пожертвовать своей моральной чистоплотностью. Б., несомненно, прав в том, что только деньги могут дать человеку возможность играть какую-то роль в нашем обществе. Если я считаю, что моя роль будет полезной, – то не все ли равно, какими путями я к ней приду? Верно и то, что я, согласившись на предложение Р., не нанес бы этим никакого ущерба обществу. Следовательно, единственный ущерб будет при этом нанесен мне – моей собственной морали, моему чувству собственного достоинства. Черт, как это все сложно! Тут недолго додуматься и до того, что я, согласившись проституировать свой талант, превращаюсь чуть ли не в героя, жертвующего собой ради общества. Я, кажется, окончательно во всем этом запутался. Нужно рассмотреть это дело спокойно и беспристрастно, по-бухгалтерски. Что я выигрываю и что теряю в одном случае и что – в другом. Впрочем, что там рассматривать, у меня ведь все равно нет никакого выхода,
1 февраля. Завтра позвоню Р. В общем, посмотрим, что он мне закажет. Если слишком уж мерзкое что-нибудь – откажусь, пусть ищет другого. А может быть, и не откажусь, не знаю. Я сейчас вообще ничего не знаю. Знаю только, что влип так, как не влипал никогда в жизни. Похуже, чем тогда, под водокачкой.
5 февраля. Замечательная погода – только что прошел дождь, и город весь чистенький, как лакированный. На улице, очевидно, душно, – здесь всегда душно после летнего дождя. А со стороны смотреть – красиво. Сейчас я звонил Р. Интересное дело – обычно с этими важными господами созвониться не так просто, а тут можно подумать, что сам дьявол сидел за коммутатором: сразу же соединили. Голос у старика малоприятный – пискливый какой-то, резкий. Я сказал, что звоню от имени мистера Брэдли по вопросу картин. Старик обрадовался и заявил, что завтра – в воскресенье – ждет меня в своем загородном доме. Спросил, в котором часу прислать машину. Я сказал, что буду дома весь день, пусть присылает когда угодно. Вот так.
7 февраля. Ну что ж, рассказать о поездке в Каноссу? Мой новый повелитель принял меня исключительно любезно, долго показывал свою галерею, накормил лукулловым обедом. В живописи он не понимает ни шиша – это я понял с первого же взгляда на ту мазню, которой он обвесил все стены. Б. был прав: сюжеты все один к одному. Впрочем, ничего
по-настоящему гнусного, просто голые бабы во всех видах. После обеда, за кофе, старик осторожно перешел к делу. Не знаю ли, мол, я, где можно достать несколько хороших картин на такие, знаете ли, темы… поигривее, мм-да… ну, и чтобы было натурально, «вы понимаете, не правда ли?». Если бы он нашел художника, который согласился бы взяться за такую работу, он, дескать, не постоял бы за ценой. «Ну, скажем… тысяч по десять – это ведь хорошая цена, не правда ли?» (Проклятый торгаш, Аллану говорил – от пятнадцати до двадцати, а здесь выколачивает подешевле). Ну, а темы – это он полностью оставляет на усмотрение художника. «Для начала, скажем, какую-нибудь там вакханочку, что ли, но поигривее, поигривее». У него гнусная манера хихикать. Старый сатир, сукин сын. Я, не вынимая изо рта трубки, с великолепным спокойствием заявил: «Двадцать пять тысяч, и через три недели вы будете иметь свою вакханку». Проклятый сатир заерзал, как грешник на сковородке. Откуда у него такие деньги, помилуйте! Дела последнее время идут как нельзя хуже, с кожевенным бизнесом сейчас вообще беда – всюду, знаете ли, эти заменители, синтетика… Я ответил, что меня мало интересует состояние его бизнеса; если сеньор не согласен заплатить мне двадцать пять тысяч, из которых пять – сейчас, в качестве гарантийного аванса, то пусть вооружается кистью и пишет свою вакханочку сам. Он прямо захныкал: «Но ведь я думаю заказать вам несколько картин, не одну, а вы же знаете – оптовые цены всегда ниже розничных, это закон коммерции!» Но я, черт побери, держался, как гвардия под Ватерлоо. Сказал, что законы коммерции меня интересуют еще меньше, и что оптом дешевле обходятся разве что дохлые коровы, но никак не вакханки. И повторил требование насчет аванса, – почем знать, что он через неделю не передумает? Словом, кончилось тем, что сатир извлек чековую книжку и выписал 5.000.
Теперь вот сижу и не знаю, как быть. Дело в том, что я очень мало имел дела с обнаженной натурой. Без натурщицы не обойтись, но не хотелось бы привлекать к этому еще кого-то. А придется, никуда не денешься! Надо будет забежать в «Аполо» – там всегда полно нашего брата, кого-нибудь посоветуют.
Руффо со мной договорился, что приедет дней через десять – посмотреть, как идет работа. Пусть приезжает, черт с ним. Надеюсь, что основное будет к тому времени уже готово, хотя бы вчерне. Над композицией раздумывать особенно не приходится, а пишу я быстро.
9 февраля. Сейчас была натурщица. Только собирался пойти пообедать, вдруг звонок. Открываю – влетает этакая райская птичка в ренуаровских тонах: темно-рыжие волосы, персиковый загар, глаза прямо фиолетовые. «Здрасьте, – говорит, – я от Пузана, очень приятно познакомиться». Я совершенно обалдел. «От какого еще Пузана, – говорю, – вы, наверное, ошиблись, сеньорита». А она: «Ну как же, – говорит, – Пузан Ремихио, не знаете что ли, бармен в «Аполо», он дал мне ваш адрес – вы ведь ищете натурщицу?» Я только и нашелся, что пробормотать, что да, действительно, натурщицу-то я ищу, но мне бы что-нибудь попроще… Птичка рассмеялась и протянула руку, отрекомендовавшись сеньоритой Элен Монтеро, а для друзей – просто Беба. Боюсь, их у нее слишком много, этих друзей. Войдя в комнату, она огляделась, тараща свои пармские фиалки, и объявила, что ей у меня нравится. Очень. Меня это, разумеется, страшно обрадовало. Потом она порылась в сумочке и запихнула себе в рот какую-то огромную конфету, причем попутно попыталась угостить и меня. Отказался с ледяной вежливостью. «Не успела позавтракать, понимаете, – объясняет она с набитым ртом, – а позировать вам я согласна». – «Мадемуазель, – говорю, – прошу учесть, что я пишу обнаженную натуру». – «Ну и что, – говорит, – это право артиста – выбирать, с какой натурой работать, только ню дороже обходится – по полсотни национальных». – «Что, за сеанс?» – «А вы думали, в месяц?» Цена, конечно, непомерная – это был отличный предлог мирно расстаться, но я упустил момент и сдуру сказал, что если хочет, то пусть приходит завтра с утра. Она жизнерадостно заявляет: «Еще бы я не хотела!» – и спрашивает, устраивает ли меня ее фигура и не желаю ли я взглянуть на ее фото в купальном костюме – снято неделю назад, на побережье. Я говорю, что фигура вполне устраивает, а фото меня не интересует и вообще я сейчас занят. «Ладно, завтра увидите оригинал. До свиданья, дон Херардо, очень рада с вами познакомиться, до завтра». Только я ее выпроводил – опять звонок, опять она. «Простите, – говорит, – я вас надула – мне платят гораздо меньше». При этом в глазах искреннее раскаянье. Я ей ответил, что не догадаться об этом мог бы только кретин, но что в награду за ее честность договор остается в силе. Просияла и ушла. Ну и ну!
4
– Вы, пожалуйста, на меня не кричите! Если вам так хочется иногда покричать, то заведите себе жену и кричите на здоровье!
– А вы, черт бы вас драл, придержите ваш язык и ваши советы и учитесь позировать, если уж беретесь за это дело! Какого дьявола вы крутитесь? Вы что, сами не видите, что здесь мало света? Как я могу работать, если вы все время оказываетесь в тени?
Жерар подобрал кисть, которую за минуту до этого в ярости швырнул на пол, и снова принялся за работу, бросая быстрые взгляды на сеньориту Монтеро.
– Думать нужно, вот что, – ворчливо сказал он, уже остыв, – Другие в вашем возрасте умеют это делать…
– Другие в вашем возрасте умеют схватывать оттенки на лету, – язвительно заявила обиженная сеньорита. – И вообще я устала!
– А я вот не схватываю, понятно? Никто не держит вас здесь на привязи… Устали, говорите? Ничего, сейчас кончаем. Никто вас не держит… Можете искать себе другого мастера. Минутку…
Он встал и отошел от мольберта, приглядываясь к холсту.
– Ладно… Вот здесь еще немного… Впрочем, вы что, устали? Ладно, черт с ним, доделаем завтра. Можете одеваться.
– Наконец-то! У вас есть кофе?
– Есть, сейчас поставлю. – Собирая кисти, Жерар стал весело насвистывать. – А на крики не обижайтесь, я всегда нервничаю, когда работаю. Считайте, что я погорячился, и примите мои извинения. Идет?
Не дожидаясь ответа, он вышел из ателье, на ходу снимая испачканную красками блузу.
– Заварите покрепче! – крикнула вдогонку сеньорита Монтеро.
Спустя полчаса они мирно сидели за столом, словно во время сеанса не было никаких недоразумений. Сеньорита Монтеро оживленно рассказывала о вчерашнем посещении Театра комедии, Жерар слушал краем уха и пил кофе, рассеянно поглядывая на свои руки, – кожа на пальцах шелушилась от частого употребления растворителя.
– Вам нужно купить крем для смягчения кожи, – заметила сеньорита Монтеро, – иначе у вас будут не руки, а петушиные лапы.
– Ладно, Элен, проживем и с петушиными. Хотите еще кофе?
– Нет, спасибо, я сейчас пойду куда-нибудь закусить. Почему вы не хотите попробовать «Понд С»? Он хорошо смягчает.
– Неохота возиться. Выйдем вместе? Я тоже проголодался.
– Хорошо. Дон Херардо, я хотела вас спросить…
– Перестаньте называть меня доном, сколько раз повторять! В чем дело?
Девушка замялась. Жерар допил свой кофе и отставил чашечку.
– Насчет денег?
– Да… То есть… как вы думаете, Херардо, мы с вами сработаемся?
– Боюсь, что да. Хотите вперед?
– Видите ли, мне сейчас нужно очень много денег, и я думала, если мне предстоит работать у вас еще некоторое время, как вы говорили, может быть, вы смогли бы заплатить мне вперед? Я не сбегу, слово чести!
Жерар улыбнулся:
– От меня не сбежите, даже если бы захотели. Зачем вам столько денег, если не секрет?
– Нет, почему же, просто мне… Я хочу купить шубку, а у меня не хватает.
– Вы окончательно спятили, Элен. Шубку – в феврале?
– Сами вы спятили! Когда же мне ее покупать – зимой, что ли? Тогда они будут стоить в полтора раза дороже. А сейчас Харродс объявил карнавальную распродажу… – Она мечтательно прищурила фиолетовые глаза.
– Теперь понял, – сказал Жерар. – Сколько вам не хватает?
– Много, – вздохнула сеньорита Монтеро, – ровно две тысячи. Вы не думайте, – испуганно спохватилась она, – на такую сумму я не рассчитываю. Просто, если бы вы смогли одолжить мне половину…
– Я вам дам две тысячи, – сказал Жерар, – но с условием, что вы научитесь позировать спокойно и перестанете вертеть теми частями тела, которые меня в данный момент интересуют. Ясно?
Сеньорита Монтеро вспыхнула от радости.
– О Херардо, я буду позировать совсем спокойно, слово чести! Я эти деньги отработаю, не думайте.
Жерар подошел к письменному столу и достал четыре билета по пятьсот песо. В ящике лежало еще несколько смятых сотенных бумажек – все, что осталось от гарантийного аванса.
– Держите, Элен, вот ваши пиастры. Выбирайте шубку потеплее.
– Спасибо, Херардо, огромное спасибо, вы очень любезны!
– Ладно, на завтрашнем сеансе увидите, как я любезен. Попробуйте только шевельнуться. С этого дня между нами устанавливаются рабовладельческие отношения. В случае чего, буду раскладывать и лупить бамбуковой тростью по пяткам.
Сеньорита Монтеро весело рассмеялась.
– Пускай, зато у меня будет шубка!
– Мудрое рассуждение, Элен, – кивнул Жерар. – Вы готовы? Идемте.
Внизу, у выхода из лифта, к Жерару подошел портье.
– Вам письмо, сеньор Бусоньер, – поклонился он, по обыкновению исковеркав фамилию на местный лад, и протянул конверт. – Только что принес рассыльный, я уже собирался подняться.
– Мне? – удивился Жерар. – Спасибо… Вот, возьмите.
– Благодарю вас, сеньор Бусоньер.
– От кого бы это? Прошу прощения, Элен…
Он вскрыл письмо.
– А-а, вот что. Я и забыл. Идемте?
– Что-нибудь важное? – поинтересовалась сеньорита Монтеро.
– Заказчик предупреждает, что завтра заедет взглянуть на ваши прелести. На холсте, Элен, только на холсте… Кстати, завтра по этому поводу сеанса не будет, можете отдыхать.
– Правда? – Сеньорита Монтеро обрадовалась, как школьница, получившая освобождение от уроков. – Вот хорошо, поеду с утра на пляж, на целый день.
– Стоящее дело, – одобрил Жерар. – Где вы думали перекусить?
– Вам нравится пицца? Если да, то здесь недалеко готовят очень вкусную, по-милански. Хотите попробовать?
– Это с маслинами? Конечно хочу, Элен, конечно.
Жерар был сегодня в отличном настроении. В работе над «Вакханкой» наступил какой-то перелом, и теперь он ясно видел, как под его руками даже этот пошлый сюжет превращается в произведение искусства. Сознавать это было приятно. Приятно было чувствовать себя – за кои-то веки! – свободным от унизительного безденежья, от необходимости высчитывать каждый сантим. Приятно было идти по залитой солнцем шумной авеню Кальяо рядом с красивой, хорошо сложенной и элегантной девушкой, на которую оглядываются прохожие, – с этой райской птичкой, которая не умеет позировать. Приятно было и то, что он этой непоседливой птице доставил радость своим подарком, что он вообще может теперь доставлять кому-то радость.
В маленькой закусочной они сели за угловой столик, под вентилятором. Маленький шустрый итальянец принял заказ, для верности переспрашивая каждое слово и за каждым словом успокоительно повторяя с неаполитанской жестикуляцией: «Como no, signorina, como no, signor!» Через пять минут он бегом принес на деревянном кружке пиццу – большую толстую лепешку, залитую растопленным сыром и томатным соусом и сверху украшенную кусочками помидора, анчоусами и маслинами.
– Не забудьте пиво и кока-кола, – напомнил Жерар, – только похолоднее, пожалуйста.
– Como no, signor, como no, – закивал итальянец, молниеносно разрезая горячую пиццу на дольки.
– Нравится? – спросила сеньорита Монтеро, уписывая за обе щеки.
– Язык проглотишь. Ее что, полагается есть руками?
– Угу, так приятнее… Я еще когда в колледже училась, обычно забегала сюда после уроков.
– Какой колледж вы окончили? – поинтересовался Жерар, наливая себе пива.
– А никакого. Пришлось бросить: не было денег.
– Печально. Кстати, Элен, сколько вам лет?
– Не очень-то приличный вопрос, но вообще мне двадцать. Вы что, не любите кока-кола?
– Нет. Скажите, а вам не хотелось бы получить образование?
Элен изумленно глянула на него поверх своего стакана:
– Образование? Чего ради, Херардо?
– Ну, хотя бы ради того, чтобы приобрести специальность. Могли бы поступить куда-нибудь в бюро…
– И просиживать юбку за пятьсот билетов в месяц? – Сеньорита Монтеро сделала насмешливую гримаску. – Благодарю покорно!
Тон, каким это было сказано, заставил Жерара поморщиться.
– Предпочитаете, значит, работать вообще без юбки, – грубо сказал он. – Что ж, дело вкуса.
Сеньорита Монтеро быстро поставила на стол недопитый стакан; даже под косметикой было видно, как краска заливает ее лицо.
– При чем тут «вкус», каждый устраивается как может, – пробормотала она, не глядя на Жерара, и вдруг спросила с вызовом: – Вы думаете, мне самой очень это приятно? Конечно, вам легко судить – богатые всегда считают, что…
Голос ее прервался. Жерар тыльной стороной кисти – пальцы были в масле – примирительно погладил руку девушки.
– Вы меня не так поняли, Элен, – улыбнулся он, – я далек от мысли вас упрекать, просто мне стало вдруг обидно за вас. Я именно могу представить себе, как смотрят на вас те, другие, поэтому мне и стало за вас обидно. А насчет моего богатства я вам когда-нибудь расскажу поподробнее, если мы с вами останемся друзьями. Мы ведь ими останемся, верно?
Сеньорита Монтеро закивала головой.
– Ну вот и отлично. А теперь выпьем за нашу дружбу. Вы что пьете? Вермут? Мосо! – окликнул он пробегавшего мимо итальянца. – Два вермута, пожалуйста.
– Два? – переспросил тот, для пущей наглядности показав два пальца. – Como no, signor!
– Потешный парень, – улыбнулся Жерар. – Вообще у меня слабость к итальянцам – вот у кого учиться жизнерадостности! Правда, воевали они плохо. Приблизительно как мы в сороковом.
– Правильно делали, – сказала Беба, – если бы все плохо воевали, не было бы никаких войн. А что, Херардо, в Корее еще дерутся?
– Кажется, да. А вот и наш вермут. Ну, Беба, за дружбу?
– За дружбу. Постойте, согните левый мизинец, вот так. У нас такой обычай.
Они выпили, зацепившись мизинцем за мизинец, – на вечную дружбу.
– Теперь мы друзья, – засмеялась Беба, – даже можем быть на «ты».
– В самом деле? Тем лучше, я этих церемоний не люблю. Эй, ты! – подмигнул Жерар, состроив хулиганскую рожу.
Беба опять заразительно засмеялась.
– Ну, будем доедать нашу пиццу, она уже совсем остыла.
– Я не хочу больше. Херардо, а что там, в этой Корее? Из-за чего они подрались?
– Понятия не имею, – пробормотал Жерар с набитым ртом. – Там вообще сам дьявол ничего не разберет… кто-то кого-то освобождает.
– В Линьерсе, где я живу, в прошлом году был митинг. Прошли слухи, будто наши хотят послать в Корею один батальон, так коммунисты устроили митинг. Такая драка была, полиция их разгоняла, прямо ужас. У нас там все стены исписаны: «Янки, вон из Кореи!»
– Значит, там тоже янки?
– Ты лучше скажи, где их нет!
Беба тщательно вытерла пальцы бумажной салфеткой и допила свой кока-кола.
– Мне янки не нравятся, – сказала она, сделав гримаску, – фильмы у них хорошие, особенно если про ковбоев, и музыка хорошая, а сами они противные. – Она взглянула на часики и ахнула: – Санта Мария, без десяти два! Херардо, я лечу. Так завтра не приходить?
– Завтра можешь позировать на пляже. Ну, счастливо.
– До послезавтра, Херардо. И еще раз спасибо за это! – уже отойдя от столика, она показала Жерару сумочку и, сделав на прощанье ручкой, выбежала на улицу.
Жерар усмехнулся, вылил в стакан остаток пива из бутылки и стал медленно набивать трубку, щурясь на висящую напротив рекламу ликеров «Болс» – голландец в национальном костюме и ветряные мельницы. Следуя бессознательным путем ассоциаций, его мысли скользнули на голландскую живопись, на рубенсовских женщин, на старого греховодника Руффо, на «Вакханку». Что хорошо – то хорошо, это будет вещь. Он откинулся назад в затрещавшем плетеном кресле и сладко потянулся, сцепив пальцы на затылке, охваченный радостным ощущением творческой удачи и яростной жажды работать – работать без отдыха, до изнеможения.

