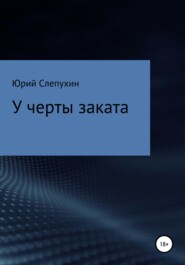
Полная версия:
У черты заката

Юрий Слепухин
У черты заката
Часть первая
Мы живем в двадцатом столетии
1
Последний посетитель ушел в четверть десятого; с полчаса салон пустовал, потом появилась молодая пара. Не задерживаясь, они торопливо прошлись вдоль развешанных по стенам холстов и направились к выходу, негромко болтая и пересмеиваясь.
Человек, сидящий на диванчике в углу салона, поднял голову и устало прищурился вслед ушедшим. На больших часах над выходом обе стрелки сошлись на десяти. Да, посетителей больше не будет.
Служитель в серой ливрее вышел из боковой двери и начал выключать софиты. Человек медленно поднялся с дивана. Конечно, не надо было связываться с этой затеей. На деньги, которые уплачены за помещение, он вполне мог бы прожить пару месяцев, если не больше. А теперь? Впрочем, не исключена еще возможность, что завтра что-нибудь купят. Маклеры обычно покупают в последний день выставки, когда художник более сговорчив. Хотя и это маловероятно.
Развешанные вокруг картины – его собственные картины, которые никто не хочет покупать, – вызывали жалость и отвращение. Опустив голову, чтоб их не видеть, он медленно побрел к выходу.
Человек стоял на углу, сцепив за спиной пальцы, и попыхивал трубкой, морщась от горечи дешевого табака. Сотни автомобилей катились мимо непрерывным сверкающим потоком, в глазах рябило от разноцветных вспышек рекламного электричества, из соседнего бара доносились обрывки танцевальной музыки. Шумливая южная толпа, праздная и беззаботная в этот субботний вечер, теснилась вокруг, и в этой толпе он был одинок – словно отделенный от всех невидимой, но непроницаемой стеной. Да хоть застрелись он сейчас здесь – в самом центре Буэнос-Айреса, на углу Флориды и Коррьентес, – его смерть никого не заинтересует, разве что какого-нибудь безработного репортера…
Трубка погасла, он выколотил ее о каблук и принялся снова набивать табачной трухой со дна кисета. Декабрьская ночь была душной, стены домов и рифленые плитки тротуара щедро отдавали накопленный за день зной. Все казалось бредовым – и эта жара за две недели до Нового года, и воткнутая в черное небо белая, словно раскаленная прожекторной подсветкой, огромная игла Обелиска, и – главное – то, что он сам, Жерар Бюиссонье, стоит сейчас здесь, на этой опутанной неоновым серпантином улице, за тысячи миль от ближайшего французского порта.
Франция, Париж… Облетевшие каштаны и острые шиферные крыши, лабиринт узких горбатых переулков Монмартра, гул зимнего ветра в мостовых пролетах, медленное движение барж, тысячелетние камни и воздух, этот неповторимый воздух Парижа… Зачем только он оттуда уехал, зачем отправился искать признания на чужбине? Как можно было думать, что тебя поймут и оценят чужеземцы – после того, как не поняли соотечественники…
– Что ж, не ты первый, не ты последний, – пробормотал он вслух, зажигая спичку. – Утешайся хоть этим…
Человек стоял, сутуло опустив плечи, в понурой позе усталого мастерового. Но это не была радостная усталость после работы, и она пришла не сегодня и не вчера; уже несколько месяцев, ложась ли спать, просыпаясь ли, он чувствовал себя одинаково усталым – хронически усталым от этой собачьей жизни, от вечного безденежья, от несокрушимого равнодушия публики. И от сомнений, бороться с которыми становится все труднее.
Мы живем в первое десятилетие атомной эры, на переломе самого грозного века человеческой истории. Пятьдесят миллионов убитых в последней войне, Орадур, Дахау, Дрезден и Хиросима; может быть, после всего этого действительно нельзя продолжать жить так, как пытался жить он – этаким новым Ван-Гогом, – не знать ничего, кроме работы, скитаться по стране с этюдником, вновь и вновь открывая для себя, чтобы запечатлеть на холсте, сказочную прелесть волнующейся степной травы и высоких полуденных облаков над равниной Камарги, радужные брызги прибоя, дробящегося о бретонские скалы, сонные заводи на Луаре, бесчисленные оттенки листвы виноградников Шампани… Может быть, это и в самом деле уже никому не нужно? Маршаны, правда, брались выставлять его холсты, похваливали колорит и композицию, но всякий раз при этом давали понять, что рассчитывать особенно не на что. «Вы понимаете, дорогой метр, пейзаж – это сейчас не очень…»
Жанровые вещи, написанные на исторические сюжеты, тоже не имели успеха, хотя «Отъезд из Вокулёра» и удостоился, правда, нескольких благосклонных отзывов печати. Ему самому, всегда относившемуся к своим полотнам с придирчивой требовательностью, «Отъезд» нравился даже сейчас, спустя одиннадцать лет. Да, нравился ему, автору, но не публике. И неизвестно – кого же, наконец, следует отнести к категории ослов: публику или его самого, Жерара Бюиссонье?
Очевидно, приходится признать, что осел – это именно он. И что Дезире была тысячу раз права, когда заявила ему о своем нежелании продолжать игру в романтику и голодать к вящей славе искусства…
Во рту стало горько от попавшего на язык табачного сока. Бюиссонье сплюнул, развинтил и продул трубку, привычным движением пальца умял табак. Да, так она ему и сказала, именно такими словами, в позапрошлом году на Кот д'Азюр. Поездка в Жюан-ле-Пен, на которую ушли их последние сбережения, была ее затеей, сам он никогда не любил модных курортов…
– Если не ошибаюсь, сеньор Бюиссонье? – раздался за его спиной незнакомый голос, произнесший испанские слова с сильным иностранным акцентом.
Вздрогнув от неожиданности, он обернулся и увидел перед собой незнакомца – крепкого, небольшого роста, в свободного покроя светлом костюме и сдвинутой на затылок панаме.
– Не ошибаетесь, – с некоторым недоумением ответил Бюиссонье. – Чем могу служить?
Незнакомец добродушно улыбнулся:
– О, я просто увидел и взял смелость подойти! Я вчера… как это… имел быть в «Галериа Веласкес», на ваша экспозиция. Мое имя есть Брэдли, Аллан Райбэрн Брэдли.
– Очень приятно… Бюиссонье пожал протянутую руку, та вцепилась энергично, с деловой хваткой. – Если вам удобнее, мы можем говорить по-английски.
– Неужто умеете? – обрадовался тот. – Тем лучше, будь я негр, не придется выламывать язык. Послушайте, мистер, вы сейчас свободны? Я бы предложил зайти пропустить по глотку – суббота ведь, в такой вечер грех не дать себе разрядку. Как вы на это смотрите?
Жерар ответил не сразу. Пить с незнакомыми он не любил, а тем более пить на чужой счет и не иметь возможности ответить встречным угощением.
– Спасибо, но я… сегодня меня не особенно тянет на выпивку, честно говоря…
– Бросьте, мистер! – Брэдли ободряюще потрепал его по локтю. – Бросьте, говорю, аппетит приходит во время еды. Впрочем, может, вы нацелились подцепить девочку? Нет? Тогда пошли! Пошли, что вам еще делать – вот так одному и торчать на улице?
«Резонный вопрос», – подумал Жерар. Или торчать одному на улице, или возвращаться в обшарпанную меблирашку в Барракас – сорок минут трястись в трамвае, а потом пробираться плохо освещенным переулком, мимо выставленных на тротуар зловонных мусорных баков. И если вернуться раньше полуночи, то есть риск встретиться с хозяйкой, которой не уплачено за два месяца.
– Идемте, – согласился он. – Вечер у меня и в самом деле не занят.
– …Вот пить вы, европейцы, определенно не умеете. Нет, я имею в виду настоящие мужские напитки. Куда это годится – сидеть вот так над бутылкой кислятины! Все равно что заниматься созерцанием собственного пупа. Как в Индии, знаете? Есть у них там такие, сидит целый день и созерцает. Поэтому-то вас и сшибли с арены – по недостатку динамизма. Мы в Штатах подходим к этому делу иначе. Время – деньги, верно? Значит, если мне нужно дать себе встряску, я что делаю? Быстро хлопаю стаканчик-другой – вот так, на два пальца бурбону, а сверху сода. И через десять минут душа у меня уже ликует. А пить вино – чистая потеря времени, и потом это ведь страшно негигиеничный продукт. Ведь его как делают? Ногами. Ногами, будь я негр! Сам видел во Франции: фермеры лезут прямо в чан с виноградом и топчут его ногами. А ноги-то небось и не мыты, э? Тогда как вот это… – Брэдли протянул руку и пощелкал по горлышку бутылки, – это виски вырабатывается с соблюдением всех правил гигиены, можете мне поверить. Это я тоже видел, как его дистиллируют. Чистота неописуемая! Рабочие в белых халатах, все кругом блестит, трубопроводы из нержавеющей стали – ну просто операционная… Нет, что бы вы ни говорили, а виски – штука гениальная, не хуже водородной бомбы. Главное – действует быстро и безотказно. Вот коктейли эти всякие – это уже ерунда, питье для школьниц. Знаете, когда коктейль бывает полезен? Вот если вам нужно в темпе обработать даму, тогда рецепт простой: два «хайболла», одна пластинка танцевальной музыки, и дело сделано. Э? Признайтесь, что вы в Европе до этой техники еще не дошли. Ведь верно?
– Ну как сказать. – Жерар усмехнулся. – Ваше лестное мнение о Европе, боюсь, несколько устарело.
– Да знаю я ее! В сорок пятом – в Германии и Италии – мы, понятно, обходились без музыки. Достаточно было показать банку корнед-бифа. Но тогда была особая ситуация – разруха, голод, сами знаете… Нет, я сейчас говорю о подходе к этим делам вообще. Европейцу, чтобы затащить девчонку к себе в постель, требуется еще целая чертова куча всяких атрибутов – серебряная луна, чувства, охи, ахи… На кой дьявол все это во второй половине двадцатого века? Просто смешно – вдруг требуется какая-то луна. При чем тут луна? Да по мне – провались она в преисподнюю… В конце концов, что мне нужно – луна или девчонка? Согласитесь сами!
Залпом опорожнив свой стакан, он снова долил его до половины и выбросил из кармана на стол пачку сигарет.
Оркестр заиграл французское танго, медленное и печальное. Несколько пар покачивалось на маленькой танцевальной площадке, освещенной цветными рефлекторами. Бюиссонье сидел прикрыв глаза, мундштуком трубки отстукивая ритм на подлокотнике. Брэдли молча курил и наблюдал за танцующими, потом вдруг снова пришел в возбуждение и ухватил художника за рукав.
– Смотрите, смотрите, – зашептал он громко, – видите ту, в синем? Вот та, что танцует с усатым, – видите? Что скажете, а?
– Да-а, – протянул Жерар, посмотрев на указанную пару. – Действительно, оригинальное лицо… помните боттичеллевскую Афродиту?
– Идите вы со своим Боттичелли, – отмахнулся Брэдли, – я говорю не про лицо, вы лучше обратите внимание на ее фигуру. Здорово, а? Не тело, а миллион долларов, будь я трижды негр. Чем мне нравится современная мода – это тем, что она – в отличие от всех прежних – раздевает женщину, вместо того чтобы ее одевать. В самом деле, эта девчонка в синем, разве она одета? С таким же успехом могла прийти танцевать в купальном костюме… или вообще без ничего. Молодец она, просто молодец… А у вас, кстати, на одной картине неплохая изображена дамочка…
– У меня?
– Да, там еще билетик был – «продано». Красивая такая блондинка, в длинном платье. Видная женщина.
– А, Изольда. – Жерар улыбнулся: Брэдли начинал забавлять его своей непосредственностью. – Единственный холст, на который нашелся покупатель. Так вам, говорите, она понравилась?
– Да, в моем вкусе. Не люблю, понимаете, этих современных… не знаю даже как их назвать. Женщина должна выглядеть женщиной, какого дьявола. Только вы позволите одно замечание?
– Сколько угодно.
– А то ведь ваш брат бывает обидчив. Так вот: мне думается, парня в гробу вы туда присобачили напрасно. Публика, Бусс, таких штук не любит. Мрачное напоминание – улавливаете мою мысль? Даже странно, что эту картину купили. Мексиканец какой-нибудь, не иначе.
– Почему мексиканец? – удивился Жерар.
– А они, сукины дети, такое обожают. Не приходилось бывать в Мексике? Там у детей любимая игрушка – скелетик на веревочке. Дергаешь, а он пляшет. Представляете? Я раз зашел в кондитерскую на Пасео де Реформа, спросил кофе с пирожными. Знаете, что мне принесли? Шоколадные гробики, будь я негр! Меня чуть не стошнило. Просто некрофилия какая-то, причем поголовно. У нас в Штатах, скажем, эту вашу картину никогда бы не купили. Нет, в самом деле, чего это вам вздумалось изобразить покойника?
– Вы «Тристана и Изольду» помните? Он ведь ее не дождался. Она приехала, а он уже мертв. Вот эту сцену я и написал.
– А-а, ну тогда конечно, – согласился Брэдли. – Нет, я про эту парочку не читал. Нет, понимаете, времени – слишком я для этого занят. А выдастся свободный день – тянет на выпивку или на что-нибудь вообще такое… – Брэдли вздохнул и отпил глоток. – Никогда не занимайтесь бизнесом, Бусс, послушайте опытного человека. Бизнес выжимает человека, как апельсин, это самая каторжная работа, будь я негр! Это только со стороны кажется, что бизнесмены живут и наслаждаются жизнью… Понятно, есть и такие – ежедневный гольф, прогулки в Европу, женщины и так далее, но это не настоящие дельцы, это, скорее, просто снобы, которые не делают деньги, а тратят их. Знаете, как живет настоящий бизнесмен? Он ни шиша не знает – ни девчонок, ни хорошей выпивки, никаких там парижей или неаполей. Он работает по восемнадцать часов в сутки, как самый последний черномазый сукин сын, и не видит ничего, кроме своих секретарей и своих телефонов. У него полно долларов, но он даже не может хорошо пожрать, потому что к сорока годам у него уже язва желудка и врачи разрешают ему одну овсянку…
– В самом деле, каторга, – кивнул Жерар, рассеянно наблюдая за танцующими. – Впрочем, вы, Брэдли, не производите впечатления выжатого апельсина. А?
Брэдли пожал плечами.
– Я не веду крупных дел, Бусс. Я представляю некоторые фирмы, но… скорее как служащий, как агент на процентах… а самостоятельных дел я не веду. Поэтому у меня больше свободы, больше возможностей располагать собой. Да и то… Я вам говорю – почитать некогда! Вообще паршиво. Вам, людям свободной профессии, можно только завидовать. Давайте-ка выпьем за людей искусства.
– Мерси.
Они выпили и некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. Потом Брэдли нарушил молчание, внезапно рассмеявшись:
– Это я вспомнил о «людях искусства»… У меня есть в Штатах приятель, киношник, работает для «Уорнер Бразерз». Вот где обстановочка! Пьют они все, как сукины дети. Этот мой приятель летал в прошлом году на кинофестиваль в Монтевидео – вот, рассказывает, была потеха…
– Это всюду так, более или менее, – зевнул Жерар. – Я, правда, близко с этим народом не общался, но слышать приходилось. Во Франции на киностудиях тоже черт знает что делается.
– Да, эти умеют сочетать приятное с полезным, – посмеялся Брэдли. – И деньги делают, и веселятся в то же время. Но, надо сказать, работать наши ребята умеют, не даром получают свои доллары. Вам вообще наши фильмы нравятся?
– Признаться, не особенно.
– Серьезно? Ну, это вы напрасно. Правда, многие жалуются, что у нас фильмы пресные… Но это уж цензура виновата. Вы знаете, у нас на этот счет строго: если артистка снимается в купальном костюме, то он должен быть строго по регламенту. Цензоры тут как тут: чуть на полдюйма короче, сразу тебе хлоп вето – и в преисподнюю. Эти цензоры страшный народ, прямо коммунисты какие-то… Послушайте, Бусс, когда закрывается ваша выставка?
– Завтра.
– О, уже? Отлично… Давайте-ка встретимся с вами послезавтра вечером, у меня будет к вам деловой разговор. Заходите лучше ко мне на дом, там поговорим без помех. Я живу на Санта-Фе, почти на углу Кальяо. Вот, возьмите карточку… Это девятый этаж, квартира «Е»…
2
День спустя, в половине одиннадцатого вечера, Жерар вошел в подъезд нового многоэтажного дома на авеню Санта-Фе. Уже в нижнем вестибюле обстановка непривычной роскоши вызвала у него раздражение. Скрытые в карнизах люминесцентные трубки мягко освещали большой холл, сплошная зеркальная стена еще больше усиливала эффект пространства, под ней, в узком мраморном желобе, росли причудливой формы декоративные кактусы. После уличной бензиновой духоты особенно приятной казалась прохладная свежесть кондиционированного воздуха. Жерар мельком взглянул в зеркало, пригладил волосы и, еще раз сверившись с адресом в записной книжке, пошел к лифту.
Бесшумно задвинулась лакированная дверь кабинки, пол плавно нажал на подошвы. Жерар стоял ссутулясь, держа руки в карманах пиджака, и исподлобья смотрел на вспыхивающие над дверью цифры. Он уже ругал себя за то, что принял приглашение Брэдли и явился в этот дом, где все било в глаза показной роскошью. На кой черт ему все это сдалось, в самом деле?.. Мало он еще видел богатых кретинов! А впрочем, кто знает, что он ему предложит… Седьмой… Если он хочет что-нибудь купить… Восьмой, следующий, кажется, его. Одним словом, посмотрим.
Вспыхнула девятка – лифт так же плавно замедлил ход и остановился. Дверь мягко щелкнула и откатилась. Выйдя, Жерар решительным шагом направился к двери, на которой блестела золоченая буква «Е».
Брэдли, одетый по-домашнему, в пестрой гавайской распашонке, встретил его радушно.
– А-а, Бусс! – воскликнул он. – Как поживаете, старина? Ну и отлично, проходите в ливинг1, я сейчас похлопочу насчет пойла… Вы знаете, кто-то вылакал у меня весь коньяк, так что если вы не против коктейлей… я сейчас, один момент…
Жерар опустился в низкое кресло и принялся набивать трубку, с любопытством оглядываясь вокруг. Маленькая гостиная была обставлена с тем стандартным комфортом, который свидетельствует только о богатстве, ничего не говоря о вкусах хозяина. Выдержанная в стиле «функциональ» низкая мебель, обитая модной тканью пестрого геометрического рисунка, в углу – большой телевизор с никелированными усиками антенны. На стенах, окрашенных в приятный для глаз бледно-зеленый цвет, – несколько акварелей среднего качества, морские и горные пейзажи. Низкий длинный стеллаж был пуст, если не считать десятка книжек карманного формата в ярких глянцевитых обложках и номера «Лайфа»; на верхней доске валялась кожура апельсина и стоял великолепный «Зенит-Трансконтиненталь» в обтянутом черной кожей футляре. Шкала приемника светилась, но регулятор громкости был прикручен – очевидно, Брэдли слушал музыку до прихода гостя. Раскуривая трубку, Жерар еще раз выругал себя за то, что не отказался от приглашения.
Вошел хозяин с нагруженным подносом в руках. Ногой придвинув к креслу Жерара низкий столик неправильной овальной формы, он расставил на нем бутылки, шекер для сбивания коктейлей и пластмассовую мисочку со льдом.
– Ну, кажется, все в порядке, – заявил он, швырнув поднос на диван. – Жарко на улице?
– Духота, – поморщился Жерар. – Проклятый климат, никак к нему не привыкну.
– Давно в Аргентине? – поинтересовался Брэдли, придвигая для себя второе кресло.
– Третий год.
– Испанским овладеть успели?
– Вполне… Для французов он легок – те же корни,
– Ясно. А мне вот трудно. У вас, наверное, вдобавок ко всему еще и способности к языкам. Английский где учили?
– В школе, где же еще. А потом – практика во время войны… У нас в отряде был один англичанин, мы с ним друг друга и натаскивали. Сам-то он был филолог, интересовался французским.
– Понятно. Ну, а как вам вообще Аргентина?
Жерар сделал неопределенный жест:
– Страна неплохая, если не считать климата…
– Вы правы, климат здесь паскудный, без кондиционированного воздуха не проживешь.
– Проживешь, и еще как. – Жерар усмехнулся. – У меня комнатка под самой крышей – в январе прошлого года по ночам бывало до тридцати градусов, я специально купил термометр. Как видите, еще жив!
Брэдли сочувственно хмыкнул, покачал головой,
– Ничего, это были временные неприятности, – сказал он. – С кем не бывает… Давайте-ка выпьем за ваш успех.
Отложив сигарету, он принялся манипулировать бутылками, с аптекарской точностью отмеривая в шекер разноцветные жидкости.
– Угощу вас собственным изобретением. – Он подмигнул и, закрыв сосуд, стал трясти, перемешивая содержимое. – Я вообще коктейли не очень… Предпочитаю чистое… Но иногда занятно придумать что-нибудь новенькое. Так выставка ваша, значит, закрылась уже… Ясно, ясно. Вы, помнится, говорили, что «Изольду» удалось продать… За сколько, если не секрет?
Жерар, занятый раскуриванием снова погасшей трубки, молча показал два пальца, пошевелил ими в воздухе.
– Две тысячи песо? Немного… Совсем немного! Вон, возьмите-ка «Лайф» – на полке, рядом с вами. Там репродукция одной картины, называется «Голубое молчание», – продана в
Нью-Йорке за полторы тысячи долларов… Тоже с персональной выставки, как и ваша. Долларов, Бусс, понимаете? Вот посчитайте – курс сегодня был двадцать три… Двадцать три плюс одиннадцать пятьсот… Это составляет почти тридцать пять тысяч песо. В семнадцать раз дороже вашей!
Жерар потянулся к стеллажу, взял «Лайф» и, хмурясь, нашел указанную страницу с репродукцией «Голубого молчания». Прочитав сопроводительный текст, он несколько секунд рассматривал картину, потом перевернул журнал вверх ногами, еще посмотрел и пожал плечами.
– Не ново, – сказал он, бросив «Лайф» на место. – Видал я вещи и позаковыристее.
Это верно, – согласился Брэдли, разливая по стаканам жидкость неопределенного цвета. – Берите, лед добавьте по вкусу… Это верно, есть и позаковыристее. Здесь вообще ничего не разберешь, так что и пугаться нечего, а я вот в прошлом году в Европе был на одной выставке, этих – как они? – суперреалисты, что ли…
– Сюрреалисты,
– Именно. Так там меня, знаете, до холодного пота прошибло, будь я негр. Ваше здоровье, Бусс.
– Мерси, – кивнул Жерар. – Взаимно.
– Знаете, что там было? Например, так: нарисована серая такая плоскость, вроде бетонированной взлетной дорожки, и стоит пара человеческих ступней. Понимаете? Так, приблизительно по щиколотку. И внизу – настоящая ступня: пятка, пальцы, на одном даже мозоль, а выше точно как ботинки – дырочки для шнурков, шнурки развязаны, болтаются, коричневого цвета, как сейчас помню, и внутри пусто. Ну просто стоят на аэродроме чьи-то ботинки, понимаете? И знаете, что самое страшное? Над всей этой чертовщиной – синее-синее небо, в зените – солнце в состоянии полного затмения, просто темный диск и корона, а от этих проклятых ступней-ботинок – тень на две стороны, вправо и влево…
– Я что-то про эту картину слышал… – пробормотал Жерар.
– Вы знаете, я человек не из пугливых, – продолжал Брэдли, – но тут мне просто не по себе как-то стало. Я даже не знаю, как это назвать, такое чувство… Ну, представьте, ночью в темной комнате в вашем присутствии кто-то бредит… Причем страшно бредит, бред ведь бывает и нестрашный. Так вот что-то похожее я испытал перед этой картиной. Ну вот вы мне скажите, Бусс, как это понимать? Я вам скажу прямо: в искусстве я ни черта не смыслю. Но вы-то должны знать. Что это, вот такие картины, – всерьез это или просто так, чтобы деньги из дураков выжимать?
Жерар неопределенно пожал плечами, вертя в пальцах стакан.
– Сложный вопрос, Брэдли, однозначно тут не ответишь… Художник отражает мир таким, как он его видит. Как правило, это всерьез. Другое дело, что… видение мира может быть искаженным, болезненным…
– Вы-то его видите нормальным?
– Я – да. Но опять-таки – нормальным с моей точки зрения, а является ли это нормой для других?.. Кто знает?
Он снова пожал плечами и, криво усмехнувшись, отпил из стакана,
– Возможно, и не является, – продолжал он, – коль скоро публика предпочитает другое. Понимаете, Брэдли… Сколько бы мы ни утешали себя тем, что современники чаще всего ошибаются в своих оценках, все же первая, спонтанная реакция публики кое-что значит…
Брэдли слушал молча, подкидывая на ладони зажигалку.
– Публика… – сказал он задумчиво. – Наверное, не стоит валить всю публику в одну кучу… Там ведь тоже попадаются разные типы. Одни любят современных живописцев, с выкрутасами, а другие… Да и это увлечение модернизмом, должен вам сказать, не очень-то меня убеждает. Это, скорее, погоня за модой. Модно – значит, хорошо. В картинах, если говорить всерьез, непричастные к искусству люди обычно не разбираются… Вот и покупают то, что покупают все. Понятно, есть и другие… У меня вот, знаете, здесь много знакомых. В деловом мире, конечно. Очень богатые люди – по-настоящему богатые, даже в американских масштабах… Ну, у них тоже висит все это модное дерьмо – но где висит? На виду, понимаете? Где люди бывают. Это как вывеска. А на самом деле они, конечно, прекрасно понимают, что все это цента ломаного не стоит. Взять хотя бы старика Руффо – знаете небось, кожевенный король? У него еще здоровенная такая реклама на крыше Эдифисио Вольта, неоновая: «Кожи Руффо – лучшие в мире»…
– Ну, видал. Так что?
– Просто вспомнил, – усмехнулся Брэдли. – У него одна из лучших коллекций Сальвадора Дейли.
– Дали, – хмуро поправил Жерар.
– Ладно, пускай так, вы вообще на мое произношение плюньте, я оксфордов не кончал. Так я говорю, у него коллекция одна из лучших, и все подлинники. А сам старик мне жаловался: я, говорит, когда мимо прохожу, глаза зажмуриваю… Погодите-ка, что-то наши стаканы пустуют…

