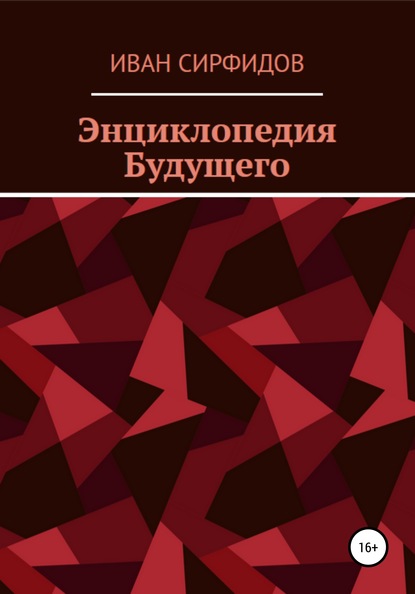 Полная версия
Полная версияЭнциклопедия будущего
Криминальных роботов часто именуют сателлитами. Не всех, не всегда, нередко более в силу неких местных жаргонных традиций, чем в соответствии с технической терминологической логикой, тем не менее данная тенденция определённо носит массовый характер. Как известно, сателлитами принято называть самодвижущиеся системы, принадлежащие некоему материнскому объекту, за которым они следуют и от которого получают управляющие распоряжения. Например если у робота-уборщика есть в подчинении несколько других более мелких собратьев, используемых им для чистки труднодоступных мест, это его сателлиты. Если у полицейского есть робот прикрытия, неотступно сопровождающий его и защищающий при возникновении опасных ситуаций – это тоже сателлит. В армии роботы не сопровождают солдат, а попросту воюют вместо них, сами же солдаты мудро отсиживаются вдали от зоны боевых действий, однако когда-то было иначе, посему исторически сложилось, что и в армии всю робототехническую пехоту именуют сателлитами, или, в сокращённом варианте, сатами. Считается, привычка относить криминальные кибер механизмы к сателлитам заимствована непосредственно у военных. Многие преступники прошли армейскую школу и первый опыт обращения с робототехникой получили именно там. Боевой и криминальный роботы в общем случае имеют мало сходства, однако что касается их интеллектуальной подготовки и доводки, методологии обучения и тренировочной работы, тут всё практически один в один. Заметим, бывают и безусловно классифицируемые сателлитами криминальные роботы. Во-первых, это те из них, кто служит лишь для поддержки некоего основного робота, приданы ему в качестве вспомогательных спутников. Ну и во-вторых, те что предназначены для сопровождения и поддержки человека. Люди редко совершают преступления собственными руками, но если всё же отваживаются на столь рискованное дело, должным образом обученный умелый сателлит несомненно увеличивает их шансы на успех.
Самыми простыми и в то же время самыми изощрёнными мы бы назвали криминальных роботов, заточенных для убийств. Очень часто это одноразовые машины, предназначенные для единичного использования. Они обычно мелкие и невооружённые, более всего входу насекомоподобные разновидности, предпочитающие забраться в рот жертве, когда та спит, и учинить расправу над её жизненно важными органами. Ужаснее всего, что это весьма болезненная смерть сродни пытке. Выполненный в виде жука или многоножки механизм мощными челюстями быстро прокладывает себе путь из пищевода к сердцу. Или проникает в мозг. А если цель преступника – месть, может и не слишком быстро. Бывают киберубийцы и иного класса. Например, похожие на кошку, так что на глаз и не отличишь. Только эта «кошка» имеет мощные когти-ножи из супер сплава и особо прочное тело. Прыгнет на вас и искромсает до смерти в считанные мгновенья, и без спецсредств нейтрализовать её крайне сложно. В чести у киллеров водные роботы, в точности повторяющие обликом ядовитых рыб или медуз. Люди любят проводить время на пляжах, купаться в море, кибернетическая тварь подплывёт к купающемуся незаметно, оставит след от укуса, будто действительно живое существо, и после просто уплывёт, причём даже если укушенный не умрёт от яда, не потеряет сознание и не утонет, он всё равно не станет свидетелем, не поймёт, что это было покушение. Но самыми продвинутыми тех. средствами для умерщвления в преступном мире считаются микро-роботы. Размером менее блохи. Их незаметно подсаживают на одежду жертвы, они дожидаются ночи, тоже забираются в рот, и либо отравляют сильнодействующим веществом, либо умеют находить и повреждать важные сосуды и нервы, либо проникают в мозг и нарушают его работу. Ну и ещё есть диверсионные GM-животные. Они конечно не роботы, и даже не классифицируются как биороботы, однако по сути в криминальном применении близки к последним. Их можно рассматривать в качестве рукотворных приспособлений. В теории они дёшевы (потому что их разводят, выращивают из личинок), при этом эффективность их весьма высока. Подлетит к вам с виду обычная муха и вдруг ужалит сильнейшим ядом. Сенсорная система насекомого позволяет находить устраняемое лицо за сотни метров, а то и за километры. Достаточно приучить «муху» к запаху конкретного человека и выпустить рядом с местом, где тот регулярно появляется, и велика вероятность, что через часы или дни муха сделает своё дело. Хотя результат тут всё же не гарантирован – насекомое элементарно может кто-нибудь раздавить или слопать какая-нибудь пичужка. Добавим, что имперские спецслужбы очень ревностно относятся именно к диверсионной живности для убийств. Максимально стараются не допустить её распространения. Посему на практике в уголовной среде она относительная редкость несмотря на всю простоту разведения. Ведь чтобы разводить, для начала нужно откуда-то заполучить матку или экземпляр для клонирования. Подробней о диверсионных GM-животных см. в разделе о GM-животных.
Интуитивный сговор
Интуитивный сговор – это лебединая песня коррупции и криминала. Изобретён он был в далёкой древности, ещё в электрическую эпоху, и процветает до сих пор, лишь набирая обороты. Единственная разница, в древности он использовался чисто по наитию, у него не было никакого определения, он не существовал как понятие, только гораздо позже в рамках борьбы с ним было сформулировано, что он такое, дабы заставить практикующих его чётко осознавать факт своего вступления в сговор, благодаря чему их можно было бы выявлять посредством ДП. Интуитивный сговор – это скрытые дружественные или взаимовыгодные отношения двух субъектов, предполагающие полное отсутствие каких-либо договорённостей между ними, т.е. когда цели, форма и характер взаимодействия определяются, формируются и выстраиваются лишь на основе предположений о потребностях противоположной стороны и её готовности сотрудничать подобным образом. Простой пример: представьте игру, в которой есть один сильный игрок и много слабых, сильный устанавливает правила, но не озвучивает их, потому что они не слишком честны, при этом он не действует чрезмерно жёстко только против тех соперников, кому хватает ума догадаться, что его правила есть и в чём они заключены, и строго придерживаться их. Для пущих гарантий безопасности догадливые игроки должны постоянно доказывать ему свою лояльность, например громко и открыто признавая при каждой возможности его кристальную честность, и столь же громогласно понося и обвиняя во всех грехах тех, кто утверждает иное. Так они фактически поступают ему на службу, прислуживают его интересам, но никаких договорённостей между ним и ими и близко нет, просто они достаточно мудры, беспринципны и трусливы, чтобы следовать в фарватере его воли, в надежде получать от него подачки и не навлекать на себя его гнев. Это один из наиболее характерных и известных видов интуитивных взаимоотношений, когда вступившими в них сторонами становятся сильный-властный и слабый-услужливый. В древности его использование бывало достигало межгосударственного масштаба. Сильным игроком обычно выступала некая сверхдержава, умным странам она обеспечивала защиту от агрессии, прежде всего собственной, умных деятелей политики и культуры поощряла своим высочайшим вниманием, преференциями, общественным признанием, грантами «на продвижение демократических ценностей» – в особенности, умных деятелей в чужих неумных державах: правильных журналистов, правильных политиков, правильных правозащитников, правильных борцов с плохими режимами. Стать умным и правильным было несложно, требовалось лишь яро и ярко облаять неправильное, чтобы тебя и твоё стремление служить заметили. Нужно было понять правила и продемонстрировать, что ты их понял. Но и на уровнях масштабами поменьше, вплоть до самых мелких, интуитивный сговор неизменный атрибут бытия. Только умный может стать главным редактором в крупной газете – такой всегда очень принципиально отстаивает свои позицию и взгляды, правда в важных вопросах они почему-то неизменно совпадают с интересами владельцев газеты. Только умный поэт получит государственные награды и признание выдающимся деятелем культуры, ведь он умеет дружить с властью, не прельщается её критикой и не суёт нос в стан недовольных оппозиционеров, хотя те кто суёт его туда и критикует, тоже бывает оказываются не менее умными, если интуиция им подсказывает, что власть скоро сменится. Умные чиновники, умные журналисты, умные служители закона, умные подчинённые в компаниях и на предприятиях – все они всегда знают, как делать, чтобы вышестоящее руководство или люди, от которых зависит их достаток, продолжали считать их умными, так как глупым не светит карьерный рост. И для этого им не требуется ничего объяснять. Не требуется вступать с ними в явный непосредственный (не интуитивный) сговор. Умные не вступают в явный сговор, потому что они умные. Они понимают правила и им хватает ума принять те.
Пара других примеров интуитивного сговора:
1) Представим, что есть две производственные компании, выпускающие сходный товар, и суммарно их доля этого товара на рынке близка к 100%, т.е. они выступают в роли монополистов. Одна из них повышает цены, якобы из-за возросших издержек на сырьё. Вторая знает, что в действительности сырьё не подорожало. Как она поступит? Не изменить стоимость вроде бы выгодно, так её продукт станет более ликвидным, чем у конкурента. Но долго это не продлится, конкурент вскоре снова снизит цены до прежнего уровня, совершенно очевидно, он поднимает их именно из расчёта на интуитивный монопольный сговор, фактически делая тебе предложение тоже их поднять, ведь тогда выгода будет обоюдной и долгосрочной. И пусть государственная антимонопольная комиссия попытается доказать, что сговор был.
2) Не самого известного театрального критика приглашают вести обзоры театральных постановок на некий озабоченный вопросами культуры телеканал. По каким-то причинам, каковые критику не известны, нанимающая его медиа-структура имеет явную тенденцию принижать одни театры и восхвалять другие, делая это откровенно претенциозно и необъективно. У него есть выбор: быть честным в своих обзорах, нейтральным, или яро включится в травлю и восхваление постановок соответствующих театров. Честный выберет первый путь, и скорее всего не задержится на рабочем месте, осторожный пойдёт по второму, будет обходить «неудобные» постановки, уделяя им как можно меньше времени, умный полностью поддержит политику своего канала, а самый умный, желающий карьерного роста, истинно уверует в неё, просто подстроит под неё свои взгляды и станет сам активно проявлять инициативу в её направлении.
Выгодность интуитивного сговора очевидна. Если он носит незаконный, преступный или противоречащий профессиональной этике характер, всякая реальная договорённость могла бы иметь последствия, при интуитивной же её форме нет способа подслушать факт вступления в неё, записать на аудио или видео, не существует свидетелей, включая даже самих сговорившихся. Они никогда не встречались и не контактировали, поэтому их сотрудничество недоказуемо. Его можно выявить лишь посредством ДП, и то далеко не всегда, однако согласно закону показания ДП не подлежат рассмотрению в качестве доказательства в суде, а иных доказательств не существует. Используя интуитивный способ незаконных взаимоотношений человек фактически гарантирует себе, что не подвергнется уголовному преследованию. Безусловно бывают и косвенные неопровержимые улики, в качестве которых в данном случае могут выступать, скажем, необъяснимые ни с каких иных позиций переводы денег от одного физического или юридического лица другому. Однако если люди обладают хоть малой толикой здравого смысла, вряд ли они столь явным образом выдадут себя, они найдут менее очевидные способы извлекать выгоду из своей тайной связи, тем более мы всё же говорим о достаточно интеллектуальной разновидности противоправной деятельности, требующей определённой сообразительности. Единственным хоть сколько-то эффективным средством противодействия интуитивному сговору служат ДП. Как мы уже сказали, их показания не принимаются во внимание судом, но в этом зачастую и нет нужды. Их очень широко применяют в неофициальном или рабочем порядке. К примеру, чиновников принято регулярно проверять при помощи детектора правды на коррумпированность, что носит скромное название «переаттестации». Им задают вопросы, не берут ли они взятки, не участвуют ли в коррупционных схемах, и т.п., в том числе спрашивают, не состоят ли они интуитивном сговоре и не пытались ли предпринимать шаги для вступления в оный. Не прошедший переаттестацию теряет своё тёплое место, вот и всё, против него не возбуждается никаких уголовных дел и не затевается служебных расследований или судебных разбирательств, единственный, кто может обратиться в суд, это он сам, чтобы потребовать повторной независимой аттестации. Деловые компании и фирмы ещё чаще и регулярнее производят посредством ДП опросы своих сотрудников на предмет лояльности и честности. Тоже спрашивая порой и про интуитивный сговор. Правда не всегда уличённых в нём увольняют, гарантированно это произойдёт лишь если «сговорились» они с кем-то на стороне: с конкурентами, журналистами, полицией, если же они просто пытаются услужить своему начальству, возможно эффект будет прямо противоположный – у них появится дополнительный шанс на карьерный рост.
Особенную роль играет интуитивный сговор в жизни уголовной среды. Он позволяет значительно затруднять расследуемость некоторых преступлений, делает их менее доказуемыми, а так же зачастую избавляет от необходимости контакта между их заказчиками и исполнителями. Осуществляется это всегда через легальный бизнес: криминальная структура открывает фирму по оказанию неких дорогостоящих услуг, обычно консультативных, либо магазин, продающий сомнительные «редкости», «предметы искусства» или «антиквариат» по радикально завышенным неадекватным ценам. Попавший в затруднительное положение бизнесмен, тот что в курсе тайной подоплёки магазина, просто покупает в нём что-то, якобы понравившуюся вещь, без озвучивания каких-либо условий, а далее немного погодя вдруг случается нечто противозаконное, очень выгодное для него: погибает его главный конкурент или у того на предприятии кто-то устраивает масштабную диверсию, и т.п. Взаимосвязи между бизнесменом и произошедшим злодеянием нет никакой, конкретного заказа от него преступникам не поступает, они сами анализируют, в чём он мог бы быть заинтересован, как ему можно помочь исходя из размера полученной от него суммы. Поймают их или нет – их проблемы, вопрос их профессионализма, его при любом раскладе обвинить будет не в чем. Снято немало фильмов о том, как человек, приобретя в случайно попавшемся на пути магазине приглянувшуюся дорогую безделицу, вдруг оказывался в центре комично или драматично разворачивающегося криминального сюжета. И часть из них, пусть и несущественная, основана на реальных событиях. По той же схеме действует теперь рэкет. Бандиты не обходят предпринимателей и торговцев с бейсбольными битами или бластерами в руках, всё происходит совершенно цивилизовано, хочешь их протекции от них же самих, становись их клиентом, регулярно покупай у них по своей инициативе, а не купишь, с тобой может произойти неприятность.
В настоящее описываемому время наиболее часто интуитивный сговор применяют в политике, журналистике, деловой сфере, он одна из основ коррупции, терроризма, криминала, шпионской деятельности. Государство так же традиционно продолжает вовсю им пользоваться, поддерживая правильных общественных деятелей, правильные общественные и иные организации, правильные СМИ и т.д. премиями, грантами, стипендиями, общественным признанием, званиями, налоговыми льготами и прочими видами поощрений. Помимо собственно интуитивного сговора отметим так же его особую разновидность – «интуитивный заговор». Заговор предполагает интуитивное партнёрство не во благо друг друга, а против третьей стороны. Как пример, можно привести реакцию СМИ на важные государственные политические события. История свидетельствует, что в случаях вступления государства в войну его средства массовой информации нередко начинают дружно синхронно искажать вести с фронтов в выгодном правительству направлении, перевирают факты, преувеличивают зверства и потери врага, старательно не замечают жестоких преступлений своих солдат, замалчивают те, или даже находят им оправдательные мотивы. Это словно некий заговор молчания, синдром игнорирования правды значительным числом людей и охотное присоединение их к поддержке заведомой лжи на основании общего интереса без всякой договорённости между ними, без оговаривания условий, всё делается чисто интуитивно с оглядкой на реакцию друг друга. Действия каждой пары «конкретное СМИ – государство» здесь имеют явный вид интуитивного сговора, СМИ вынуждены вести себя так, чтобы не провоцировать на себя гнев верховной власти, но общее их поведение имеет все признаки интуитивного заговора против собственного населения, так как все они не сговариваясь при информационном освещении войны пичкают его ложью. Другой, более банальный бытовой пример: в некоем классе некоей школы все ученики занимаются травлей одного одноклассника, дружно избирают его на роль аутсайдера. Вряд ли они специально договаривались, кого нужно третировать, это просто проявление стайности в случайном совпадении интересов: кто-то хочет демонстрировать своё превосходство, кто-то поддерживает лидера, кто-то привык следовать за толпой, кто-то желает отомстить за былые обиды, кто-то в унижении ближнего находит способ эмоциональной разрядки, кто-то боится сам угодить на роль жертвы. Интуитивный заговор – очень нехороший инструмент развитого демократического цивилизованного общества, он делает принципиально не невозможными любые самые фантастичные с позиций демократии и цивилизованности деяния, такие как частичное лишение населения отдельного региона гражданских прав и свобод, массовое испытание препаратов и вакцин на людях без их информирования и согласия, массовые переселения, массовое отчуждение собственности и т.д., и даже массовые убийства (с определённой коммерческой целью), геноцид и войны. Коррупция тоже зиждется во многом на его основании.
Согласно судебной терминологии инициатор интуитивного сговора, первым предпринявший шаги, указывающие на свою готовность к нему, обозначается «интуитивным предлагателем», откликнувшаяся на эти шаги вторая сторона «интуитивным нанимателем», участники интуитивного заговора зовутся «интуитивными партнёрами». Известно, что наиболее талантливые предлагатели умеют не допускать осознания истинной подоплёки своих меркантильных поступков, они умудряются действительно верить в свою принципиальность и честность, яро отстаивая свои убеждения, при том меняя их всякий раз, как только это сулит выгоду. Подобных индивидуумов невозможно уличить в интуитивном сговоре даже посредством самых совершенных ДП.
Инструментарий полиции
Об арсенале преступников мы уже поговорили, теперь рассмотрим, чем же отвечает им полиция, что она использует в борьбе с ними, какими средствами защищает закон и порядок. Средства эти, сразу скажем, весьма богаты и разнообразны. Ведь она государственная структура, её финансирует ни кто иной как империя – самое могучее в плане потенциала материальных и человеческих ресурсов образование из когда-либо существовавших за всю историю нашей цивилизации. К основному инструментарию современных правоохранителей относятся:
• Высокоэффективные детекторы правды – про них мы уже неоднократно упоминали выше, но отметим их ещё раз. Если злоумышленника угораздило оказаться на допросе в полиции, не важно арестован ли он или всего лишь один из многих подозреваемых, и существуют доказывающие его вину улики, о которых он сам знает, он обречён. Говорит он или молчит, сверхмощные ДП по реакции его организма выудят всю информацию. И даже если доказательств нет, полицейские к концу беседы с ним всё равно будут чётко знать о его причастности и все ключевые детали преступления. Что позволит им сосредоточить свои усилия именно на этом гражданине, отсеяв всех невиновных. ДП – один из основополагающих инструментов в работе нынешних следственных органов.
• Интеллектуальные аналитические системы и службы – это у правонарушителей продвинутый искусственный интеллект в роли помощника редкость, у защитников правопорядка всё с точностью до наоборот. Начнём с того, что у многих офицеров есть личная ИИ-поддержка, иными словами, персональный искусственный интеллект сопровождения, который постоянно наблюдает за хозяином, его работой и окружающей его обстановкой, снабжает актуальными подсказками, собственными аналитическими выводами, относящимся к делу свежими сведеньями из всех доступных информационных источников, начиная внутриведомственной базой данных и заканчивая газетами и новостными каналами, следит за безопасностью, предупреждая в случае возникновения потенциальной угрозы или самостоятельно вызывая подкрепление. Кроме личных ИИ есть так же штабная система аналитики, невообразимая по производительности, её интеллекта временами хватает на то, чтобы предсказывать преступления загодя, за дни или месяцы до того, как они произойдут. Применяются высокоинтеллектуальные аналитические системы сопровождения допроса – такие просчитают человека не хуже гения психологии, выстроят вопросы столь хитро, что совершено запутают, собьют с толку, усыпят бдительность, подозреваемый неопровержимо выдаст себя и даже не поймёт этого. Имеются у полиции и другие интеллектуальные приспособления, узкоспециализированные для определённых случаев и ситуаций.
• Служба статистической аналитики – небезызвестная ПССА (о ПССА см. раздел об идентификации). Это мощная автоматизированная аналитическая служба, постоянно отслеживающая в реальном времени перемещения людей и транспорта. Зашли вы в магазин, сели в аэробус, столкнулись с кем-то из прохожих, чей ППИ (персональный прибор идентификации) настроен регистрировать каждый акт опознавания личности в полиции – и данные о месте и времени вашего пребывания немедленно поступают в ПССА и хранятся там вечно. Поэтому правоохранительные структуры при необходимости всегда имеют возможность отследить все передвижения всякого гражданина, могут установить, где и когда он был. Поэтому фактически нельзя выдать себя за иное лицо. Ведь если тот, за кого вы себя выдаёте, в добром здравии и проявляет хоть какую-то активность (не спит, не обездвижен), ПССА очень скоро засечёт, что человек раздвоился, а значит есть повод немедленно начать следственные мероприятия по факту мошенничества. То же самое, если кто-то был замечен в одном месте, а вскоре в другом, куда он за это время никак не мог добраться. ПССА делает многие из преступлений мгновенно раскрываемыми, а некоторые и вовсе невыполнимыми.
• Средства наблюдения – даже у преступников они могут быть весьма изощрёнными, что уж тут говорить о полиции. Когда за подозреваемым установлена слежка, с большой долей вероятности он будет у следящих как на ладони, нигде ему не укрыться, любое слово, любое действие будут замечены, проанализированы и задокументированы. Нередко уголовные элементы используют приборы препятствования наблюдению, подавления его, постановки помех, и так же поисковые сканеры, выявляющие жучки и подсматривающие системы. И всё же возможности представителя криминальной среды и правоохранителей неодинаковы, как правило все преимущества в оснащённости на стороне последних, хотя, следует признать, бывает и наоборот.
• Криминалистика – ещё один могучий инструмент дознания, пожалуй даже более важный, чем ДП. Нынешняя полиция по одной пробе воздуха может установить всех кто был в помещении, по одной частичке биоматериала способна распознать личность, иногда ей хватает одной молекулы с места преступления, найденной на одежде человека, чтобы доказать его вину. Сверхчувствительные полицейские тепловые сканеры засекут следы ног и прикосновений к предметам даже через несколько дней после того, как те были оставлены. Поисковые роботы учуют что угодно за многие километры – обычно это летающие биороботы, выпускается их стая, которая поначалу рассредоточивается, а затем постепенно собирается около обнаруженного источника заданного запаха.
• Виртуальный паспорт – очень значимый элемент выстраивания взаимоотношений между людьми и государством. Позволяет госорганам знать и помнить о каждом гражданине, учитывать каждого и отличать от прочих. Современный человек обретает сей документ даже не с рождения, а ещё на эмбриональной стадии своей жизни. В древности паспорт был вещью, материальным предметом, который носили с собой. Пока его не предъявляли, его словно бы и не существовало. А значит и его владелец почти всегда был вне поля зрения следящих за правопорядком структур. Сейчас, в настоящую описываемой эпоху, паспорт есть просто элемент сетевой базы данных, доступен для учёта, просмотра и сканирования любым уполномоченным службам. Именно в нём хранятся все основные персональные сведенья, в том числе полная биометрическая информация, по которой гражданина можно чётко, однозначно и безусловно идентифицировать. Люди обращаются к своему паспорту в быту постоянно, дабы удостоверять себя при покупках, доступе к личным онлайн ресурсам и т.д., история их обращений сохраняется, по ней наглядно видно, что они активны, т.е. живы и в добром здравии, по ней при санкционированной судом нужде нетрудно выяснить, где они были, с кем контактировали. Для полицейской деятельности виртуальность паспортов действительно неоценима.



