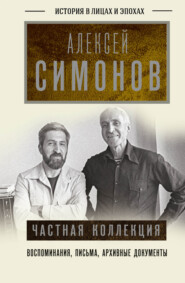
Полная версия:
Частная коллекция
«Женя, родная моя. Ну, кажется, ты сейчас не то покормила, не то еще кормишь сына. Говорил с доктором – говорит, все хорошо. И что ребенок понемногу оправляется от пережитых им потрясений. Напиши, как он тебе нравится и что он из себя представляет. Напиши, когда тебя переведут и когда сможешь звонить. Я сегодня на радостях заложил фундамент поэмы и теперь буду писать каждый день. Меня надули с книжками, и я достану их лишь к вечеру. Пока посылаю Форсайтов – это совершенно обаятельная книжка – я ее за эти дни прочел. Посылаю также свою последнюю карточку – снимался вчера на радостях, узнав, что у сына все в порядке. Малыш мой, как ты себя уже ведь совсем хорошо чувствуешь? Да? Тебе передают привет мама, папа, сестра. И еще куча всяких людей…
Все очень, очень хорошо, и я вдруг обнаружил, что перед лицом этого хорошо меня вдруг перестали волновать будущие мелкие житейские трудности. Бог с ними.
Малыш мой, очень хочется услышать твой голос и увидеть твою, наверное, похудевшую морду. Целую твои лапы. Расскажи, какой сын и как ест – если плохо – значит, ты мне все-таки изменяла – это, на мой взгляд, самый верный критерий. Родная моя, жму лапы. Спроси, можно ли тебе передать еврейскую печенку.
Костя».Вот за этот год он и стал Костей из Кирилла окончательно. Сын – это я. А поэма – «Ледовое побоище».
Не успел я появиться на свет, как мой отец отбыл на свою первую войну, на Халхин-Гол, где и написал стихотворение «Фотография» – одно из двух, официально посвященных женщинам:
Я твоих фотографий в дорогу не брал.Все равно и без них, если вспомним – приедем.На четвертые сутки, давно переехав Урал,Я в тоске не показывал их любопытным соседям.Кто любит Симонова – все помнят, что «Жди меня» посвящено В. С., а вот кому посвящены эти стихи, не помнит почти никто. Между тем посвящение «Е. Л.» – это как раз мама, Евгения Ласкина.
…Я не брал фотографий в дорогу, на что они мне?И опять не возьму их. А ты, не ревнуя…Насчет ревности не знаю, а фотографий, к сожалению, осталось мало, так я и не узнал, было ли это просто плодом поэтического воображения или они в войну потерялись.
Отец с матерью развелись в 1940-м, когда мне был год. И хотя в отличие от «Свидетельства о браке» «Свидетельство о разводе» так и не обнаружилось в семейном архиве, сам этот факт житья с отцом врозь был для меня непреложным с самого начала жизни.
В 1941 году мать, единственная из трех сестер Ласкиных, получила высшее образование. Вот «Диплом об окончании отделения критики Литературно-творческого института Союза советских писателей СССР». Дата выдачи – 15 июля. По всем предметам – «отлично», по основам марксизма-ленинизма – «хорошо». Отличной успеваемости по этому предмету мать так и не достигла, но прояснится это окончательно только к 1969 году, и речь об этом впереди.
С этим только что полученным дипломом мать в сентябре 1941 года вывезла все наше семейство в эвакуацию и начала работать на Кировском заводе в городе Челябинске в системе Наркомата танковой промышленности.
В 1942-м получила медаль «За трудовое отличие», в 1945-м – «Знак почета» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Лежат орденские книжки и книжки отрывных денежных купонов, на пять рублей каждый, с пометкой: «Отделяется кассой, производившей выплату». Наградные к тем орденам и медалям полагались. Но мать их почему-то стеснялась брать – купоны все целы.
Матери я в войну не помню. Из всей эвакуации сохранилась в памяти одна картинка. Это, видимо, зима с 1942-го на 1943-й год. Значит, Челябинск.
Города нет, не потому что нет, а просто памяти зацепиться не за что.
В пустоте – снег, почему-то вечер и две клетки посреди двора с налипшим на ржавчину инеем. В одной клетке ходит и воет волк, не страшный, но похожий все-таки на волка – морда к луне и вой, который только виден, потому что в памяти звука нет.
И вторая клетка – с мертвыми лисятами. Замерзли, поэтому и думается, что лисята, а не лисы. Смерзлись в комок. Рыжие с белым.
– Почему же, баба, не пустили волка к лисятам? Они бы грелись вместе.
– Нельзя. Он бы их съел.
Из эвакуации мы вернулись летом 1943-го – это знаю по рассказам. А мать оставалась на Урале до 1945-го.
В итоге – копия приказа по Главному управлению снабжения Министерства транспортного машиностроения от 19 февраля 1948 года № 40-к за подписью заместителя министра Н. Жерехова: «Начальник отдела сортового проката и труб тов. Ласкина Е. С. подала заявление о том, что она по специальности литературный критик и занимаемая ею должность начальника отдела проката труб не со ответствует ее квалификации, в связи с чем приказываю: освободить тов. Ласкину Е. С.» и т. д. – всего шесть пунктов, из которых выясняется, что она заодно была и начальником отдела чугунов, ферросплавов, лома и цветных металлов, что для литературного критика, видимо, следует считать неслабой карьерой.
Первое письменное подтверждение дружбы с Луговским, обнаруженное в архиве, тоже относится к войне. Вот оно – лежит в маленьком самодельном конверте с печатью военной цензуры. И если б там были не два письма вместе, которые я сей час приведу, то каждое в отдельности я наверняка счел бы за любовное.
Письмо матери от 28.08.1943 из Москвы в Ташкент (видимо, отправлено во время одной из командировок в Москву из Челябинска):
«Мой милый, хороший, большой старый кот!
Может быть, тебе для переезда сюда что-нибудь нужно здесь сделать – ты напиши. Напиши вообще, как только получишь это письмо. Или телеграмму отправь, что, мол, ждите, приеду, люблю, целую, а мы в ответ: ждем, приезжай, любим, целуем. Ну, смотри, обязательно приезжай, очень люблю и очень целую.
Женя Ласкина».Из второго письма, чтоб не повторяться – только отрывок. Написано оно средней из сестер Ласкиных – Сонечкой:
«…Я боюсь, что вся эта страничка так наполнится чувствами, что никакой почтовый вагон не довезет ее к Вам, но, рискуя всем на свете, продолжаю повторять – милый, хороший дядя Володя, мохнатобровый, седой, даже, может быть, немножко крашеный, приезжайте в Москву, к нам. Что хотите – все будет, даже можем выйти за Вас замуж и создать семейный очаг, уют, комфорт, свой огород и литерное питание (что еще можно требовать?). Хочу, чтоб рассказали мне про серого зайца (помните… Ну-у?..), чтобы взобраться с ногами на диван, тянуть хоть какое-нибудь вино и говорить, говорить, и чтобы ночь напролет, и чтобы гениальный Ваш бред, и чтобы “тегуан-тепек”[1]…»
Что они обе, сбрендили, что ли? Два года человеку не писали, и тут – на тебе. И ни слова про себя и ни слова про войну… Отгадка лежит в совсем другом месте. В повести отца «Двадцать дней без войны» под именем Вячеслава написан ташкентский Луговской – трагический и беспомощный, бессильный преодолеть ужас первых дней войны и первой разбомбленной поездки на фронт. И узнавшие об этом сестрички Ласкины, только что появившиеся в Москве из эвакуации, живущие в маленькой квартире ввосьмером, – выдают старому другу скорую помощь, выдают как пони мают, как умеют: любовью, памятью, готовностью подставить плечо под чужую беду.
Это свойство матери – не колеблясь, брать на себя чужую боль, вплоть до потери страха, чувства самосохранения, – оно иногда доводило до неловкости.
Как мужчина подтверждаю: если женщина так тебя понимает, невольно подумаешь, что у вас роман.
В черном старом бумажнике я нахожу девять писем и открыток, написанных булавкоголовчатым экономным почерком Смелякова, на всех вполне цивильный адрес Подмосковья. Это его письма из лагеря.
Первое – то, которое я хочу здесь привести, – написано 30 мая 1945 года. Последующие восемь являют дивную силу поэтического воображения не в стихах, а в жизни. Видимо, этот роман так и остался в письмах, и мать потом всю жизнь неловко себя чувствовала с Ярославом по этой причине. Впрочем, выдумать такое мне тем более легко, что ни одного ответного письма матери история не со хранила, потому что архив Смелякова, насколько я знаю, погиб.
Письмо без марки, сложено военным треугольником – «Просмотрено военной цензурой 197 728»:
30.05.1945
«Милая Женечка (надеюсь, мне после воскрешения разрешено обращаться к Вам с нежной фамильярностью), милая Женечка – Вы меня обрадовали и огорчили своим письмом. Обрадовали гораздо больше, чем огорчили. Главное дело, Вы пишете, что я, наверное, и не вспомнил о Вас ни разу. Грубая ошибка. Я вспоминал о Вас, пожалуй, не реже, чем Вы. У меня отличная память, я даже помню, как ел холодец на Сивцевом Вражке и яичницу утром у Вас на даче, как Вы записывали мой стишок про девочку Лиду. Интересно, потеряли ли Вы его? По-моему – нет. И Вы далеко не «непривлекательно» выглядели в моих воспоминаниях; скорее я сам сделал несколько неловкостей, если не по отношению к Вам, то в Вашем присутствии. Кстати, раз уж пошло на воспоминания, то у меня однажды болела голова, и Вы гладили мою голову – это было замечательное средство от головной боли. У нас его нет сейчас, и когда еще оно будет? Я спрашивал о Вас у единственного человека из довоенного мира, которого мне пришлось увидеть, – у Сергея Васильева. И он сообщил, что Вы на Уральском заводе пре красно работали и даже награждены медалью, что меня обрадовало. Но я понял его так, что Вы и сейчас там.
Оказывается, нет. Вы у себя в семье, сын Ваш, наверно, стал уже гигантским ребенком – он был велик по-старинному еще тогда, в 41-ом году. Меня растрогало, что Вы даже помните день моего отъезда. Спасибо Вам, дорогая. Я мало изменился за это время, хотя внешне, наверно, постарел: у меня нет ни потребности, ни возможности заглядывать в зеркало. Стал опытнее тем тяжелым опытом, свойственным не поэтам, а людям иного порядка, и все-таки остался поэтом – очевидно, это во мне неистребимо. Сейчас я пишу свою большую вещь – повесть в стихах. Кажется, получается, – и это вся моя радость. Пишу урывками, но пишу. Когда окончу, пришлю экземпляр Вам – читайте и не забывайте меня. Я все-таки этого стою. Мне хотелось бы, чтобы Ваше письмо было не последнее. Я рассчитываю на длинную переписку. Я не писал почти никому, кроме матери (послал одну открытку в «Знамя»). Не хотелось писать. А Вам почему-то захотелось, и я сразу же взялся за ответ. Хоть за это простите мне мои прегрешения. Ну, будьте здоровы и энергичны. Авось мы с Вами еще встретимся. Это было бы прекрасно! Вот и Вам один восклицательный знак в ответ на Ваши, моя милая. Целую Вас почтительно и длинно.
Ваш Ярослав».Большая вещь – это, видимо, первое упоминание о поэме «Строгая любовь». А других неясностей здесь, по-моему, и нет.
Теперь, наконец, можно сказать, что «с войной покончили мы счеты», и заняться последующей, сугубо мирной жизнью.
Увы, от 1948 до 1955 года никаких официальных документов архив не сохранил. Ни следов поступления в Радиокомитет в 1948-м, ни увольнения из него в разгар борьбы с космополитами в 1951-м. Хуже того, нет в архиве и писем с 1950 по 1953 год, когда арестованная и осужденная моя все та же тетка Софья Самойловна отбывала свои первые годы на Воркуте. Осенью 1952-го мать ездила к ней на свидание – одна из первых, кому это вообще удалось.
Мы жили с ней в это время в коммуналке на Зубовской, в комнате, разделенной на три части шкафами и занавесками. Накануне ее отъезда я слышал совершенно для моих ушей не предназначавшийся разговор матери с отцом, специально для этого вызванным ночью. Мать не была уверена, что вернется, и потому заставила отца поклясться, что если что-нибудь случится с нею, то до ее возвращения я буду жить с бабушкой и дедом – тем самым, описанным у Н. Я. Мандельштам, и ни в коем случае отец не станет забирать меня к себе (он в то время жил с В. В. Серовой, уже, кажется, на улице Горького). Мать у меня была большим дипломатом, но при этом человеком решений и поступков. И при всем, как нынче принято выражаться, плюрализме свое мнение имела всегда, и определенное, правда, не агрессивное к другим. Так что жил я у бабки с дедом все то время, что мать ездила на свидание.
В письмах матери, сохраненных теткой в Воркутинских лагерях, тоже отсутствует переписка до 1954 года. Феномен этот для меня – полная загадка. Предложить могу только такое, довольно парадоксальное объяснение: писать смели, а хранить боялись. Спросить не у кого. Софья Самойловна ушла из жизни на два месяца раньше младшей своей сестры – в январе 1991-го.
Зато с 4 января 1954-го по 19 октября 1955-го писем около 40 штук. Привожу отрывки только трех:
«12.05.1954 (дата по штемпелю)
Из Москвы, г. Воркута Коми АССР л-к п-я № 223-33р
Любимая моя! Кажется, уже смогу писать тебе спокойнее и чаще. Что-то явно сдвинулось с мертвой точки и начался рассвет. Из моей записочки в последней посылке ты уже знаешь, что Евг. Льв. возвращается в Москву. Дело его пересмотрено Воен. Колл. (хотя решало его ОСО[2]), и он полностью реабилитирован. Ждем его в этом месяце. Таких счастливых, как Таня, становится все больше и больше. Сегодня я была на приеме. Со мной уже разговаривали иначе, я оставила там заявление и теперь уже никак не смогу получить тот же ответ, что и раньше, т. к. многие аналогичные дела подняты из-под спуда.
Я очень обрадовалась возможности прожить у тебя неделю, но должна сказать со всей большевистской прямотой, что у меня нет никакого желания этой возможностью пользоваться. Не думай, что я уже стала такой оптимисткой, даже, скорее всего, я еще смогу в августе побывать на Севере, но это уж если и будет, то заключительный этап.
Я еще не писала тебе о моем разговоре с Костей, который состоялся первого мая.
Дело в том, что он тут же после праздников отправился на Украину (на торжества) и мою просьбу сможет вы полнить после приезда, т. е. после 16-го. Вообще разговор с ним мне кое-что дал. Он не сомневается, что в течение какого-то времени все от начала до конца будет перелицовано, даже больше, на этот счет есть совершенно определенное решение, которое и проводится в жизнь. (…) Ты себе не можешь представить, как Костя изменился. У него ничего не осталось от того человека, которого мы с тобой знали. Ведь я последние годы очень редко с ним общалась, и то на какие-то несколько минут, так что мне это перерождение бросается в глаза не меньше, чем бросилось бы тебе. Его сегодняшний облик куда менее приятен, даже просто несравним с тем, что был когда-то. Дело не только в зрелости (вернее, старости, хотя он и молод), не только в умудренности жизненным опытом, знатности, благополучии – нет, просто все иначе. Ну, бог с ним, пусть живет как может, или как хочет.
Вот только жаль, что Алексейка это все понимает и очень многое в отце вызывает у него резкую отрицательную реакцию, многое не нравится, но он настолько стал взрослый, что убеждать его в чем-нибудь я уже не могу. (…)
Сонюрик, дорогая, я, правда, теперь писать буду чаще, про все, про всех и подробно. Стало немного легче на душе. А то уж очень было худо. Я все про себя понимаю, какая я есть св… и эгоистка. Не сердись, моя родная, любимая, я только тобой живу и только о тебе думаю. Целую тебя, целую твои усталые руки, будь молодцом, до конца уже немного осталось. Обязательно отправь заявление, если до сих пор этого не сделала. Следи за собой и пиши нам…».
Письмо от 5 февраля 1955 года, адрес тот же:
«Родная моя! Во-первых, прекрати посылку денег – это совершенно не нужно. Я понимаю, что тратить их особенно не на что, но пусть они будут у тебя – понадобятся на дорогу, а кроме того, все-таки кое-что можно покупать и не жалеть на себя тратить. Относительно обратной дороги. Решение по делу будет принято для всех без исключения. (…) В последний раз (1-го) они уверяли нас всех, что в конце февраля будет закончена их часть работы и тогда будет составлен протест, который пойдет в высшие инстанции. По моим расчетам, раньше конца марта это не произойдет (судя по их темпам), но так или иначе исход неизбежен, и они это не скрывают. Я понимаю, как ты устала ждать. Девочка моя любимая, потерпи еще немного. Мне очень смешно сказал в последний раз один из замов Терехова: «Мы сейчас выясняем все производственные вопросы, но вы понимаете, если у нас «летят» (в смысле проваливаются) производственные вопросы, то летит и все остальное!»
Это он мне говорил в качестве успокоения. Как будто мне это самой непонятно. И еще он сказал: напишите ей, чтоб не беспокоилась, все будет решаться одновременно. Вот и все новости по этому вопросу.
С Костей я ни разу не говорила. Во-первых, потому, что это совершенно ни к чему, во-вторых, я виделась с ним дважды только на людях, в-третьих, если бы ты его увидала, то не стала бы спрашивать ни о чем. Он – видный гос. деятель, и ничего человеческо го в нем не осталось. (…)
О повести «В одном городе»[3]. Ты все знаешь. Ничего, кроме статьи Тарасенкова, нигде не появлялось. Боятся, очевидно. У Толи есть много справедливых замечаний, но он, по-моему, обошел главную тему – о трудной и неустроенной человеческой жизни. По весть, несмотря на недостатки, много лучше, чем он о ней написал. Да, забыла, самый интересный факт из биографии Некрасова, главным образом для читательниц, – он холост!
Сонюрик, порадуйся за Катю. Хоть у ее отчима ничего нет хорошего и, очевидно, зрения ему не восстановить, по крайней мере в ближайшие 1–2 года, но у нее и у матери все складывается очень хорошо. Сегодня они получают ордер на двухкомнатную квартиру. Получили справку о реабилитации отца. У матери тоже на днях будет, Кате, очевидно, удастся поступить осенью в аспирантуру. Если захочет и сдаст экзамены, то ее наверняка примут. Все, что с ними происходит, делается как по волшебству. Источники этого тебе, наверно, понятны. Так почти у всех, кто был такими, как они (…)».
К этим двум письмам необходимы, мне кажется, по крайней мере два пояснения. Сестре – самому близкому в семье человеку – мать пишет об отце без скидок и снисхождения, поверяя его, тогдашнего, им же предвоенным. Отец конца 1940-х – начала 1950-х действительно был на грани превращения в литчиновника, нравственные ориентиры бюрократизировались, литературные критерии были политизированы. Он и правда мог потерять себя, и только смерть Сталина и XX съезд его спасли. Я еще не раз вернусь к этому времени в жизни отца.
Хотя мать и пишет, что Алексейка (то есть я) – такой умный, что все сам понимает, на самом деле понимал я тогда очень мало, а вот чувство непреодолимой дистанции, вежливо-суховатая заинтересованность в моих успехах отталкивали от отца и могли бы оттолкнуть невозвратимо, если б не мать. Не случайно в более поздние и более душевно теплые времена отец не раз благодарил маму за то, что она ему меня сохранила для дружбы. И был абсолютно прав.
Второе пояснение касается Кати. И здесь, мне кажется, таится наводящая подсказка к разгадке феномена, о котором говорилось в преамбуле к письмам. Дело в том, что никакой Кати в природе не существовало. Катей мать называет Стеллу Корытную, теткину солагерницу, незадолго до этого из лагеря освобожденную. Иногда ее звали не Стеллой, а Светой. Но Катя?! Что тут за конспирация, не знаю, но то, что это, несомненно, конспирация, – уверен. Чего-то они обе продолжали опасаться в это время – первое из череды времен изживания страха. Мама Стеллы, Белла Эммануиловна, – родная сестра Ионы Якира и вдова расстрелянного секретаря МК Семена Корытного, лично Хрущевым представленного на реабилитацию, – отсюда и чудо быстроты, с которой и мать, и дочь возвращены из лагеря. И, наконец, отчим, Давид Менделевич, – второй муж Беллы Эммануиловны, – попал в автокатастрофу, когда, по лучив разрешение на выезд из ссылки, они с женой бросились с первой попутной машиной в Москву. Давид ехал в кузове, машина везла соляную кислоту. Впрочем, эта семья, включая двоюродного брата Стеллы – Петю Якира и его зятя Юлика Кима, заслуживает отдельного рассказа.
У Софьи же Самойловны все шло отнюдь не по писаному. Иерархия соблюдалась в нашей державе и при реабилитации: тех, кого начальство знало лично, реабилитировали в первую очередь.
Письмо от 30 августа 1955 года:
«…Значит, так: все дела зисовцев уже попали в Верх. суд для рассмотрения на коллегии. Там они, как мне сегодня сказали, проходят ускоренным путем. Сейчас твое дело № 44-11498-45 «на изучении» у члена коллегии, как и другие. Рассматриваться оно будет либо 3-го, либо 10-го (по субботам). Капитан, который со мной сегодня беседовал, объяснил: «После этого вы зайдете к нам и получите справку (6-го или 13-го), тут же можете посылать телеграмму о том, что сестра реабилитирована (он не выразил ни капли сомнения в этом), пусть она Вам вышлет доверенность, и Вы пойдете на завод получать ее двухмесячный оклад. Я засмеялась и сказала, что это она уже проделает сама. На что он сказал, что сестра (т. е. ты) выедет из Воркуты, как только туда поступит определение Верх. суда, а идет оно фельдъегерской связью. Сколько это длится – он не знает, но я думаю, что к концу сентября оно все-таки дойдет. Итак, осталось действительно немного потерпеть. Должна тебе сказать, что сообщение о подписании протеста не вызвало во мне ни какой реакции. Я настолько не сомневалась в этом, что, кроме чувства огорчения от такой длительности этой процедуры, почти ничего не испытала. Ты, наверное, меня понимаешь. Ведь когда я уезжала от тебя в прошлом году, я была убеждена, что зимой мы уже будем вместе, и эти 7–8 месяцев все притупили…»
Софья Самойловна вернулась в Москву поздней осенью 1955 года, отсидев больше пяти лет. И все эти годы ее младшая и старшая сестры держали втайне от родителей срок, к которому она была приговорена. Дед с бабкой так и не узнали, что проходившая по делу ЗИСа (в бытовом обиходе тех лет «дело о том, как триста евреев хотели взорвать ЗИС») их дочка была при говорена к 20 годам лагеря.
1954 год, которым датировано первое сохранившееся письмо, – разгар боев за реабилитацию. Я сам был тому свидетелем на вечере памяти Н. С. Хрущева, проходившем в Доме кино: все со временники событий вспоминают об очищающей, благородной миссии тех лет, восстанавливавшей историческую справедливость и опустошавшей лагеря.
Но, стоя на коленях, в лицо не посмотришь. Реабилитация, если смотреть на нее с позиции нормального, прямоходящего человека, была такой же позорной волынкой, какой становилась всякая изначально благородная по смыслу акция, которую доводилось осуществлять самодовольному советскому государству. Позднее мы имели возможность увидеть то же самое с возвращением гражданства изгнанным – возвращением, не сопровожденным извинениями за совершенное беззаконие. Были и тогда люди, не желавшие унижаться, обращаясь за реабилитацией, и все-таки вынуждаемые к этому если не государством, то чувством неловкости, которое испытывает нормальный человек, стоящий в полный рост среди толпы, стоящей на коленях (если, конечно, он не священнослужитель). Но их всегда мало.
В день возвращения из пятилетней разлуки, когда ее папа, мама, сестры на промозглом Ярославском вокзале, плача, обнимали ее, моя тетка – не герой и не жертва, просто советский человек, – несколько раз пыталась встать на колени: «Мамочка, папочка, я так перед вами виновата, я столько горя вам принесла! Я отслужу, я загашу свою перед вами вину!» И всю свою оставшуюся жизнь моя, тогда всего-навсего сорокапятилетняя, тетка отдала служению близким людям, семье, друзьям. А была она из самых красивых и умных женщин, каких я видел.
Летом 1955 года датировано письмо В. А. Луговского из Сходни в Москву, где мы с матерью собирались в туристский горный домбайский маршрут:
«Дорогой дружок Дженни!
Очень обрадовался, когда услышал от тебя, что возвращение твое будет в конце августа.
У меня сейчас слишком большое горе[4], чтобы я мог особенно связно писать. Александр Александрович был самым лучшим, благородным, преданным и обаятельным другом в моей жизни, и другого такого в системе нашей солнечной и галактической мне не отыскать. Ты хоть сама с ноготок, но очень мудрая и все понимаешь. Потом, это еще большое горе моего дома.
В общем, я брожу в центре русской природы и размышляю о жизни и смерти, о творчестве и об истории, а больше всего о том, как все проходит мимо и исчезает.
Работаю над гослитовским изданием.
Вообразил, что ты, маленькая моя, пойдешь по горам и ущельям, и завидую тебе.
Ты такая родная и милая. Мы все испытали за 19 лет со времен желтого дрока – и горе, и радость, настоящие трагедии, встречи и разлуки, все виды жизненных перемен, а я все так же рад слышать «хэллоу» по телефону, рад тому, что ты живешь на свете, рад тому, что я тебя верно люблю и что ты всегда останешься для меня дорогой и трогательно милой.
Вспоминаю все, что связано с тобой, а это очень, очень много.
И главное – не разбегаться в разные стороны, быть вместе на всю жизнь. Ты-то мне очень нужна. Это очень, очень по-хорошему. Ну, до свиданья, буду ждать. Да будет легок твой горный путь. Целуй Алексея. Тебя целую и обнимаю 1000 раз и остаюсь твоим верным трубадуром. Напиши чего-нибудь – две строки, сюда или на Лавруху). Еще раз нежно целую.



