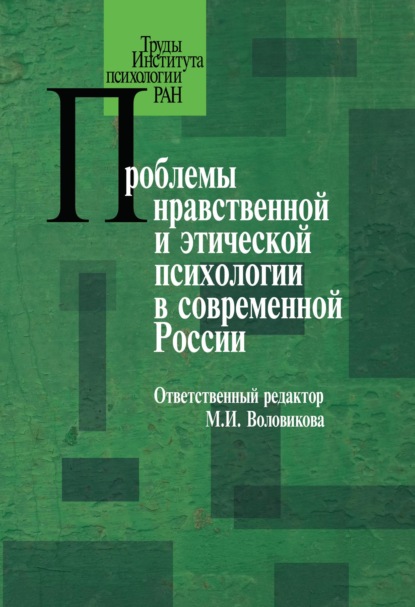
Полная версия:
Проблемы нравственной и этической психологии в современной России
• Диалог как метод исследования и коррекции искаженности нравственных установок личности.
• Дальнейшая разработка методов качественного (микросемантического и других видов) анализа для решения задач нравственной психологии.
• Практические приложения нравственной психологии в этнопсихологии (созидающая роль национального нравственного идеала), инженерной психологии и психологии труда (как важнейшего условия безопасности высокотехничных систем), в политической, экономической психологии и др.
Нравственная психология охватывает (или должна охватывать) практически все традиционные разделы общей психологии: методологию, психологию личности и межличностных отношений, познавательные процессы, эмоционально-волевые процессы. И дело здесь не в новом объекте исследования, а в рассмотрении привычных для психологии объектов с точки зрения нравственности как системообразующего фактора нормального, здорового развития и функционирования всех психических процессов. Кроме того, в отечественной психологии (преимущественно советского периода) накоплен большой опыт исследований нравственного развития личности (Л. И. Божович, В. С. Братусь, Е. Н. Стрижов, Т. А. Флоренская, В. Э. Чудновский, С. Г. Якобсон и др.), процесса решения нравственных задач (А. В. Брушлинский, М. И. Воловикова, В. В. Знаков, Л. В. Темнова и др.). Из западной психологии пришел опыт исследования развития морального сознания (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Т. Ликона, Д. Тапп и др.).
В списке имен, с которых начинаются диссертационные обзоры литературы по нравственной проблематике, обычно приводят имя основателя психоанализа, хотя он скорее «закрыл» для психологии тему нравственности. По замечанию Б. С. Братуся, «после 3. Фрейда многие психологи усвоили, что нравственность нередко просто фальшь, поза, прикрытие истинного лица или – что почти то же самое – внешнее давление, общепринятая форма, цензура. Поэтому, несмотря на декларируемые терпимость и почтение, внутреннее убеждение (часто переходящее в стойкое предубеждение) требует от психолога держаться настороже и подалее от нравственных императивов и рассуждений» (Братусь, 1997, с. 10). В этой публикации 1997 г. автор использует термин «нравственная психология», отмечая: «нравственная психология, по-видимому, впервые постулируется в этой работе» (там же, с. 3)[9]. Задачи нравственной психологии автор видит в том, чтобы выйти из позиции наблюдателя за «борьбой за человека в человеке» в область этой борьбы в качестве ее инструмента. И тогда произойдет кардинальный поворот: «из психологии, согласной рассматривать нравственное развитие как частный вариант, сегмент своего применения, она становится нравственной психологией, действующей и видящей мир изнутри нравственного пространства, нравственного понимания человека» (там же, с. 10).
В 1991 г. вышла книга Т. А. Флоренской «Диалог в практической психологии» (Флоренская, 1991). Это одна из первых работ, где уже в «новое время» нравственная проблема была поставлена в центр решения всех остальных психологических проблем. Предпосылками идей, разрабатываемых в этом издании, послужило научное наследие А. А. Ухтомского и М. Г. Бахтина. Незримо в книге 1991 г. и явно в более поздних работах Флоренской (Флоренская, 2001, 2006) присутствовал еще один (и основной) источник – святоотеческий подход к пониманию законов душевной и духовной жизни. В качестве этого источника послужили работы православных подвижников и мыслителей: Никодима Святогорца, Аввы Дорофея, Нила Сорского, Феофана Затворника, Павла Флоренского и др. Возможно, и усилиями Флоренской святоотеческая психология со второй половины первого десятилетия 2000-х годов начала оформляться как новое научное направление (Святоотеческая…, 2010), но сейчас нам хотелось бы остановиться на том значении, которое имеют работы Флоренской для нравственной психологии.
Определенные основы нравственной психологии были заложены и в советское время. В этот период нравственные законы, хотя в урезанной форме, были действенной силой в жизни личности и общества, обсуждался переделанный из христианских заповедей «Нравственный кодекс строителя коммунизма». Но эти ненадежные основания рухнули вместе с крушением советского строя. 1990-е годы оказались периодом российской истории, «свободным» от какой-либо общественной морали. Мало авторов, кто оказался в состоянии противопоставить моральному обвалу что-либо основательное. Т. А. Флоренская была одной из этих немногих, но она умела излагать вечные истины и на марксистском языке, потому что люди при любом строе остаются людьми со своей ненасыщаемой тягой к вечному.
Теория личности, которую можно построить, основываясь на научном наследии Флоренской, отличается от всех остальных «теорий» отказом от притязаний на познание личности. Диалогический подход, разработанный ею, допускает, что с личностью другого человека можно вступить в диалог, а также описывает необходимые условия успешности такого диалога для двух его участников – консультируемого и консультанта. Таким образом, личность всегда понималась Флоренской не как «объект» исследования, а как «субъект» общения.
Второе базовое положение ее «теории личности» состоит в утверждении принципиальной непознаваемости личности другого человека, защите «тайны личности». Данное положение согласуется с выводами современных богословов, проанализировавших понятие «личность» в православной традиции. Священник Вадим Леонов, сопоставляя понимание «личности» и «образа Божия» в православном богословии, говорит о том, что эти понятия не подлежат формальному определению и что, хотя исследованию доступны отдельные проявления личностного бытия человека, важно, чтобы эти феномены даже в обобщенном виде не считались сущностью и предельной глубиной личности в человеке (Леонов, 2010, с. 81).
Третье положение теории личности, по Т. А. Флоренской, связано с понятиями «наличное Я» и «духовное Я». Диагностике с помощью психологических методик доступно только «наличное Я».
Четвертое положение обосновывает необходимость следовать принципу «не навреди» в работе психолога. Оно связано с утверждением духовной сферы личности и запретом любой психологической практики, сопряженной с воздействием на духовную сферу.
Пятое положение касается необходимости «оценивания» нравственной позиции личности двух участников диалога – как консультируемого, так и консультанта. Основанием для такого «оценивания» служит соответствие их слов, действий и поступков нравственным заповедям.
Шестое положение утверждает благоговение перед свободой нравственного выбора личности, на которую никто (даже психолог и даже из «благих побуждений») не может покушаться.
Святоотеческие источники диалогической концепции личности в советский период истории отечественной психологии могли явно не обнаруживаться, но и при внешне «марксистском» языке описания они оставались основанием, позволяющим здраво и точно расставить акценты, отделить существенное от второстепенного.
В качестве примера можно привести анализ работ известных неофрейдистов Г. Салливена и К. Хорни, проделанный Т. А. Флоренской в 1970-е годы. При общем и аргументированном неприятии психоанализа, характерного для всех периодов разработки научной концепции Флоренской, ей удалось использовать логический просчет «противника» для того, чтобы выделить главное и существенное для нормального развития личности – созидающую роль идеала, тогда как К. Хорни в качестве основного виновника невротического процесса (затрудняющего нормальное развитие личности) называет стремление человека к безграничному совершенству. Флоренская пишет: «В идеале мы видим тот образец, по которому формируются все психические свойства, способности и умения человека, ту цель, без которой принципиально невозможна человеческая деятельность… Существенно то, что идеалы подростка и юноши, как правило, выражают стремление к неограниченному совершенству, к расширению своего жизненного горизонта до общечеловеческих, мировых стандартов» (Флоренская, 1974, с. 162). Аналогично, относительно попытки Салливена «исправить» фрейдизм Флоренская отмечает: «Противопоставляя социальное природному, Салливен не находит в человеке источников духовного развития» (там же, с. 166).
Таким образом, ведущие понятия в теории личности Флоренской – «идеал», «безграничное стремление к совершенству», «духовное развитие», добавившиеся к ним позднее «духовное Я» и «наличное Я», а также взятые из других, родственных по духу, теорий «вненаходимость» (Бахтин) и «доминанта на собеседнике» (Ухтомский) – представляют собою единую, непрерываемую линию развития самой концепции Т. А. Флоренской.
Первой ее работой, получившей большой резонанс в научных кругах, была публикация в одном из томов «Бессознательного», вышедших в Тбилиси в 1978 г. (Флоренская, 1978). Речь в статье шла о психологической интерпретации мифа об Эдипе. В отличие от психоаналитической интерпретации известной как «Эдипов комплекс», Тамара Александровна связала историю царя Эдипа с невольным (из-за незнания) нарушением нравственной заповеди, но сознательным прозрением и покаянием героя. Эта тема напряженной работы над своей совестью («духовным я») сохранялась и развивалась во всех последующих публикациях Флоренской с той только разницей, что в 1990-е годы она обрела возможность выражать мысль более определенно, чем в условиях идеологического однообразия советского периода. Впрочем, сама Флоренская говорила о том, что нужно уметь выражать верные мысли на любом языке, понятном аудитории, и сама умела это делать[10].
В своей последней по времени работе, опубликованной уже после смерти автора (Флоренская, 2001), рефреном, из главы в главу повторялось главное правило работы психолога и психотерапевта «не навреди!», а также приводились слова из молитвы Ефрема Сирина о даровании способности видеть свои грехи[11]. Эта поворотная в истории нравственной психологии точка связана с изменением вектора направленности внимания исследователя: от изучения, диагностики и т. п. личности другого человека – к желанию видеть свои нарушения нравственного закона. Работа психолога над собой дает возможность услышать голос своего «духовного я» – своей совести и как результат – обрести способность различить голос «духовного я» собеседника, чтобы поддержать этот голос во время психотерапевтического диалога.
Заметим, что Т. А. Флоренская не отрицала диагностические методики, но всегда говорила о том, что с их помощью можно касаться только периферии личности, но никак не ее глубинных оснований, так как психология занимается в основном проблемами «наличного Я». «Духовное Я» недоступно анализу, но вступая в диалог, всегда нужно сохранять память об этом высшем достоинстве любого человека. Она писала просто и понятно, иногда – от первого лица, но именно так мог начинаться диалог с читателем, а также диалог читателя со своей совестью: «Во мне живет и руководит мною мудрейший наставник, он говорит со мной голосом совести. Слушаясь его, и сам я могу стать не просто умным. Но мудрым в своих мыслях, чувствах и делах. Советы его могут оказаться выше моего разумения и даже идти вопреки ему, но жизнь покажет их истинность, опыт научит, что непослушание „второму Я“ вредит и мне, и окружающим меня людям; а когда я прислушиваюсь к нему, то поступаю правильно, и в душе моей воцаряется мир» (Флоренская, 2006, с. 40).
Анализируя детские сочинения о совести, Флоренская отмечает: «Совесть, как писали подростки, – это „лучшее Я“, „обязательно правильное11. Назовем это второе Я „духовным Я“, не пытаясь определить его. Это голос вечности в душе человека, его творческое начало и перспектива становления. Духовное Я неизмеримо превосходит наличные возможности человека. Даже будучи неосознанным, духовное Я действует в человеке, и совесть является одним из его проявлений» (там же, с. 41).
У Т. А. Флоренской есть ученики и «ученики учеников», работы которых показали большой практический потенциал данного подхода. Он оказался эффективным и в работе со сложными жизненными ситуациями (М. Ю. Колпакова, 1997, 2002), при организации обучения по медицинским специальностям (Т. Ю. Коренюгина, 2004), при коррекции логопедических проблем у детей (Е. С. Тихонова, 2009).
Такой широкий спектр применения (а он может быть значительно увеличен) связан с прогностичностью самого подхода, основанного на главном и существенном в природе человека. Дело науки ведь не в том, чтобы исчерпать проблему своими объяснениями, а в том, чтобы найти главное и определяющее для ее возможного решения. Главным и определяющим для нравственной психологии и для применения на практике ее результатов является неискаженный образ человека как существа, по самой природе своей наделенного высшим достоинством («духовным я», совестью, образом Божиим). Такое понимание очерчивает границы возможности применения объективных методов к исследованию, предъявляет требование к самому ученому познавать и стремиться соблюдать нравственный закон.
Идея пересмотреть с нравственных позиций сложившееся к настоящему времени психологическое знание, разные отрасли психологической науки также принадлежит Т. А. Флоренской. На занятиях семинара, организованного ею в середине 1990-х годов, она начинала эту работу, которая отчасти нашла свое отражение в книге «Диалоги о воспитании и здоровье» (Флоренская, 2001). Но работа завершена не была, а главное, ее результаты практически не опубликованы.
В настоящее время сама логика развития психологической науки требует серьезного и систематизированного обращения к нравственной теме[12]. И здесь приветствуются любые усилия.
Что касается нравственной психологии, то эти усилия должны быть направлены на анализ существующих методов исследования личности и общества с целью отбора из них методов, не нарушающих нравственные нормы (или не провоцирующих людей на нарушение, как, например, это происходит в методе «подсадной утки» или в знаменитых опытах «стэнфордского тюремного эксперимента» 1971 г., или в «безобидных», на первый взгляд, экспериментах Е. В. Субботского с дошкольниками, склоняемыми ко лжи и др.).
Современное состояние и перспективы развития нравственной психологии
Если представить себе новое направление психологической науки как строящееся здание (а этот образ является наиболее точным), то можно сказать, что у этого здания есть фундамент – и фундамент этот заложен давно. Каждая историческая эпоха, еще до возникновения психологии как науки, формировала свой слой, закладывала свой «камень» в этот фундамент.
Есть основания для строительства той области, которая называется «психология личности». Основания эти составлены не только трудами Т. А. Флоренской (на которых мы особенно подробно остановились в настоящей работе), но и множеством исследователей, как отечественных, так и западных.
Социальная психология, психология труда, юридическая психология выступили инициаторами широкого и планомерного обращения к нравственной проблематике (о чем достаточно подробно говорилось в начале данной статьи). Разработаны новые методы, получены результаты, убедительно свидетельствующие о связи нравственности и профессии, соблюдения нравственных норм и психологической регуляции экономической активности, характеристик образной сферы и нравственного состояния личности (Ермолаева, 2008; Журавлев, Купрейченко, 2006; Купрейченко, 2010; Воробьева, 2010; Гостев, 2008; Попов, Голубева. Устин, 2008). Требуют своего развития и продолжения работы, начатые А. В. Брушлинским, Л. В. Темновой и др. в области психологии мышления как области, центральной для нравственной психологии. Область, связанная с психологией мышления, – исследование различных социальных представлений о нравственной и юридической сферах жизни (Абульханова, Воловикова, Елисеев, 1991; Александров, Александрова, 2009; Воловикова, 2005; Дикевич, 1999; Елисеева, 2004; Стрижов, 2009; и др.), а также изучение приоритетов ценностей современной личности (Журавлева, 2006; Лебедева, Татарко, 2007; и др.).
Ведущее место должно принадлежать истории психологии, и особенно – исторической психологии. Современные методы исследования, накопленные в исторической психологии, позволяют реконструировать нравственный идеал забываемого и почти забытого прошлого. Ввиду ускорения процессов, происходящих в современном мире в нравственной сфере, «историей» могут послужить не только образы далекого прошлого, образы дореволюционной России, но и относительно недавние времена – доперестроечные и начала перестройки общественного сознания. Изменения в нравственных приоритетах периода 1990-2000-х годов происходили так быстро, что нам – современникам, и особенно молодежи, выросшей во время этих изменений, уже трудно представить, какие ценности и нормы были приняты в обществе раньше.
Использование качественных методов анализа, расширение источниковой базы путем включения в нее произведений художественной литературы, художественных и документальных фильмов увеличивают возможности психолого-исторической реконструкции идеалов прошлого и помогают лучше понять настоящее.
Литература
Абульханова К. А., Воловикова М. И., Елисеев В. А. Проблемы исследования индивидуального сознания // Психологический журнал. 1991. Т. 12. № 4. С. 27–40.
Александров Ю. И., Александрова Н. Л. Субъективный опыт, культура и социальные представления. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009.
Братусь Б. С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. № 5. С. 3–19.
Братусь Б. С. Психология и этика: возможна ли нравственная психология? // Человек. 1998. № 1. C. 50–59.
Брушлинский А. В., Темнова Л. В. Интеллектуальный потенциал личности и решение нравственных задач // Психология личности в условиях социальных изменений. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1993. С. 45–56.
Воловикова М. И. Представления русских о нравственном идеале. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.
Воловикова М. И., Дикевич Л. Л. Основы нравственной психологии. Учебно-методическое пособие для студентов психологического факультета. Смоленск: Изд-во Смол. ГУ, 2005.
Воробьева А. Е. Личностные и групповые факторы нравственного самоопределения молодежи: Автореф… канд. психол. наук. М., 2010.
Гостев А. А. Психология вторичного образа. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.
Дикевич Л. Л. Обыденные представления о порядочном человеке: Автореф… канд. психол. наук. М., 1999.
Донцов А. И., Емельянова Т. П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1987.
Елисеева Н. Д. Культурологические особенности социальных представлений народа Саха о нравственном человеке: Автореф… канд. психол. наук. М., 2004.
Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации профессионала. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008.
Журавлев А. Л., Купрейченко А. Б. Нравственно-психологическая регуляция экономической активности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.
Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском обществе. М.; Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.
Колпакова М. Ю. Психологическая работа с женщинами, отказывающимися от новорожденных детей // Вопросы психологии. 1997. № 3. С. 61–68.
Колпакова М. Ю. Диалог с тревожным ребенком // Современная психология: состояние и перспективы развития. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. Ч. 3.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В «приоритете» нарушений нравственного закона представлена точка зрения автора. Однако, наверное, каждый согласится с утверждением, что «не все в порядке в Датском королевстве» и что дела с нравственностью обстоят неблагополучно с двух сторон бывшего «железного занавеса» (кстати, хранившего большинство советских людей от многих бед европейского морального разложения; после крушения «занавеса» эти беды хлынули на беззащитные массы, потому что коммунистический идеал такой защиты дать не мог, а возвращение к исконному православию – процесс небыстрый).
2
Точнее она звучит так: «Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дома ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего» (приводится по «Православному молитвослову», М.: Паломник, 2006, с. 243). Последнюю фразу на современный русский язык можно перевести так: «не пожелай» ничего из того, что принадлежит другу твоему.
3
Иногда смотришь на известных в стране юбиляров, достигших самых преклонных лет, и видишь по доброму и ясному выражению их лиц, что не могли они плохо относиться к своим родителям, а любили их, и этой любовью, а не ненавистью, продлевали свои годы. Конечно, те, кто прожил недолгую жизнь, тоже могли быть хорошими дочерями или сыновьями. Но когда речь идет о 90-летних и старше… Предположение, которое стоит проверить.
4
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли» (приводится по «Православному молитвослову», М.: Паломник, 2006, с. 243).
5
Нас так напугала заидеологизированность советской науки, что теперь мы остерегаемся хоть какой-то идейной определенности. А именно она сейчас и нужна, потому что без определенного стержня распадается цельность научного знания и резко ослабляется возможность эффективного и позитивного практического применения самих результатов, полученных в исследованиях. С этим уже столкнулись западные психологи, поставившие на повестку дня необходимость решения методологических проблем, позволяющих структурировать огромные потоки конкретных эмпирических данных (по результатам обсуждения на конференции по психологии развития, проходившей в 2003 г. в Милане).
6
Рахметов (известный любому советскому старшекласснику по школьному курсу русской литературы) вдохновил своими аскетическими подвигами, особенно привычкой спать на гвоздях, многих будущих революционеров (включая В. И. Ульянова). Жесткая тренировка воли в отрыве от других человеческих качеств порождает сверхчеловека, нацеленного на исполнение любой задачи, включая террористические (тоже, увы, русское изобретение, благими целями которого можно было обмануть только неискушенных бесчеловечностью терактов «дореволюционных» россиян).
7
Мысль невидима и неосязаема, но обладает организующим остальные действия потенциалом, который и проявляется, если человек сознательно принимает ту или иную мысль.
8
Данный эксперимент Т. А. Ребеко двадцатилетней давности воспроизвожу по памяти, т. к. той «уверенной» испытуемой была я.
9
Заметим, что курс для студентов-психологов, начатый мной в 1994 г. в Смоленском гуманитарном университете и продолженный затем Л. Л. Дикевич, также назывался «Основы нравственной психологии» (Воловикова, Дикевич, 2005). Мы считаем, что такое название именно благодаря своему двойному значению (и как психология о нравственной жизни, и как психология нравственная по своим целям, методам и установкам) наиболее точно соответствует той области знаний, в которых особенно нуждаются будущие психологи.
10
Одним из искушений нашего «искусительного» во многих отношениях времени является соблазн пользоваться церковной терминологией без адаптации ее к аудитории. Последствия могут быть печальными: богатство святоотеческого наследия вызовет отторжение, а узкая группа «адептов» начнет обвинять остальных в непонимании и еще во многом другом, тогда как тема законов духовно-нравственного становления личности жизненно важна для всех без исключения!
11
«…Ей Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего.». Молитва Ефрема Сирина вдохновила Пушкина на стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны.».
12
Отчасти это отражается в стремительном росте публикаций на тему различных нравственных аспектов в психологии, а также в поиске названия для формирующегося нового направления (см. например: «Психология нравственности», 2010).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги



