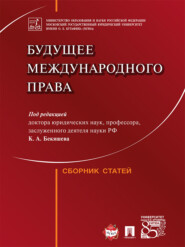
Полная версия:
Будущее международного права. Сборник статей
С точки зрения Н. Криша, подобная позиция в сочетании с высокими требованиями, выдвигаемыми авторами к норме права, может привести к тому, что множество положений, которые мы считаем юридически обязательными, потеряют данное свойство26.
По мнению японского юриста-международника Я. Онума, после Второй мировой войны сложился трансцивилизованный подход к международному праву, нацеленный на девестернизацию содержания и метода международного права. Я. Онума отмечает, что иные, отличные от западных, подходы к международному праву, в частности опыт азиатской цивилизации, игнорировались на протяжении многих веков27. Он выступает за необходимость инкорпорирования в международное право китайской и мусульманской цивилизаций.
Хочу остановиться еще на одной работе, которая имеет прямое отношение к теории международного права: интерпретация актов и норм в международном праве. Данная проблема является постоянно актуальной и востребованной практикой международного права. В мировой литературе ей уделяется недостаточное внимание. Этот пробел в значительной степени восполняет монография британского исследователя А. Орахелашвили28.
Автор в своей монографии выдвигает вывод о том, что «юридическая практика в значительной степени представляет собой работу по интерпретации». Этот вывод автор подкрепляет обширным фактическим материалом из практики многочисленных международных судов и трибуналов.
По мнению А. Орахелашвили, основной целью интерпретации международного права является внесение определенности, предсказуемости и последовательности в международно-правовое регулирование. Автор видит корень проблемы в соблюдении международного права не только в наличии (или отсутствии) политической воли, но и в отсутствии необходимой интерпретации. С точки зрения автора, эффективность является свойством юридической системы и должна достигаться путем адекватного применения действующих юридических норм, чем попыткой продвижения общей эффективности международного права или создания иных, более эффективных норм.
В своей книге А. Орахелашвили последовательно и решительно выступает за определенность юридического содержания норм и за объективность их интерпретации в противовес субъективизму, в том числе в форме учета политических целей и мотивов манипуляции правом.
В монографии автора заметное внимание уделяется соотношению позитивного и естественного права. Он считает, что вопрос о правомерности конкретного действия субъекта международного права должен решаться исключительно на основе позитивного права. Если же действие определенно выходит за рамки позитивного права, в ход идет право естественное, способное ответить на большее количество вопросов и принимающее во внимание такие факторы (принципы), как добросовестность, равенство государств и т. д.
В своей монографии автор знакомит читателя со своей классификацией неправовых факторов, которые непосредственно не вытекают из юридических норм, но тем не менее оказывают влияние на формирование и действие права (например, категория фактов, интерес, ценность и т. д.), а также приводит расширенную интерпретацию права, основанную на иерархии, закрепленной в Венской конвенции 1969 г. о праве международных договоров.
А. Орахелашвили категорически отвергает социологический подход в интерпретации международного права, если такой подход отрицает иерархию, закрепленную в Венской конвенции 1969 г. Он указывает на то, что эффективность не является независимым принципом и не может оправдывать интерпретацию, которая противоречила бы Венской конвенции 1969 г. Далее автор вновь останавливается на необходимости обычной интерпретации, свободной от влияния политических факторов, и устанавливающей смысл норм, который в него закладывали государства. Именно множественность субъектов обосновывает, по мнению А. Орахелашвили, возможность объективной интерпретации29.
К рассматриваемой проблеме «Международное право как право» имеет отношение монография «Философия международного права»30.
Она подготовлена известными политологами и юристами-международниками. Цель книги – подвергнуть анализу моральные и политические ценности, которыми мы руководствуемся при оценке международного права. Как отмечает рецензент этой книги Э. Карти, авторы монографии не оценивают право в его историческом развитии, а скорее показывают, как может выглядеть философский анализ различных отраслей и институтов международного права (международное экологическое право, международное гуманитарное право, международное право человека, международное уголовное право, право международной торговли, а также право международной ответственности). Они рассматривают такие дискуссионные вопросы, как сущность и природа государства, самоопределение и легитимность международного права.
Рецензент данной монографии подвергает авторов критике за то, что они не анализируют тот философский базис, на котором основывается международное право, а также за чрезмерное англо-саксонское видение международного права, в ущерб иным точкам зрения.
В работе большое внимание уделяется природе отношений между государствами и индивидами. Авторы считают, что индивиды должны нести ответственность за действия государств31.
Французский юрист О. Кортен выделяет два подхода к международному праву: расширительный (зачастую используемый США) и ограничительный.
Расширительный подход характеризуется более гибким подходом к нормам, зафиксированным в ходе международного общения, предпочтением обычно-правовых норм и договорных и, как следствие, стиранием различий между lex lata и lex ferenda.
Ограничительный подход, соответственно, уравнивает в правах договорное и обычное право и устанавливает более высокий порог для признания нормы в качестве обычно-правовой32.
Американские юристы П. Диел и Ш. Ку международное право разделяют на две части: operating system – систему, обеспечивающую функционирование международного права, и normative system – нормативную систему. Первая система включает в себя четыре темы (видимо, отрасли. – К. Б.): источники права; субъекты международного права; осуществление юрисдикции; институты, обеспечивающие соблюдение норм международного права; разрешение споров. Вторая система выполняет функцию создания норм международного права. Таким образом, международное право придает силу отдельным ценностям и задает направления изменениям в политике государств и других субъектов этого права. За время существования обе части подвергались изменениям. В них появились новые отрасли международного права33.
III. Понятие и содержание международно-правовой системы
В последние годы отечественные ученые мало уделяют внимания содержанию международно-правовой системы. Одной из последних работ была известная монография Д. И. Фельдмана34. Напротив, зарубежные специалисты опубликовали ряд интересных, креативных монографий и крупных статей. Рассмотрим некоторые из них.
Известный американский юрист-международник А. Д’Амато рассматривает международно-правовую систему в качестве живой системы, состоящей из юристов и практиков, как самопроизводящуюся систему, в которой «правила, нормы, принципы, привилегии, обязанности и права… образуют идентифицируемую систему»35. Все живые системы, продолжает А. Д’Амато, стремятся к самосохранению во времени. По аналогии с дарвиновской теорией борьбы за выживание, наиболее удачными инструментами международно-правовой системы являются, во-первых, приверженность к совокупности непротиворечивых норм и принципов международного права; во-вторых, применимость указанных норм и принципов ко всем государствам в равной мере; в-третьих, признание склонности самих норм к мирному разрешению споров. Два фактора обосновывают эту концепцию. Первый – когерентность самой международно-правовой системы. Ее нормы хорошо отточены и проверены на практике. Эта система схожа с биологической системой, которая эволюционирует во времени. Конфликто-стимулирующие нормы, которые провоцировали военные столкновения, заменяются – в рамках дарвиновской модели борьбы за выживание – нормами, обеспечивающими сотрудничество. Второй фактор касается природы самого права. Право по своей сути консервативно, его нормы подвержены прецедентам из прошлого. Таким образом, по мнению А. Д’Амато, борьба за выживание международно-правовой системы во времени совпадает с обеспечением целостности большинства ее правил, норм и принципов36.
По его мнению, международно-правовая система должна бороться для недопущения конфликта, используя для этого имеющиеся в ее распоряжении инструменты – правила, нормы, принципы и т. д.
В результате А. Д’Амато приходит к следующему выводу: международно-правовая система является воплощением самых разнообразных многочисленных норм, предусматривающих возможность многократного применения норм без ущерба самим нормам права, призванным обеспечивать равновесное состояние системы. Кроме того, охранительные нормы (схожие с антителами в биологических системах), по всей вероятности, призваны защищать материальные нормы (примером может служить гуманитарная интервенция)37.
Во второй части своей статьи А. Д’Амато высказывает ряд оригинальных суждений.
Во-первых, по его мнению, нормы международно-правовой системы создаются этой системой, а не отдельными государствами. «Только международная система, – отмечает А. Д’Амато, – создает, изменяет или аннулирует нормы, и делает это она, руководствуясь своими собственными интересами, посредством выявления, отбора и принятия норм, появляющихся на свет в результате мирного урегулирования разногласий между двумя или более государствами».
Во-вторых, по его мнению, невозможно представить (прогнозировать), какие нормы системы могут появиться, даже если все интересы и задачи государства известны. Причины тому, что некоторые интересы не спускаются сверху лидерами государств, а формируются внизу путем контактов, связей должностными лицами второго уровня и активистами неправительственных организаций.
В своем третьем тезисе А. Д’Амато утверждает, что международно-правовая система содержит три разновидности норм: первичные нормы, санкционные нормы и метанормы38. По его мнению, международно-правовая система была бы примитивной, если бы состояла только из так называемых первичных норм, в соответствии с которыми государства должны совершать конкретные действия либо воздерживаться от их совершения, желает ли оно того или нет. Однако с развитием международно-правовой системы настоятельной потребностью становится наличие качественно новых норм, которые предусматривали бы санкции на случай их несоблюдения.
В отличие от санкционных первичных норм, метанормы, и в этом он согласен с Л. Хартом, вводят новые нормы первичного типа, аннулируют или изменяют старые нормы или различными способами определяют сферу их действия или контролируют их действие.
Любопытен тезис А. Д’Амато о том, что международно-правовая система признает и принимает нормы, которые являются результатом успешного урегулирования межгосударственных разногласий. В своих комментариях А. Д’Амато пишет, что наиболее мирным способом изменения или модификации международного права без обращения к вооруженной силе является международный договор. Если международный договор позволяет согласовывать интересы сторон, то международно-правовая система принимает нормы в отношении государств в целом до появления лучшей, совершенной нормы (которая в последующем способна уменьшить будущие трения), приходящей ей на смену.
Думаю, любопытными являются рассуждения А. Д’Амато о сущности и действиях санкционных норм. Эти нормы определяют обязательные издержки в отношении нарушителя, но которые не должны выходить слишком далеко за пределы формально непризнанного правила – и превышать выгоды правонарушителя. Международно-правовая система должна уточнять, определять некоторые формы допустимого, реального наказания для правонарушителей. Система должна вырабатывать нормы, правила и принципы, которые призваны предотвращать применение неправомерных санкций (с нарушением условий о необходимости и соразмерности).
Как справедливо отмечает А. Д’Амато, санкции могут быть односторонними или многосторонними, включать исправительные и сдерживающие элементы.
Наконец, приведу рассуждения А. Д’Амато о сущности метанорм. По его мнению, эти нормы пребывают в состоянии постоянного гомеостаза (т. е. в постоянном равновесном состоянии). «Если бы метанормы не были гомеостатичными, они могли бы приводить к появлению отклоняющихся, дисфункциональных первичных норм, способных повлечь за собой коллапс, распад системы». Так, аксиоматичными А. Д’Амато представляются две очень важные метанормы международного права – обычно-правовая норма и исполнимость международных договоров, без которых система была бы совершенно иной. Общие принципы права являются в лучшем случае презюмируемой метанормой, подлежащей отмене. Хотя общие принципы права и указаны в ст. 38 Статута Международного суда ООН, они не могут иметь статуса метанормы международного права. Норма, которая имеет свои нормы в национальных правовых системах, – даже если и допустить, что одни и те же нормы можно обнаружить в национальном праве каждого отдельно взятого государства, – не может автоматически быть возведена до уровня международного права, не подвергаясь при этом риску возможного системного неравновесия. Только факт того, что норма универсально применима при регулировании внутренних отношений государств, не может служить гарантией того, что она будет успешно адаптирована, если будет перенесена на совершенно другую область – регулирование внешних отношений государств39.
Мне представляется, выводы А. Д’Амато отличаются новизной, оригинальностью и заслуживают профессионального анализа.
О международно-правовой системе писали Дж. Кроуфорд, О. Шахтер, К. Сон, Т. Шеллинг и другие американские и британские профессора международного права.
IV. Взаимосвязь международного права с другими отраслями науки
Международное право как часть общественной науки теснейшим образом взаимосвязано с самостоятельными гуманитарными дисциплинами и прежде всего с международными отношениями, политологией, внешней политикой, дипломатией, мировой экономикой, социологией и другими науками, имеющими международную составляющую. Международные отношения – это наука, объектом которой выступают реально существующие связи и взаимодействия участников мировой политики. В рамках этой науки изучаются такие элементы международных отношений, как конфликты, кризисы, переговоры, принятие решений, сотрудничество, международные организации. Например, видный специалист по теории международных отношений В. А. Кременюк считает, что отличительными чертами системы международных переговоров является то, что она: 1) отражают существенную систему современных конфликтов и споров, становится все более универсальной и объединяет формальные и неформальные процедуры; 2) приобретает самостоятельность, т. е. находит свои закономерности и правила поведения; 3) вносит свой вклад в стабильность и развитие; 4) участники современных переговоров становятся заинтересованными в реализации не только собственных интересов, но и интересов своих партнеров40.
Переговоры также являются одним из важнейших институтов международного права. С помощью их происходит согласование воль субъектов при разработке норм международного права, разрешаются конфликты, определяются формы и методы сотрудничества и т. д.
Международное право взаимодействует с политологией. Британский политолог Д. Хелд в самом общем виде понимает политику как борьбу за организацию человеческих взаимоотношений, как явление всеобщей взаимосвязи социальных групп, институтов и обществ (государств), обусловленное всеми видами жизнедеятельности людей в их общественной и частной форме. По мнению Д. Хелда, политика находит свое выражение в сотрудничестве, переговорах и борьбе вокруг вопросов использования, производства и распределения ресурсов41. Как известно, основы политических отношений были заложены древнегреческими философами Аристотелем в его трудах «Политика», «Афинская политика» и Платоном в книгах «Государство», «Политика», «Законы». Политологи, в частности, детально проанализировали этапы развития Версальской модели мира, а также влияние глобализации на развитие международного сообщества.
В ходе рассмотрения никарагуанcко-гондурасского спора в 1988 г. Международный суд отметил, что «политические аспекты могут присутствовать в любом деле. В его задачу входит установить, что спор, представленный ему, – правовой, т. е. может быть разрешен с помощью принципов и норм международного права. Суда не касается, что государство, ищущее судебного решения, может руководствоваться политическими соображениями».
По справедливому утверждению ряда американских ученых, политологи активно участвуют в исследовании многих аспектов международного права и международных организаций. Во-первых, их интересует вопрос о распределении политической силы, и этим они объясняют, какие вопросы могут появиться в повестке дня в будущем. Во-вторых, ими излагаются типы проблем, которые государства и другие акторы (т. е. действующие лица) пытаются урегулировать посредством международных соглашений. В-третьих, они анализируют, как внутренняя политика (положение дел внутри страны, формы правления, а также судебная система и поведение лоббистских групп) влияет на процессы формирования, толкования и применения международно-правовых норм.
Эти авторы провели обзор ключевых теорий и эмпирических подтверждений, которые появились в западной литературе в последние десятилетия. Они исследовали мнения представителей различных школ политического реализма по вопросу о том, каким образом сила: 1) проявляет себя в способности принуждать (Г. Моргентау, К. Уолтц, Р. Даль и др.); 2) влияет на процесс определения и на сам процесс нормотворчества (Р. Маккелви, К. Шепсель, В. Райкер и др.); 3) оказывает влияние на желания и убеждения людей посредством создания норм, в том числе и международно-правовых норм (Дж. Руги, Т. Франк, а также Нью-Хавенская школа в лице Г. Ласвелла, М. Макдугала и др.); 4) влияет на формирование систем знаний и социальной практики (М. Фуко, М. Барнетт, Р. Дюваль, М. Финнемор и др.).
Авторы призывают политологов и юристов-международников к сотрудничеству. По их мнению, наиболее перспективными являются следующие области возможного взаимодействия: 1) структура и содержание международно-правовых и институционных основ, в первом случае это договоры и рекомендательные соглашения, не обладающие юридической силой (т. е. не содержащие нормы права), во-втором – многочисленные международные организации, которые осуществляют толкование и применение международно-правовых норм, включая нормы обычного права и стандарты, зафиксированные в договорном праве; 2) эффективность международно-правовых институтов, оказывающих влияние на поведение государств, судов, корпораций и индивидов42.
Основатель теории политического реализма Ганс Моргентау (США) писал, что «международная политика, как и политика в целом, является борьбой за власть. Каковы бы ни были конечные цели международной политики, власть всегда остается непосредственной целью». По его мнению, основным критерием правильности внешней политики государства политический реализм считает отстаивание им национальных интересов43.
Дж. Розенау (США) разработал концепцию двуслойности мировой политики: межгосударственные отношения и взаимодействие негосударственных акторов составляют два самостоятельных, относительно независимых, параллельных друг другу мира постмеждународной политики. Таким образом, к классическому миру отношений государств и межправительственных организаций добавился мир, который Дж. Розенау называет полицентрическим миром, в недрах которого взаимодействуют межправительственные и неправительственные организации, социальные группы, государственные бюрократы и транснациональные акторы. На первый план в этом перевороте мировой политики Дж. Розенау выдвигает индивидов44.
О. Кортен (Франция) выступает за четкое разделение права и морали, права и политики и критикует их смешение45.
Как отмечал видный советский ученый Г. И. Тункин, соотношение международного права, внешней политики и дипломатии имеет три аспекта: влияние внешней политики и дипломатии на развитие международного права; обратное влияние международного права на внешнюю политику государства; использование государствами международного права как опоры для внешней политики46. Он обратил внимание на то, что «главную роль в процессе создания норм международного права играет дипломатия. Это положение относится к формулированию норм международного права как договорным, так и обычным путем»47.
В политике, как и в науке, писал В. И. Ленин, следует научиться воспринимать вещи объективно48. Внешняя политика Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации. Как отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин, «Россия продолжит вести активную политику на международной арене, применяя современные методы экономической дипломатии и мягкой силы, грамотно встраиваясь в информационные потоки»49.
Недопустимо применять силу, нарушая Устав ООН. «Попытки подменить универсальные принципы Устава ООН односторонними действиями или некими блоковыми договоренностями и тем более применять силу в обход ООН до добра, как известно, не доводят. Такие действия чреваты дестабилизацией и хаосом, и так называемое управление кризисом не работает», – напомнил российский Президент50.
На современном этапе развития международные отношения продолжают усложняться, их развитие становится все более трудно предсказуемым. На первый план выдвигаются, наряду с военной мощью, такие важные факторы влияния, как экономические, правовые, научно-технические, экологические, демографические и информационные.
В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., отмечается, что опасность для международного мира и стабильности представляют попытки регулировать кризисы путем применения вне рамок Совета Безопасности ООН одностороннего санкционированного давления и иных мер силового воздействия, включая вооруженную агрессию. В отдельных случаях открыто игнорируются основополагающие международно-правовые принципы неприменения силы, прерогативы Совета Безопасности ООН, допускается произвольное прочтение его резолюций, реализуются концепции, направленные на свержение законной власти в суверенных государствах с использованием лозунгов защиты гражданского населения. Применение принудительных мер и вооруженной силы в обход Устава ООН и Совета Безопасности ООН неспособно устранить глубокие социально-экономические, межэтнические и другие противоречия, лежащие в основе конфликтов. Оно лишь ведет к расширению конфликтного пространства, провоцирует напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает национальную и религиозную рознь.
В настоящее время на первый план в международной политике выходят имеющие трансграничную природу новые вызовы и угрозы. Прежде всего это опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, международный терроризм, неконтролируемый трафик оружия и боевиков, нелегальная миграция, морское пиратство, незаконный оборот наркотиков, коррупция, региональные и внутренние конфликты, дефицит жизненно важных ресурсов, демографические проблемы, глобальная бедность, экологические вызовы, изменение климата, угрозы информационной и продовольственной безопасности.
Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного ответа со стороны международного сообщества, его солидарных усилий при центральной координирующей роли ООН и с учетом объективной взаимосвязанности вопросов безопасности, обеспечения устойчивого развития и защиты прав человека.
V. Верховенство международного права
В Концепции 2013 г. определены следующие приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем: формирование нового мироустройства; верховенство права в международных отношениях; укрепление международной безопасности, международное экономическое и экологическое сотрудничество; международное гуманитарное сотрудничество и права человека; информационное сопровождение внешнеполитической деятельности.
Более подробно остановимся на верховенстве права в международных отношениях. Как справедливо замечает Р. А. Каламкарян, концепция господства права в доктринальном плане сопоставима с концепцией примата права в международных отношениях. Ставя общую задачу – строгое обеспечение взаимосогласованных постановлений международного права, концепции примата и господства права согласуются между собой и имеют конечную цель – прогрессивное переустройство международного правопорядка. Обе концепции одинаково приемлемы и потому должны быть взяты за основу всеми государствами в своей дипломатической деятельности, что отвечало бы коренным интересам человечества51.



