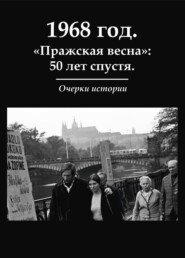
Полная версия:
1968 год. «Пражская весна»: 50 лет спустя. Очерки истории
Незадолго до своей отставки Хрущёв посетил с официальным визитом ЧССР. Возвращаясь из Праги, он 5 сентября 1964 г., на борту самолета Ил-18, обсудил (точнее, «поделился» своими мыслями) итоги визита с А. А. Громыко, Г. Т. Шуйским, Л. М. Замятиным, Ф. М. Бурлацким. В переработанном виде его рассуждения легли в основу записки в Политбюро ЦК КПСС «О некоторых вопросах экономического сотрудничества с Чехословакией». Документ свидетельствует, что, помимо множества частных вопросов (привлечение капиталовложений ЧССР в разработку советских месторождений цветных металлов, необходимых для чехословацкой промышленности; кооперация в развитии производства полуфабрикатов из химического сырья; привлечение капиталов ЧССР и ГДР для строительства в Советском Союзе электростанций с целью обеспечения энергией производства хлора как сырья для полихлорвинила и т. д.), поездка в ЧССР заставила Хрущёва снова обратиться к принципиально важной для него проблеме – интеграции экономик социалистических стран в рамках СЭВ. «Будучи в Чехословакии, – отмечал советский лидер, – мы имели ряд бесед с тов. Новотным и другими чехословацкими руководителями… Эти беседы укрепили меня во мнении, что в нашем сотрудничестве с Чехословакией и другими социалистическими странами нет достаточно четкой и целеустремленной политики. Вопросы экономических связей Советского Союза со странами народной демократии выступают сейчас как важный фактор в деле укрепления единства и сплоченности мировой системы социализма. Между тем в практике экономического сотрудничества сложилось такое положение, когда наши плановые и хозяйственные органы в этом вопросе поддаются самотеку. Они не проявляют собственной инициативы, не всегда критически относятся к предложениям тех или иных социалистических стран… Надо как следует заняться изучением этих вопросов с тем, чтобы разработать практические меры по осуществлению последовательного экономического сотрудничества с социалистическими странами»[39].
Насколько известно автору статьи, данная записка Хрущёва, вынесенная на заседание Президиума ЦК КПСС 10 сентября 1964 г., – хронологически первый документ, в котором, пусть и в несколько завуалированной форме, на столь высоком уровне говорится о том, что кооперацию стран «социалистического лагеря» в рамках СЭВ тормозят советские плановые и хозяйственные органы, а перед высшим политическим руководством СССР ставится задача преодолеть это сопротивление.
Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г., определивший политическую судьбу Хрущёва, на некоторое время отложил принятие решений по дальнейшему развитию системы экономических отношений социалистических стран: новое советское руководство было вынуждено сосредоточить свое внимание на внутриполитической повестке. Однако, как показывают материалы состоявшейся 20 января 1966 г. в ЦК КПСС встречи нового первого секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с А. Новотным по вопросу об интеграции экономик стран «социалистического лагеря», позиция советской стороны не претерпела изменений. Брежнев сразу дал понять своему собеседнику, что если за последнее время (т. е. после октябрьского пленума 1964 г. – Т.Д.) «мы стали меньше шуметь по вопросам внешней политики, то это отнюдь не означает какого-либо ослабления нашей активности в этом плане». По словам советского лидера, методы наши изменились, но существо политики сохранилось. Сославшись на когда-то слышанную им шутку Брежнева о том, что сейчас СЭВ является не столько организацией взаимной помощи, сколько организацией помощи (т. е. помощи со стороны СССР), Новотный вновь поставил перед советскими партнерами вопрос о необходимости активизации деятельности Совета. В ответ Брежнев заметил, что тоже видит недостатки в работе СЭВ и далек от того, чтобы испытывать полное удовлетворение его деятельностью. В критическом ключе советский лидер изложил обычную практику обращения представителей стран-членов с просьбой оказать помощь поставками тех или иных товаров, сырья или оборудования, чтобы ликвидировать прорыв на каком-то остром участке. «Одним мы успеваем дать, другим даже ничего не остается. Одни уезжают довольные, другие – обижаются. Это может быть и можно считать естественным ходом событий, но не по такой линии должна развиваться работа СЭВа», – заключил Брежнев. Он подчеркнул, что еще не успел по-настоящему разобраться в основных причинах существующих недостатков и в том, каковы должны быть пути их устранения. Первый секретарь Президиума ЦК КПСС признавался Новотному в том, что еще точно не знает, как поставить эту работу на правильные рельсы, однако, по его глубокому убеждению, для этого есть немалые возможности. Брежнев заверил своего чехословацкого коллегу, что в скором времени вынесет вопросы, связанные с работой СЭВ, на рассмотрение Президиума ЦК КПСС и предстоящего XXIII съезда КПСС[40].
Автор не располагает документальными подтверждениями, что именно в результате беседы Брежнева с Новотным в январе 1966 г. аппарату ЦК КПСС были даны поручения изучить существующие проблемы в работе СЭВ и представить свои предложения. Однако характерно, что уже 5 февраля 1966 г. на стол секретаря ЦК КПСС, курировавшего «социалистический лагерь», Ю. В. Андропова легла записка партийного комитета советской части секретариата СЭВ «О некоторых вопросах деятельности Совета Экономической Взаимопомощи». Авторы документа констатировали, что «в процессе сотрудничества выявились трудности, недостатки и нерешенные вопросы. В связи с этим представителями стран в СЭВ выражается неудовлетворенность результатами коллективного сотрудничества…»[41]. Изложив недостатки в работе СЭВ, авторы записки просили «рассмотреть в Центральном Комитете… меры по дальнейшему улучшению экономического и научно-технического сотрудничества наших дружественных стран…»[42]. На полях напротив этой фразы имеется помета Андропова: «И где эти меры? Кто нас представляет? Разве это не задача парткомитета?» Документ явно привел в негодование секретаря ЦК КПСС. Поля испещрены пометами: «Конкретно что нужно делать?! Эти общие посылки всем известны», «Липа!» и т. п. Однако, несмотря на то, что авторы записки, по распоряжению Андропова, были вызваны на беседу в ЦК, по результатом которой составили новую записку в ЦК КПСС, конкретных предложений Андропов так и не получил, и уж тем более не удалось ему вывести работу СЭВ на новый уровень. Ответ на вопрос, почему практически всесильный Андропов оказался в данном случае бессилен, коренится в разногласиях, возникших еще в хрущёвский период.
Одним из основных препятствий на пути интеграции стран – членов СЭВ Хрущёв считал сложность сглаживания противоречий между национальными интересами каждой из стран и особенно расхождение в понимании задач экономической кооперации. В июле 1963 г., в период сильного обострения отношений с румынами, он писал: «Несогласия по отдельным вопросам или расхождения могут быть, потому что внутри совнархоза одной страны такие расхождения бывают, а между нами в этой важнейшей части нашей политической деятельности – экономической – (а это основа нашей социалистической идеологии), тут много форм, много возможностей, и много может быть разного понимания, разного подхода, не всегда другой раз мы можем учесть национальные особенности той или иной страны, и поэтому нельзя проявлять сразу нетерпение и форсировать эти разногласия и вводить их в политическую степень»[43]. Однако больше, чем «национальные особенности» социалистических стран, препятствующие экономической интеграции, Хрущёва беспокоила скрытая оппозиция советских отраслевых хозяйственных деятелей. Об этом он говорил в «узком кругу», пригласив 24 июля 1963 г., накануне совещания лидеров компартий, Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, Г. Т. Шуйского, А. С. Шевченко и О. А. Трояновского. Хрущёв делился своими опасениями: «В другой раз до нашего слуха доходит, что выражается даже недовольство такими отношениями. Если говорить о нашей стране, то чаще всего нам предлагают такие товары… которым мы сами ищем сбыт или в социалистических странах, или на капиталистическом рынке. Поэтому это тоже создает для нас трудности… Нам другой раз предлагают товары одноименные, в которых мы не нуждаемся, или от нас просят те товары, которые мы сами покупаем за границей. Это, конечно, создает нам трудности… Я это говорю, товарищи, не потому, что не сказать этого – значит, нет этого вопроса. Он есть… Я думаю, что со мной согласятся товарищи, что в кооперировании, в какой бы степени оно ни было, больше всего заинтересованы другие социалистические страны между собой и с Советским Союзом, чем Советский Союз с другой страной. Я думаю, что это всем понятно, потому что у нас необъятные просторы, возможности сырья, емкость нашего рынка, и уровень науки и техники»[44]. Для Хрущёва, увлеченного в начале 1960-х гг. идеей кооперации в рамках СЭВ, задачи, стоявшие перед всем «социалистическим лагерем», во многом превалировали над внутриполитическими вопросами, он считал, «что только глубокое кооперирование может помочь другим социалистическим странам выровнять развитие своей экономики и идти в ногу к новым высотам в развитии экономики, техники и науки, как в целом всех социалистических стран, так и каждой отдельной страны, чтобы она была не ниже уровня других стран»[45].
Судя по всему, Хрущёв считал, что даже если на определенном временном отрезке СССР придется пожертвовать своими интересами, в дальнейшем кооперация в рамках СЭВ придаст столь мощный импульс развитию экономик всех соцстран, что это положительным образом скажется и на Советском Союзе. Однако не все члены советского политического руководства разделяли эту точку зрения. Голос противников хрущёвского подхода стал звучать в аппарате ЦК КПСС более громко после его отставки. Подтверждение этому можно найти в докладе Института экономики мировой социалистической системы АН СССР под названием «О развитии и укреплении экономического сотрудничества социалистических стран и совершенствовании форм этого сотрудничества». Как указывалось в сопроводительной записке, «при подготовке доклада были использованы материалы и консультации работников отдела ЦК КПСС»[46]. Судя по многим косвенным признакам, документ отражал позицию советского «экономического блока». Пересказывать изложенный на 92 страницах материал нет возможности, однако применительно к нашей теме важно отметить: авторы документа достаточно откровенно дают понять – дальнейшая интеграция в рамках СЭВ может негативно сказаться на советской экономике. По мнению составителей доклада, открытие внутреннего рынка СССР для стран народной демократии может подорвать целый ряд секторов советского народного хозяйства и снизить темпы его развития. С этой точки зрения оказывалось «выгоднее» оказывать экономическую помощь нуждающимся в ней партнерам, нежели углублять разделение труда в рамках СЭВ.
Очевидно, руководствуясь именно этими соображениями, советское руководство не торопилось пойти навстречу чехословацким товарищам, призывавшим наладить работу СЭВ. Вплоть до августа 1968 г. вопрос оставался в подвешенном состоянии. Ввод войск в ЧССР и последовавшая за этим «нормализация», с одной стороны, сняли с повестки дня тему чехословацкой экономической реформы в трактовке Шика, а с другой – потребовали от Москвы решительных действий по оздоровлению экономики ЧССР. В мае 1969 г. в Праге побывал председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков. 15 октября 1969 г. он внес в ЦК КПСС предложения по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которые были утверждены постановлением Политбюро ЦК КПСС. С подачи Байбакова советское руководство одобрило оказание помощи Чехословакии «в развертывании прогрессивных видов производства», развитии атомной энергетики и производства вычислительной техники, налаживании передач цветного телевидения; был положительно решен вопрос о поставках некоторых валютных товаров, зерновых, энергетического угля, чугуна, картофеля, мяса, о предоставлении ссуды в свободно конвертируемой валюте или золоте и т. д.[47] СССР вкладывал в чехословацкую экономику миллионы инвалютных рублей, однако ни единого слова о развитии интеграционных процессов в рамках СЭВ в записке Байбакова не содержится. Байбаков полностью игнорировал системные подходы в рамках концепции плановой социалистической экономики. Вместо этого предлагался набор командно-административных мер и «тушение пожара» в наиболее проблемных точках мощным потоком советских вложений. Имея в распоряжении колоссальные ресурсы советской экономики, «главный советский плановик», столкнувшись с кризисом, делает ставку не на настройку «планового инструментария» (в который, видимо, он уже не особенно верит), а на разовые вливания, на базе которых должно было начаться восстановление экономики.
Жизнь показала эффективность предложенных мер в краткосрочной перспективе: по данным чешских историков, пятилетка 1971–1975 гг. была одной из самых удачных за весь период строительства социализма в ЧССР, реальные доходы населения возросли на 28 %. Однако эти успехи достигались в значительной мере за счет потока советских инвестиций. Как только Советский Союз был вынужден сократить вложения в чехословацкую экономику, она начала испытывать серьезные затруднения.
Порочность подобного подхода была очевидна для советского политического руководства. Хрущёв высказался о таком методе «планирования» развития экономики социалистических стран в свойственной ему эмоциональной манере: «Другой раз то или иное социалистическое государство составляет план, а потом обращается к другому государству и просит: нельзя ли проконсультироваться у вас: мы план составили на 5-10 лет. И когда начинают консультироваться, то оказывается, что план составлен очень умный, хороший план и там большие возможности заложены, но для этого нужно процентов 20–40 добавить извне для реализации этого плана. Спрашивается, какой же это хороший план и что было заложено при составлении этого плана?..Все посмотрели бы и увидели, что тут не консультация нужна, а материальные средства? Куда это годится? Никуда не годится. Это такая игра, которая всем видна»[48]. Судя по стенограммам переговоров с руководителями соцстран, Брежнев по данному вопросу был полностью солидарен с Хрущёвым. Парадокс заключался в том, что, несмотря на недвусмысленные высказывания первых лиц государства, советская бюрократическая машина, столкнувшись с необходимостью преодолеть последствия «Пражской весны», пошла проторенным путем «оказания братской помощи». Инерция советской бюрократии и многочисленные интересы советских хозяйственников оказывались весомее «благих пожеланий» политического руководства.
Ян Рыхлик
На пути к чехословацкой федерации
В конце 1967 г. чехословацкое общество ясно осознавало, что диктатура партийного лидера Антонина Новотного оказалась в глубоком кризисе. Однако если чешская сторона в первую очередь ощущала недемократический характер режима, то в Словакии болевой точкой являлся нерешенный словацкий вопрос. Осознание полной подчиненности Праге и, следовательно, неравноправного положения в государстве у большинства словаков было очень сильно. Не случайно именно словацкие члены ЦК КПЧ и его Президиума начали осенью 1967 г. под руководством первого секретаря ЦК КПС Александра Дубчека кампанию острой критики Новотного и, действуя вместе с чешскими коммунистами-реформаторами, в январе 1968 г. заставили его уйти с поста руководителя КПЧ. Новым партийным лидером стал Дубчек.
В проекте Программы действий КПЧ, датированном 26 февраля 1968 г., говорилось о двух этапах развития государства, причем на втором, в отдаленной перспективе, допускалось (как один из вариантов) создание чешско-словацкой федерации[49]. До тех пор пока ЦК КПС оставался в почти неизменном составе, как в период правления Новотного и позднее, когда руководство перешло в руки консерватора Василя Биляка, основным борцом за федерацию стал поначалу Словацкий национальный совет (СНС) или же его Президиум (ПСНС). Именно на заседании ПСНС 29 февраля была отклонена концепция унитарного государства. Вопрос о федерации Президиум рассматривал также 6 и 11 марта. Согласно предложениям специальных комиссий, решение государственно-правовых вопросов предполагалось осуществить в два этапа. Первый этап начинался 1 января 1969 г. Помимо СНС как законодательного органа, в Словакии учреждался и коллективный исполнительный орган – Совет уполномоченных (министров). Разделение компетенций между центральными и словацкими органами должен был закрепить особый Конституционный закон о положении Словакии, причем компетенции общегосударственных органов предстояло сформулировать исчерпывающим образом. Второй этап начинался только после XIV съезда КПЧ, с образованием федерации. Материал после обсуждения на Президиуме был утвержден постановлением № 38/1968, с которым заместитель председателя СНС Франтишек Барбирек должен был ознакомить пленум СНС и партийные органы[50]. Пленум Совета проходил в Братиславе 14–15 марта 1968 г. На нем был снят с должности председателя сторонник Новотного Милан Худик. Руководить Советом было поручено заместителю председателя Барбиреку. В результате обсуждения постановления ПСНС от 11 марта 1968 г. пленум признал единственной приемлемой для Словакии государственной формой федерацию, работать над подготовкой которой следовало начать безотлагательно. С этой целью были созданы соответствующие специальные комиссии[51].
Форму новой государственной модели обсуждали на заседании Президиума СНС и Президиума ЦК КПЧ 19 марта. Участники решили, что следует использовать все возможности несимметричной модели и что переход к федерации будет постепенным. Особенно важно было правильно сориентировать чешское общество[52]. Требование федерации было включено в Программу действий КПЧ, одобренную Пленумом ЦК 5 апреля 1968 г.[53] Таким образом, определились ориентиры, необходимые для подготовки изменений в области государства и права. Одновременно начали подтверждаться опасения Праги, что в Словакии требование федерализации попадет «не в те руки» и будет использовано против демократизации. И действительно, докладывая 9 апреля в ЦК КПС об апрельском пленуме, Биляк полностью сосредоточился на проблеме федерализации и пренебрег вопросами демократизации. Проект Программы действий КПС должен был быть разработан самостоятельно. Во время обсуждения поэт Войтех Мигалик в числе первых поднял вопрос о конфедерации, потребовав ее одобрения к 50-летию образования Чехословакии (28 октября 1968 г.). Экономист Виктор Павленда настаивал на последовательной экономико-политической федерации. Он критиковал профессора Оту Шика за то, что тот настаивал на общегосударственной экономической интеграции. Против Павленды выступили другие члены ЦК КПС, знакомые с проблемами экономики: по их убеждению, предложение Павленды являлось нереальным с экономической точки зрения. В конце концов, ЦК КПС принял документ под названием «О взаимоотношениях чешского и словацкого народов в области организации государства и права», который требовал безотлагательно (до конца июня) разработать и принять Конституционный закон о симметричной организации государства, т. е. о федерации[54]. Фактически в результате потеряли свое значение в этой части как постановление СНС, так и Программа действий КПЧ.
Конец марта 1968 г. ознаменовался мобилизацией гражданских сил в стране. Давление общественности и средств массовой информации постепенно принуждало к отстранению от власти скомпрометированных функционеров режима Новотного. Последнего 30 марта на посту президента сменил генерал Людвик Свобода. 8 апреля 1968 г. подало в отставку правительство Йозефа Ленарта, и в тот же день был сформирован кабинет Олдржиха Черника. В число вице-премьер-министров вошли Петер Цолотка и Густав Гусак – главные в Словакии протагонисты федерации. Новое правительство поддержало идею федерации в опубликованной 24 апреля программе. 3 мая 1968 г. Национальное собрание, руководимое реформатором Йозефом Смрковским, одобрило программное заявление, хотя незадолго до этого, 11 апреля, приняло решение отложить запланированные выборы и продолжало функционировать в старом составе.
Собственный проект федерации был разработан в Братиславе. Президиум СНС на своем заседании 10 апреля подготовил график работ «для обеспечения законодательных работ, вытекающих из Программы действий партии и постановления ПСНС № 38/1968». Окончательный проект должен был быть разработан до 5 мая[55]. 16 апреля формально была создана новая специальная комиссия под руководством профессора Карола Лаца. Ее учредительное заседание прошло на следующий день, 17 апреля[56]. Комиссия отказалась от двухэтапного плана и к концу апреля разработала единый план, который, независимо от позиции чешской стороны, предусматривал создание национальных органов – правительства и парламента – и в чешских землях. Над обоими правительствами и парламентами должны были стоять общие федеральные органы с ограниченными делегированными компетенциями.
6 мая состоялось заседание Комиссии ЦК КПС по подготовке федерации. Было предложено оперативно, до 20 июня, создать центральную комиссию на правительственном уровне для разработки проекта Конституционного закона о федерации. ЦК КПС исходил из того, что конкретный проект организации уже был подготовлен словацкой стороной в результате деятельности рабочей комиссии Президиума КПС, и поэтому целесообразно будет поставить чешских партнеров перед фактом[57]. 15 мая Густав Гусак в качестве вице-премьер-министра представил правительству проект создания Комитета по подготовке федерации. Комитет насчитывал 78 человек[58]. Документ был подготовлен им еще в апреле и теперь получил одобрение. Комитет состоял из Конституционно-юридической комиссии для разработки Конституционного закона по подготовке федерации и Экономической комиссии. Председателем комитета 21 мая формально был назначен глава кабинета Олдржих Черник. Однако решающее значение имела Конституционно-юридическая комиссия. В ее состав входили председатель и 32 члена, из которых 15 представляли чешские земли, 15 – Словакию и 2 – Моравский край. Председательствовал Густав Гусак. Эта Комиссия и стала ареной главных столкновений по вопросу о федерации.
27 июня 1968 г. на 17-м заседании Словацкого национального совета Комиссия СНС под председательством Ондрея Клокоча приступила к обсуждению отчета Франтишека Барбирека о подготовке федерации. Над соответствующим проектом работали три специальные комиссии СНС (по вопросам государства и права, экономическая и отраслевая) при сотрудничестве с Комиссией по вопросам подготовки федерации при ЦК КПС под руководством Виктора Павленды[59].
Чешская сторона предлагала два противоречивших друг другу проекта федерации. Первый, разработанный Зденеком Йичинским и Иржи Гроспичем, предполагал так называемую закрытую, или узкую, федерацию с относительно широкими компетенциями федеральных органов и весьма ограниченным запретом майоризации[60]. Второй, автором которого был Иржи Богушак, – так называемую федерацию свободную[61].
Словацкая сторона отклонила оба предложения. Первое посчитала недостаточным, поскольку оно давало возможность чешскому большинству «задавить» словацких депутатов. Второе – не подходило по экономическим причинам, т. к. не позволяло осуществить планировавшееся выравнивание уровней экономического развития Словакии и чешских земель.
Президиум ЦК КПЧ обсуждал проекты от 10 июля на своем 87-м заседании 16 июля 1968 г.[62] Была учреждена дополнительно специальная комиссия (А. Дубчек, О. Черник, В. Биляк, Й. Смрковски, Ч. Цисарж, Г. Гусак, О. Клокоч), которая должна была обсудить проблемы с политической точки зрения и предложить Президиуму варианты решений. Экономическая и Конституционно-юридическая комиссии провели совместные заседания 16–19 июля[63]. Новый документ, который 22 июля отправили правительству для информации, констатировал, что, по сравнению с предыдущими обсуждениями, было достигнуто согласие в вопросах об ограничении запрета майоризации, учреждении должностей государственных советников в федеральных отраслях с исключительной компетенцией и принципом национальной пропорциональности в отношении количества сотрудников. Другие вопросы (например, способ выборов президента) остались в нескольких вариантах[64].
В свою очередь, 26 июля Президиум правительства обсудил вариант, разработанный на основе материалов от 10 июля. Предполагалось создание двухпалатного Федерального собрания – Палаты народа (примерно из 200 депутатов, избираемых пропорционально по всей стране) и Палаты национальностей (около 100 делегатов, избираемых прямыми выборами поровну от каждой из республик, или делегируемых в таком же количестве обоими национальными советами). Обе палаты имели статус равноправных с прерогативой обсуждать все федеральные законы. Президиум правительства отказался от механического применения принципа количественного равенства министров, однако согласился задействовать его в отношении поста государственного секретаря. Количество федеральных министерств предстояло определить дополнительно. Правительственной комиссии поручалось разработать окончательный проект в соответствии с этими принципами[65].



