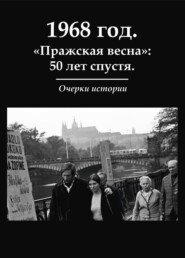
Полная версия:
1968 год. «Пражская весна»: 50 лет спустя. Очерки истории
Коллектив, изучавший проблемы демократии и политической системы нашего общества, возглавил Зденек Млынарж (Институт государства и права ЧСАН)[14]. В начале «Пражской весны» он был избран секретарем ЦК КПЧ и стал одним из лидеров реформаторов. В работе его исследовательского коллектива принимали участие, помимо прочих, юрист Петр Питгарт и социолог Любомир Брокл.
Коллектив по исследованию вертикальной социальной дифференциации возглавлял социолог Павел Махонин (Институт социально-политических наук Карлова университета в Праге)[15]. Он внес заметный вклад в возрождение в стране социологии спустя двадцать лет после ее «отмены» в феврале 1948 г. как «буржуазной лженауки».
Ота Шик, занимавший с 1961 г. пост директора Экономического института ЧСАН[16], был по предложению Дубчека в апреле 1968 г. назначен вице-премьером и координатором экономических реформ. Сосредоточил вокруг себя коллектив экономистов – сторонников преобразований, который готовил экономическую реформу. Научная дискуссия о реформах, естественно, замыкалась определенными идеологическими границами. В рамках этого дискурса была создана исследовательская группа по теоретическим проблемам планового управления народным хозяйством, которую возглавил Карел Коуба (Экономический институт ЧСАН).
Межотраслевому коллективу во главе с Млынаржом, занимавшемуся проблемами развития политической системы, хотя и созданному в последнюю очередь, тем не менее предстояла первостепенной важности, весьма трудная и требовавшая большой осмотрительности задача – подготовить теоретические основы для комплексной реформы существующей модели социализма. Наибольшее внимание уделялось вопросу о взаимоотношениях власти и общества, применению постулата о ведущей роли компартии, т. е. модернизации системы социалистической диктатуры, основанной на монополии власти КПЧ. Размышления на этот счет представляли собой нечто абсолютно новое, что раздражало тогдашнее закоснелое руководство КПСС и «своих», национальных консерваторов. Исследователям предстояло смоделировать альтернативную модель будущего чехословацкого общества.
Работа коллектива явилась масштабной попыткой обосновать изменения системы и стимулировать решительные реформы, готовившие «Пражскую весну». Итоги труда, однако, не были подведены в обобщающем труде или материалах, как это произошло в команде Рихты.
Зримым стимулом для развития процесса демократизации стала Программа действий КПЧ, принятая на заседании ЦК КПЧ 5 апреля 1968 г.[17] Отправной точкой для нее стал текст, над которым с 1967 г. работала партийная комиссия под руководством Млынаржа. Первоочередным в документе стало требование свободы печати. Ведущую роль партии программа трактовала как служение обществу, а не как власть над ним. Но при этом оговаривалось, что указанные перемены будут осуществляться под руководством КПЧ. Программу действий предполагалось включить в партийный устав. В то же время, однако, радикализировавшееся быстрыми темпами общество требовало ускоренного проведения реформ. Важным начинанием на пути к демократизации явились приостановка цензуры в феврале 1968 г. и ее полная отмена 4 марта, первая подобная мера в чешской и чехословацкой истории. 27 июня 1968 г., на следующий день после вступления в силу закона об отмене цензуры, в общенациональных еже дневных газетах был опубликован манифест «Две тысячи слов» (Dva tisice slov), автором которого являлся Людвик Вацулик[18]. Документ возник по инициативе сотрудников ЧСАН. Он представлял собой призыв к активизации чехословацкой общественности против нарастающего давления советского руководства, настроенного резко негативно по отношению к любым изменениям советской модели социализма.
Новый вектор более радикальных перемен, затрагивавших, в частности, и политическую власть, был отражен в манифесте «Накануне принятия решения. О новой чехословацкой модели социализма» (Pred rozhodnutim. O novy ceskoslovensky model socialismu), разработанном коллективом Радована Рихты (опубликован в «Rude pravo» 10–12 июля 1968 г.). Открыто и ясно в нем прозвучало требование, чтобы «каждый гражданин социалистической страны действительно обладал не меньшей и не одинаковой, а именно большей мерой свободы слова и выражения общественного мнения, собраний, союзов, передвижения и перемещения, нежели та, что предоставляло буржуазное общество»[19]. На этой основе должна была формироваться новая модель социализма, отражавшая рефлексию и эволюционные перемены с целью преодоления очевидных недостатков и ошибок прошлого, прежде всего преступных 1950-х гг., и переход от действующей модели социализма советского типа к новому, динамичному, демократическому социализму. Помимо демократизации он должен был еще выдержать конкуренцию с рыночной экономикой развитых промышленных стран Запада. Что касается вопросов осуществления власти, то в манифесте было много общего с «Двумя тысячами слов» Людвика Вацулика. Для советского лидера Л. И. Брежнева оба эти документа были, без преувеличения, бельмом на глазу. Не все активные участники «Пражской весны», включая даже радикальных реформаторов, группировавшихся вокруг пражского горкома КПЧ, оказались способными перешагнуть, хотя бы частично, через свои старые представления о монополии власти КПЧ. Они, однако, оказались в меньшинстве и поэтому возлагали свои надежды на форсированное проведение чрезвычайного XIV съезда партии.
Его подготовка проходила в атмосфере эйфории, вызванной «Пражской весной». Требование созыва партийного форума впервые, еще в начале процесса обновления, сформулировали радикальные реформаторы, которых объединил вокруг себя столичный городской комитет КПЧ. Секретари областных и районных комитетов партии сначала были по преимуществу против. Выборы делегатов чрезвычайного XIV съезда КПЧ проходили на партийных конференциях в течение весны 1968 г. Съезд был назначен на 9 сентября. 21 августа 1968 г., в день, когда Чехословакия была оккупирована армиями стран Варшавского договора, в Праге, в партийной гостинице собрались 50 делегатов съезда и приняли решение созвать 22 августа совещание всех делегатов. Съезд проходил нелегально, втайне от войск оккупантов, в столовой завода ЧКД в пражском районе Высочаны (на востоке столицы). Совещание было открыто в 11 часов 18 минут в присутствии примерно тысячи делегатов, что составляло? их общего числа. К началу работы смогли приехать только 5 делегатов от Словакии. Впоследствии совещание было превращено в чрезвычайный съезд КПЧ. Поскольку первый секретарь партии Александр Дубчек вместе с другими своими соратниками был вывезен в Советский Союз, руководил работой чрезвычайного съезда профессор-экономист Венек Шилган, на которого возложили обязанности первого секретаря ЦК КПЧ. Резолюция съезда категорически опровергла утверждение о существовании контрреволюции и угрозы социализму в Чехословакии. Основным требованием стал немедленный вывод иностранных войск. Съезд призвал коммунистические партии всего мира поддержать три требования – немедленное освобождение всех арестованных чехословацких представителей и обеспечение их беспрепятственной деятельности; немедленное восстановление всех гражданских прав и свобод; вывод с территории Чехословакии всех оккупационных армий. Был избран Центральный комитет (144 члена), причем предусматривалось его дополнение словацкими товарищами. В заключительной резолюции съезда его работа была провозглашена непрерывной. Первое заседание съезда было закончено в 21 час 15 минут, но политическая обстановка в стране не позволила съезду продолжить свою работу. В заседании и выборах не участвовали 1219 из 1543 избранных делегатов, притом из Словакии добраться в Прагу смогли в общей сложности 50 делегатов, т. е. меньше одной пятой части.
* * *Надеждам интеллектуалов «Пражской весны» не суждено было сбыться.
«Весну» сменила долгая «зима», которая закончилась лишь через два десятка лет полным крахом реального социализма, но не крахом идей, протагонистами которых они являлись. Эхо «Пражской весны» звучит и в наши дни, и ныне, когда мы снова испытываем трудности, оказавшись перед глобальными проблемами цивилизации, думается, есть резон оглянуться назад, переосмыслить идейный и теоретический багаж «Пражской весны», чтобы двигаться вперед.
Тимур Агабаевич Джалилов
Бремя сверхдержавы, или фактор экономической помощи в советской политике на чехословацком направлении
1962–1969 гг.[20]
Изучение различных аспектов советской экономической помощи ЧССР в 1960-е – первой половине 1970-х гг. в последние десятилетия практически выпало из поля зрения историков-богемистов. Тема казалась излишне политизированной и вызывала настороженность в профессиональном сообществе (подобная точка зрения до недавнего времени разделялась и автором данной статьи). Показательно, что, когда в 2010 г. вышел в свет подготовленный коллективом Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) сборник документов «Чехословацкий кризис 1967–1969 гг. в документах ЦК КПСС», который в целом был оценен весьма положительно, некоторые чешские коллеги не преминули заметить «излишнее количество опубликованных материалов об экономической помощи СССР Чехословакии»[21]. Казалось, определение объема (сразу скажем, весьма значительного) советской экономической помощи, оказанной ЧССР в период нормализации, до некоторой степени служит оправданием акции августа 1968 г. (что, конечно, не так). Однако колоссальный пласт документов «о советской помощи» в рассматриваемый период (одних только постановлений Политбюро ЦК КПСС «за» насчитывается 180) говорит о том, что эта тема нуждается в научном осмыслении.
Как справедливо заметил активный участник событий 1968 г. З. Млынарж: «Политический успех „Пражской весны“ был обусловлен именно тем, что движение общества „снизу“ и движение в партии „сверху“ встретились и в значительной степени объединились. А это было бы невозможно без многолетнего воздействия реформаторского коммунизма внутри правящих диктаторских структур… Когда о временах Новотного говорят, как о сплошном царстве мрачного сталинизма, в которое в январе 1968 года ворвался светлый луч дубчековской реформаторской политики, то истинная картина 60-х годов в Чехословакии значительно искажается»[22]. Изменения в восприятии чехословацким обществом коммунистического режима начали происходить задолго до событий «Пражской весны». Для «Старой площади» процессы, происходившие в ЧССР, вовсе не были секретом, так же как не могла стать неожиданностью и сама «Пражская весна»[23]. Начиная с 1965 г. словосочетание «кризисные явления» все чаще и чаще используется в материалах ЦК КПСС для характеристики ситуации в Чехословакии. К середине 1967 г. в ЦК КПСС складывается абсолютно четкое понимание того, что ЧССР стоит на пороге серьезного кризиса. В качестве подтверждения данного тезиса можно сослаться на важный, но далеко не единственный в этом роде документ – политическое письмо советского посольства в Праге за II квартал 1967 г. от 20 июля 1967 г. под названием «О некоторых проблемах проведения культурной политики Коммунистической партии Чехословакии». О позиции чехословацких интеллектуалов авторы политписьма говорят следующим образом: «Если прежде элементы, враждебные партии и социалистическому строю, позволяли себе выступать по отдельным вопросам… то теперь мы имеем дело с острым проявлением классовой борьбы против правящей Коммунистической партии. Есть основания полагать, что это не случайный выход отдельной группы… а продукт с большим расчетом подготовленной атаки»[24]. «В сложной политической обстановке устранения последствий культа личности и преодоления экономических трудностей, – информировало посольство ЦК КПСС, – …партии не удалось успешно претворить в жизнь свои решения по идеологическим вопросам. У части партийных и государственных кадров стали наблюдаться проявления растерянности и либерализма… Руководство ЦК КПЧ видело, что аппарат Центрального Комитета не обеспечивает организационного проведения идеологической линии… процессы, вызывающие беспокойство партии, развивались в идеологической жизни страны уже многие годы, а нездоровые явления приобретали хронический характер…»[25] Виновный в сложившейся ситуации в ЧССР авторами документа прямо не назывался, однако вывод напрашивался сам собой: речь шла о первом лице в КПЧ – Антонине Новотном.
Посольство было отнюдь не единственным источником информации для советского партийного руководства. В аппарат ЦК КПСС (бывший на тот момент средоточием властных функций в СССР) стекались сведения, собираемые советскими людьми, занимавшими разные посты при представительствах советских учреждений, центральных газет и журналов, международных организаций и учреждений. Отчеты о пребывании за границей, о встречах с чехословацкими гражданами регулярно писали советские деятели науки и культуры; круг источников пополняла информация чехословацких общественных и политических деятелей, напрямую обращавшихся в ЦК КПСС, и дипломатов соцстран, информировавших сотрудников Отдела ЦК по тем или иным вопросам, и т. д. При этом речь идет не только о документах, направлявшихся в ЦК в силу служебных обязанностей (политических отчетах посольства, служебных записок дипломатов и чиновников различных ведомств, записей протокольных бесед и т. п.). Многие, как советские, так и чехословацкие, граждане считали своим долгом «в неофициальном порядке» проинформировать «Старую площадь» по тем или иным вопросам, поделиться своими соображениями. Важно отметить, что «визави ЦК КПСС» были люди, придерживавшиеся различных политических взглядов: от будущих реформаторов А. Дубчека, Ч. Цисаржа, О. Шика до их непримиримых противников – В. Биляка и Й. Ленарта. Точка зрения, согласно которой Москва слышала исключительно голос «консерваторов-сталинистов» и формировала свою позицию под воздействием их взглядов применительно к периоду, предшествующему «Пражской весне», в корне неверна. К тому же ставшие в будущем ключевыми фигурами «нормализации» В. Биляк, Г. Гусак до «Пражской весны» по многим вопросам выступали с позиций, близких к реформаторам[26].
Если информированность ЦК КПСС о событиях в Чехословакии на сегодняшний день не вызывает сомнений, то определить реакцию «инстанции» (как называли ЦК) на поступавшую информацию весьма непросто. На большинстве документов мы видим характерную резолюцию: «Материал информационный. Использован в работе отдела…» Никаких постановлений Политбюро или секретариата ЦК КПСС, принятых на основании материалов о кризисной ситуации в ЧССР, обнаружить не удалось. Словно некая непроницаемая стена отделяла различные «этажи» ЦК КПСС – аппарат от высшего политического руководства.
И все же, как нам представляется, считать, что Политбюро никак не реагировало на поступающую информацию о нарастающем кризисе в ЧССР, неверно. Однако, судя по всему, реакцию высшего советского политического органа на происходившее в Праге надо искать в иной плоскости. Прибегнув к количественному анализу, мы увидим, что из общего числа постановлений Политбюро за 1964–1967 гг., в той или иной степени касающихся Чехословакии, более двух третей посвящено оказанию экономической помощи (причем из года в год число подобных решений возрастало). В некоторых случаях взаимосвязь политики и экономики поражает. Так было, например, в 1964 г., когда Новотный проявил колебания в оценке итогов октябрьского пленума ЦК КПСС. 16 октября 1964 г. советский посол в Праге проинформировал первого секретаря ЦК КПЧ об отставке Н. С. Хрущёва, а спустя несколько дней, 21 октября, Новотный получил письмо от Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина: Президиум ЦК КПСС и правительство СССР удовлетворяли просьбу чехословацких друзей, согласившись увеличить поставку зерна в ЧССР в 1965 г. на 350 тыс. тонн[27]. Очевидно, щедрость новых советских лидеров должна была помочь чехословацким товарищам «правильно» воспринять произошедшие перемены в руководстве СССР. По нашему мнению, практически за каждым постановлением Политбюро об оказании экономической помощи Чехословакии, принятом в рассматриваемый период, можно увидеть «политическую мотивацию», что не удивительно: вопросы дальнейшего экономического развития становились важнейшим фактором, определявшим динамику политического процесса в ЧССР.
В сравнении с соседними странами Чехословакия в результате Второй мировой войны понесла значительно меньший урон, а ее ориентированная на экспорт экономика компенсировала потерю западноевропейских рынков сбыта открывшимися рынками Советского Союза и стран «социалистического лагеря», нуждавшихся в поставках промышленных товаров из ЧССР в ходе послевоенного восстановления экономики. В результате 1950-е гг. стали «золотым веком» чехословацкого социализма. Неуклонный рост экономических показателей обеспечивал подъем жизненного уровня населения[28]. По данным советского посольства в Праге (а эти данные подтверждаются и выводами современных чешских ученых), личное потребление населения увеличилось в 1953–1957 гг. на 40 %, а фонд заработной платы в 1956–1957 гг. – на 12 млрд крон. Экономические успехи дали возможность чехословацкому партийному руководству купировать воздействие на общество разоблачения культа личности Сталина на XX съезде КПСС и фактически снять с повестки дня процесс реабилитации. В беседах с советскими ответственными работниками чехословацкие товарищи кичились своими успехами и посмеивались над польскими и венгерскими коммунистами, испытывавшими серьезные проблемы.
Однако с началом 1960-х гг. ситуация резко изменилась. На внешних рынках чехословацкая промышленность столкнулась с нарастающей конкуренцией со стороны преодолевших трудный послевоенный период стран. Опережающий рост жизненного уровня населения создал дисбаланс в финансовом секторе, а экстенсивные методы плановой экономики больше не давали результата: все новые и новые вложения в основные фонды не приносили должной отдачи[29]. Третья чехословацкая пятилетка (1961–1965 гг.) оказалась, по сути, провальной – ЦК КПЧ пришлось пойти на пересмотр принятого плана развития экономики.
Советское руководство все чаще и чаще получало сигналы из Праги о нарастающих трудностях в народном хозяйстве ЧССР, преодолеть которые, по словам «чехословацких друзей», без помощи Советского Союза было невозможно. 13 января 1964 г. первый секретарь посольства СССР в ЧССР Ф. М. Метельский сообщал о состоявшейся у него беседе с заместителем председателя Госплана ЧССР В. Винклареком. «В ходе беседы, – докладывал Метельский, – тов. Винкларек заявил, что положение в экономике ЧССР остается очень сложным. Поверьте мне, – заявил он, – я уже около 15 лет работаю в Гос плане и хорошо разбираюсь в этих вопросах, и я пока не вижу возможности оздоровления экономики… Единственная возможность нормализации в развитии чехословацкой экономики – это помощь СССР… В период заключительных бесед по плану и содержанию памятной записки по результатам переговоров Госпланов ЧССР и СССР 15 января советский представитель тов. Бачурин попросил, чтобы работники Госплана ЧССР более реально проанализировали свои потребности и, может быть, снизили некоторые свои просьбы к СССР, так как в ходе переговоров выяснилось, что их удовлетворение в первоначальном объеме или очень трудно или невозможно для советской стороны. Иными словами, нужно сузить концы ножниц между вашими просьбами и нашими предложениями, – сказал он. На это Винкларек в шутку заметил: где сузить? Здесь? И показал на свое горло»[30].
Значительные надежды чехословацкие политики возлагали не только на поставки из СССР, но и на объявленную январским пленумом ЦК КПЧ (27–29 января 1965 г.) экономическую реформу. Суть ее состояла в предоставлении большей самостоятельности предприятиям, стимулировании экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов, создании реалистичной системы ценообразования и т. п. Трудно не заметить определенного сходства чехословацкой экономической реформы со стартовавшими в сентябре – октябре 1965 г. в СССР «косыгинскими» реформами[31]. Возможно, именно в силу этого обстоятельства советское руководство на первом этапе встретило начинания чехословацких товарищей вполне благосклонно. Посольство СССР в Праге, хорошо умевшее улавливать настроение Москвы, в «Информации об итогах январского пленума ЦК КПЧ» от 16 февраля 1965 г. сообщало: «Решения январского пленума ЦК КПЧ кладут начало важным, принципиальным изменениям в системе руководства экономикой страны. Чехословацкие друзья рассматривают осуществление намеченных мероприятий как введение, в сущности, по определению тов. Новотного, новой системы управления экономикой. В решениях январского пленума ЦК КПЧ определены лишь главные направления этой перестройки. Она представляет значительный интерес. В связи с этим посольство полагает целесообразным… внимательно изучать его»[32]. Посольство предлагало направить в ЧССР специалистов, как по партийной, так и по хозяйственной линии, для изучения чехословацкого опыта.
Проблема заключалась в том, что в самом руководстве ЧССР вовсе не было единства в отношении дальнейших перспектив начатой реформы. Реформаторское крыло теоретиков-экономистов (его олицетворял в первую очередь О. Шик – на тот момент директор Института экономики ЧАН, член ЦК КПЧ с 1962 г.) в решениях январского пленума видело лишь первый шаг, за которым в ближайшее время должны были последовать новые меры, усиливающие рыночные механизмы, и в конечном счете всесторонняя либерализация не только народного хозяйства, но всей социально-политической системы. Политикам этого толка ЧССР виделась частью мировой глобальной экономики, СССР же отводилась «всего лишь» роль хотя и важного, но далеко не единственного партнера.
Иной точки зрения придерживались не только консерваторы (будущие «столпы нормализации», такие как В. Биляк, Й. Ленарт), но и центристы, а именно экономисты-практики, группировавшиеся в значительной мере вокруг Госплана ЧССР (председатель – О. Черник) и экономического отдела ЦК КПЧ[33]. Позицию этой части политической элиты изложил 7 февраля 1966 г. в беседе с Метельским заведующий экономическим отделом ЦК КПЧ Б. Шимон: «При определении мер преодоления имеющихся трудностей ряд экономистов, – сообщал чехословацкий функционер, – предлагали более широкий выход на капиталистический рынок с целью включения в международное капиталистическое разделение труда и преодоление на этой основе автакратичности[34] производства и нехватки многих видов сырья и продовольствия. ЦК КПЧ не может согласиться с этими предложениями, прежде всего, по политическим соображениям… С другой стороны, мы имеем неограниченный мировой социалистический рынок. Здесь у нас общие цели и идеология и неисчерпаемые источники развития. Правда, в СЭВе не все идет гладко. Многие вопросы экономического сотрудничества не решаются. Мы еще далеки от свободного движения товаров и рабочей силы на социалистическом рынке, чего уже добились в европейском экономическом сообществе»[35]. «Нас пугает и не удовлетворяет тот факт, – говорил Метельскому 27 апреля 1965 г. начальник отдела перспективной координации планов со странами СЭВ А. Сук, – что советские друзья не дают нам ответа о перспективах развития, и ваши пожелания мы улавливаем в общих чертах. Требования вашей стороны очень расплывчаты, непонятны, что затрудняет нашу работу»[36]. Характерно, что запись беседы с Суком Метельский дополнил следующей справкой: «На основании беседы можно полагать, что т. Сук выражал в некоторых случаях свое личное мнение, а в других случаях – точку зрения определенной группы работников Госплана ЧССР. Однако неоднократное упоминание о том, что эти вопросы обсуждались на коллегии Госплана и изложены в записке ЦК КПЧ, свидетельствуют о том, что друзья придают большое значение поднятым в беседе вопросам»[37].
Судя по всему, члены этой политической группы опасались, что слишком быстрое продвижение по пути экономических реформ приведет к нежелательным политическим изменениям, с одной стороны, и лишь усилит диспропорции в народном хозяйстве ЧССР – с другой. Улучшение ситуации они видели в дальнейшем развитии кооперации и разделении труда в рамках СЭВ и, конечно, в поставках из СССР. При этом не стеснялись прибегать к завуалированной форме шантажа: ЦК КПСС оказывался перед дилеммой – либо советское руководство усилит помощь ЧССР, создаст в формате СЭВ полноценно функционирующую экономическую систему, либо Прага будет вынуждена искать способы решения своих проблем, «интегрируясь в международное капиталистическое разделение труда», тем самым выходя из сферы влияния Москвы…
Пожелания чехословацкой стороны о необходимости более тесной интеграции социалистических стран через СЭВ в значительной мере совпадали с планами советского политического руководства. 6 июня 1962 г., выступая на заседании первых секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий и глав правительств стран-участниц СЭВ, Хрущёв говорил: «…Жизнь настоятельно требует от нас действенных и безотлагательных решений. Дело обстоит теперь так: либо мы смело пойдем по пути дальнейшего сотрудничества и тем самым сделаем новый важный шаг в объединении своих хозяйственных усилий, либо столкнемся с серьезными трудностями, которые могут отрицательно сказаться на развитии мирового социализма»[38]. На указанном заседании и на состоявшейся год спустя, 25 июля 1963 г., аналогичной встрече Хрущёв предложил обширный комплекс мер по интеграции экономик социалистических стран. Основой хрущёвского замысла было создание единого наднационального планирующего органа (некоего Госплана СЭВ) и выработка общего плана экономического развития стран соцлагеря на длительный период.



