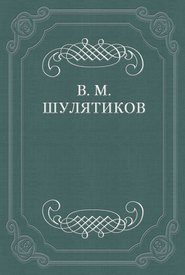 Полная версия
Полная версияВосстановление разрушенной эстетики
Но действительность сурово встретила небесную гостью: венок душистых цветов был сорвал и растоптан; нежные, «девственно прекрасные» черты богини покрылись «обликом сомнений и печали», гимны «красоты» перестали звучать, смененные песнями «душевной муки».
Чистому искусству нет места на «позорище жизненной битвы». Один только терновый венок может теперь украшать чело поэзии. Надсон в ряде стихотворений выставляет себя сторонником «гражданского» искусства. Но уже из приведенной цитаты ясно, что отношение его к «чистой» поэзии далеко не враждебное. Культ красоты уступил позицию «гражданским» мотивам – по его мнению – только в силу печальной необходимости. Надсон с сожалением относится к «разрушенной эстетике». Истинным поэтом, наряду с поэтом-»гражданином», он продолжает считать и жреца «звуков сладких и молитв». Теперь такие жрецы не должны существовать, теперь «эстетика» – отступничество от прямого пути, соблазн «полдороги», – это прекрасно сознает Надсон-гражданин. Но Надсон – сын «усталого», «больного» поколения – нарисовал гордый образ поэта, ведущего современников «в бой е неправдою и тьмою, в суровый, грозный бои за истину и свет», сейчас же рисует иной образ:
Пусть песнь твоя звучит, как тихое журчаньеРучья, звенящего серебряной струей;Пусть в ней ключом кипят надежды и желаньяИ сила слышится, и смех звучит живой;Пусть мы забудемся под молодые звукиИ в мир фантазии умчимся за тобой —В тот чудный мир, где нет ни жгучих звезд, ни муки,Где красота, любовь, забвенье и покой;Пусть насладимся мы без дум и размышленьяИ снова проживем мечтами юных лет, —И мы благословим тогда твои творенья,И скажем мы тебе с восторгом: «Ты поэт!»Надсон, как, «гражданин», горячо протестующий против малейших попыток уклониться в сторону забот о личном отдыхе и покое, начинает ратовать, в часы «унынья», за необходимость отдохновения в «мире красоты». Он уверяет, что стремление наслаждаться «красотой» – признак сильной личности, не. изнемогшей в борьбе за жизнь, то есть поражение объявляет победой:
Не упрекай себя за то, что ты пороюДаешь покой душе от дум и от тревог.………………………………………………………………………………………………Что песни любишь ты и, молча ей внимая,Пока звучат они, лаская и маня,Позабываешь ты, отрадно отдыхая,Призыв рабочего не медлящего дня:Что не убил в себе ты молодость и чувства,Что не привес ты их на жертвенник труда,Что властно над тобой мирящее искусство,И красота тебе внятна и не чужда…Один отрывок недоконченного стихотворения даже намечает программу нового, «свободного искусства».
Не налагай оков на вдохновенье,Свободный смех не сдерживай в устах,Что скорбь родит, что будит восхищенье —Пусть все звенит на искренних струнах,Нет старых песен…«Нет старых песен!..» Да, мы присутствуем пря зарождении новых. В симфонию гражданских» мотивов вплетаются индивидуалистические аккорды. Реализм борется с идеализмом.
Надсон стоит на рубеже литературной «смены». И «старое» и «новое» находят у него отклик себе. Оба борющихся элемента резко обособлены в его лирике. Надсон – реалист, гражданин и Надсон – индивидуалист – это два врага, не желающие слышать ни о каком перемирии между собою, ведущие состязания с переменным счастьем, но бессильные выиграть один у другого решительное сражение.
Мы выше охарактеризовали наличность всех боевых средств, которыми располагали противники. В заключение, чтобы нагляднее ознакомиться с диспозицией сил «наступающей» стороны, приведем известное стихотворение «Мгновение»; автор говорит от лица осужденных на смерть:
Пусть нас давят угрюмые стены тюрьмы, —Мы сумеем их скрыть за цветами,Пусть в них царство мышей, паутины и тьмы,Мы спугнем это царство огнями…Пусть нас тяжкая цепь беспощадно гнетет,Да зато нет для грезы границы:Что ей цепь?.. Цепь она, как бечевку, порветИ умчится свободнее птицы.Перед нею и рай лучезарный открыт,Ей доступны и бездны морские,И безбрежье степей, и пески пирамид,И вершины хребтов снеговые…В наши стены волшебно она принесетВсю природу, весь мир необъятный, —И в темнице нам звездное небо блеснет,И повеет весной ароматной.Остается прожить только до утра; поэт хочет призывать на последний пир друзей, подруг, забыться в восторгах наслаждения, заснуть беззаботно «в объятьях любви», чтоб проснуться для «смертных объятий». Он грозит послать проклятия тому, кто вздумает разрушить очарование «возвышенного обмана».
И да будет позор и несчастье тому,Кто, осмелившись сесть между нами,Станет видеть упрямо все ту же тюрьмуЗа сплетенными сетью цветами…Приведенное стихотворение – красноречивый идеалистический манифест. Цветы, прикрывающие тюремные стены, грезы, позволяющие видеть в царстве «мышей, паутины и тьмы» – царство «звездного неба» и «весны», – как нельзя более удачно формулируют значение «обманов», а пир в тюрьме – это яркая эмблема проповедуемого идеалистами «героизма». «Обман» – оружие бесполезной самообороны против натиска действительности; «героизм» – «мужественное» примирение с эмпирическою безысходностью, – вот вершина «новой» мудрости, резюмировавшей опыт общественных передвижений восьмидесятых годов и пересказанной образным языком поэтического произведения.
V
«Новое» искусство делает дальнейшие завоевания.
«Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности… Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать как хочется, и стало быть – нет и творчества».
Писатель, вложивший в уста одного из своих героев подобное исповедание «новой веры», особенно должен был позаботиться о том, чтобы оправдать «свободу» творчества. На литературную авансцену выходил художник, не только не имевший сказать никакого «пророческого» слова, но и не обладавший запасом чувств и стремлений, необходимо характеризующих гражданина» – прогрессиста своего времени, не заинтересованный даже ролью простого историографа общественных веяний эпохи. Первый раз в истории новейшей русской литературы художник старается приковать внимание широких кругов читателей к скучному миру «сереньких» инвалидов жизни, а не ее протагонистов.
Не открывающий новых социальных горизонтов, ушедший в созерцание единственно только мещанского царства, с его жертвами и «рыцарями на час», сделавший оценку всего «человечества» на основании знакомства, с нехитрыми персонажами названного царства и потому усвоивший шаблонно узкое мировоззрение, он мог сохранить за собой аудиторию не силою «идейности» и убедительности реалистического изображения. Жизнь в «мещанском царстве» пуста, бесцветна, бессмысленна, пошла – это истина старая и общеизвестная; постоянным повторением ее, равно как и повторением однообразных сереньких картин, серенького существования, написанных кистью добросовестного художника, привлекать к себе прочные симпатии читающей публики нельзя. От художника, избравшего неблагодарную задачу бытописателя, скучного уголка современной жизни, требовалось нечто иное.
Автор «Дуэли» и «Степи», «Палаты № 6» и «Скучной истории», «Чайки» и «Дяди Бани» вышел из «хаоса» действительности восьмидесятых годов. Он имел в своем распоряжения средства, обеспечивавшие ему успех. Драма «одиноких душ», которую переживал он, его сверстники, его аудитория, запутавшиеся в трагизме «эмпирической безысходности», направляла его к источнику субъективного творчества. Как, и другие «восьмидесятники», он совершил бегство из Мекки в Медину, от натиска «наступавшей реальности» искал спасения в области индивидуальной психологии; как, и другие «восьмидесятники», и он занялся строительством «нового мира» в дополнение мира действительности.
«Мещанское царство» предстало перед читателями, перерожденное игрой индивидуалистических настроений художника. Чехов – не фотограф его. Он лишь для своих целей выхватывает из его недр персонажи, комбинирует их по собственному усмотрению в определенные группы, ставит в определенное положение. Получается театральное зрелище; на подмостках двигаются фигуры, одетые в надлежащие, отвечающие действительности костюмы; слова и поступки действующих лиц не нарушают иллюзии реальности; автор все время находится за кулисами; он даже старается предуведомить зрителей, что исполняет только режиссерские обязанности. И, тем не менее, зрителей трудно обмануть. Они прекрасно знают истинную цену реализма разыгрывающейся перед ними пьесы. Да, они и собрались вовсе не для того, чтобы поучиться жизни. В даваемых нашим автором представлениях сочувствующий) ему зрители ищут прежде всего искусство подобранных сценических эффектов, тонко задуманных положений, наркотически опьяняющего ансамбля.
Явлениями реального мира Чехов пользуется постольку, поскольку они могут служить для распространения его «я». Заставляя играть персонажи мещанского царства, он играет собственными настроениями.
Смысл провозглашенного им принципа: «свобода личного чувства», как единственно обязательного для художника, понятен. Понятен и смысл осуждения Чеховым «всяких условностей я контрактов с совестью», то есть идейной литературы и литературы «партийной». Для него, действительно, «идейность» в литературе – противоестественна: до того она противоречит всему его психическому складу; чтобы писать на «гражданские» темы, ему нужно было изломать себя, выйти из рамок этой общественной ячейки, к которой он принадлежит, и ассимилироваться с чуждой ему средой. Таких превращений не бывает.
Искусство-игра противополагается отныне искусству «гражданскому», как нечто, уже «сделавшее» свою историю. Тургеневские заветы воплощаются в жизнь. Рассказы, повести, пьесы Чехова – первые «классические» образцы нового рода искусства; если новелла Гаршина говорит уже о приближении к новому литературному genre'y (genre litteraire), то все же Гаршин был полон воспоминаний о прежних временах «гражданственности» и отразил в своих произведениях момент конфликта двух мировоззрений, соответствующих двум эпохам социального развития. Произведения Чехова свидетельствуют, что конфликт окончился, «старое начало» побеждено, «художество» вытеснило гражданственность и пророческую проповедь.
На первый взгляд, впрочем, может показаться, будто Чехов не забывает традиции прошлого, непрочь выступить проповедником труда, активной решимости, служения гражданским интересам, непрочь прояснять общественные проблемы, указывать перспективы дали.
Послушайте, например, какие речи произносятся в «Доме с мезонином».
Говорит художник, от лица которого ведется рассказ:
«Миллиарды людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх… Нужно освободить людей от полного физического труда… Нужно облегчить их ярмо… Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе… Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою их труд, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы работаем только три часа в день, и остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд… сколько свободного (времени у нас остается, в конце концов!»
Послушайте также, что говорит узник «Палаты № 6», Иван Дмитрич, беседуя с доктором:
«…Можете быть уверены, милостивый государь, что настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!»
Это – мысли не сумасшедшего: то же самое высказывает и «неизвестный человек», и доктор Астров, и герои «Трех сестер».
Наконец, как Leitmotiv, в салонах «мещанского» царства вы услышите возгласы: «работать нужно, работать», «я жажду жизни, борьбы, труда!..» И некоторые из обитателей «мещанских» салонов даже делают попытки реализовать свои стремления в деятельности.
Барон Тузенбах («Три сестры») бросает военную службу, намеревается поступить на кирпичный завод. Герой повести «Моя жизнь» меняет звание чиновника на профессию маляра.
Но на самом деле «гражданственность» А. Чехова оказывается мнимой; наличность приведенных мотивов не дает права заключать об его «проповедничестве»… Начать с жажды труда, подвигов и жертв. Чем обусловливается эта жажда? Какие стимулы побуждают чеховских героев – «сереньких», пораженных безволием инвалидов – вдруг проявлять необычайную энергию?
Герой рассказа «Страх» боится всего в жизни и самой жизни; каждая его минута отравлена этой боязнью: мысль об ужасах, скрывающихся за каждым фактом «обыденщины», неотступно преследует его. «Да, голубчик мой, – исповедуется он своему приятелю, – если бы вы знали, как я боюсь обыденных житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтобы не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться и крепко спать ночью».
«Я жил теперь среди людей, – рассказывает о своей «новой» жизни герой «Моей жизни», – для которых труд был обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади… около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, все более проникаясь обязательностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляй от всяких сомнений».
«Буду работать, – заявляет Тузенбах. – Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы придти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же. Рабочие, должно быть, «спят крепко»… И его невеста, Ирина, вторит ему: «как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге… Боже мой, не то, что человеком, лучше быть волом, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается, о, как это ужасно!..»
Труд – как средство забыться от страхов и сомнений, тоски и сплина, труд – как радикальное снотворное средство, труд – как род самоубийства, – вот какой идеал трудовой деятельности выставляют чеховские герои. Если в свое время и Гаршин заставлял своих героев уходить от себя, чтобы спасти самих себя, то есть руководиться индивидуалистическим настроением, совершая акт отречения от «мещанской» неподвижности и бессилия, – все же он иначе, чем Чехов, рисовал и оценивал ту «новую» жизнь, которую решают начать обанкротившиеся на лоне мещанского царства интеллигенты. «Новая» жизнь для гаршинских героев – это цепь страданий; новая жизнь для чеховских героев – это, последовательное притупление нервов. Глухарь в глазах Рябининых – «язва растущая»; рабочий в глазах Тузенбахов – существо, имеющее возможность «крепко спать». В Гаршине говорят одновременно голоса и демократа и индивидуалиста. Чехов, решительный провозвестник эгоцентризма.
От «гражданских» чувств «гражданского» прошлого Чехов принес в литературу лишь обрывки отдаленных воспоминаний, форму без содержания, бесплотный фантом. И он не верит «воспоминанию».
Радикальное снотворное средство при проверке оказывается мало пригодным. Загляните в повесть «Моя жизнь», где обстоятельно изложена попытка использовать данное средство: разве герой повести выходит в конце победителем? Разве ему, надевшему костюм маляра, (удалось уснуть крепким сном?.. Повесть заключается в высшей степени минорным аккордом.
Также мечта о грядущей заре всечеловеческого счастья, подаренная Чехову воспоминанием, неспособно сообщить его «сереньким людям» силу сопротивления натиску действительности. Безусловно верить в «зарю», приветствовать восторженно ее пришествие в будущем может из числа чеховских героев один экзальтированный Иван Дмитрич; другие лишь выражают робкую надежду: заря, быть может, настанет.
Наконец, рассуждение о тяжести физического труда и равномерном распределении его… Мы уже знаем, при каких условиях типичные чеховские герои могут обращаться к трудовой деятельности и что значит для них разделять труд с «ломовиками». Если же Чехов заставляет героя «Дома с мезонином» отметить положение «миллиардов», то получается своеобразная постановка вопроса. Скорбь чеховского героя о настроениях жизни – не скорбь гражданина, а скорбь – художника-индивидуалиста. Не самый факт голода, холода, страданий смущает его душу; все это страшно для него лишь постольку, поскольку не дает почвы для процветания среди «миллиардов», искусств и наук; «весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать», – подумать о душе и есть именно, как выясняется из дальнейшего, заняться искусствами и науками. При современном общественном устройстве все служит мелким и преходящим интересам. Человечество грозит выродиться и потерять «всякую жизнеспособность». Одни художники и ученые составляют исключение из общего правила, раз они служат вечной красоте и вечным истинам. Но таких людей мало, и деятельность их сопровождается надлежащим успехом: «ученых, писателей, художников кипит работа, по их милости, удобства жизни растут с каждым днем… между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным… При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и, чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного». Другими словами, Чехов заставляет своего героя повторить старо-романтические сетования на скорбный удел одиноких «аристократов духа», погибающих среди «толпы», погруженной в «материальные» интересы. Сетования «романтиков» выливались в безнадежную философию Weltschmerz'a. «Воспоминание» говорит Чехову о возможности перерождения «общества», об активной деятельности на пользу перерождения; и Чехов делает поправку к мировоззрению романтиков. Но «воспоминание» сохранилось очень смутное. Нужно только и богатым и бедным согласиться работать по два-три часа в день: тогда прогресс, по заявлению героя «Дома с мезонином», будет осуществлен, то есть создастся почва, благодарная для развития искусства; таким образом, социальная гармония водворится без устранения экономических «противоречий»… А к мысли о необходимости взять на себя часть физического труда, – подчеркиваем еще раз, – чеховского героя привела «индивидуалистическая» необходимость. Высказавши подобную «формулу прогресса», художник не обнаруживает уверенности в справедливости своего взгляда. Герой «Дома с мезонином» ни малейшего желания содействовать осуществлению прогресса не заявляет. Финал речи, выяснившей его profession de foi, не оставляет сомнения в истинном смысле его «гражданственности»: «Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!» – восклицает он, «одинокая душа», пессимистически настроенный «аристократ духа», дав описание участи современных служителей «вечной» красоты. В минуту увлечения он проговорился. «Воспоминание» улетучилось. Плохо спаянная амальгама обрывков воззрений разной ценности и разного происхождения распалась.
Итак, о Чехове как проповеднике «гражданских» начал говорить не приходится; писателем, задумывающимся над социальными проблемами, никак считать его нельзя. Если иногда обмолвится он намеком на «гражданственность», упомянет об общественном вопросе, то сделает это не как «человекоубеждение», а под диктовку соответствующего «настроения».
К людям убежденным он относится с нескрываемым доверием. Он развенчал, например, «неизвестного человека». И как развенчал! Он не объявил его носителем хищнических инстинктов, дерзким parvenu – аферистом или даже душегубом-бандитом, как поступали в аналогичных случаях беллетристы охранительного лагеря. Не прибег он даже к доказательству несостоятельности его миросозерцания. Нет, он низвел его с пьедестала, наделив его психологическими чертами, присущими обитателям «мещанского царства», он сделал его «рыцарем на час», заразив его «индивидуалистическими» настроениями.
Перед читателями человек, погребающий гражданские идеалы во имя «раздражающей жажды обыкновенной обывательской жизни». Какие причины вызвали подобный перелом в духовном мире «неизвестного человека», Чехов отказывается точно определить: может быть, это случилось «под влиянием болезни», может быть, под влиянием «начавшейся перемены мировоззрения», – догадывается «неизвестный человек». Но дело не в болезни и не в перемене мировоззрений, о которой автор ничего более подробного не сообщает и которая вовсе не важна для него. Внутренний перелом, пережитый «неизвестным человеком», отказ от широких задач, – явление типичное, в глазах Чехова, для всей современной интеллигенции. «Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородно верующие, к тридцати – тридцати пяти годам становимся уже полными банкротами? Отчего один чахнет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, в картах, четвертый, чтобы заглушить страх в тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого?» Ответа не дано.
Рассказывается история обычного для «рыцаря на час» опошления. Автор вселяет в духовный мир своего героя, «мещанские» стремления. «Неизвестный человек», почувствовав влечение к любовнице своего врага, грезит о мещанской идиллии тихого счастья «в уголку»: он исповедуется: «Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы счастья, и мне грезилась жена, детская, тропинка в лесу, домик»… «Мне жить хочется!.. Жить, жить! Я хочу мира, тишины, тепла!»
Оказывается, что «неизвестный человек» до сих пор не жил, его личное «я» до сих пор пропадало. И на фоне пробудившихся «мещанских» настроений складывается апология индивидуализма: «я верю в целесообразность и необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»… Я верю, следующим поколениям будет легче и виднее, к их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений, и не только для них». «Неизвестный человек» называет это «бодрой, осмысленной, красивой жизнью». «Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю». Опять «гражданственность» Чехова получает должное истолкование: «осмыслить» жизнь – значит для «неизвестного человека» прежде всего удовлетворить своим эгоистическим побуждениям; непременным условием возможности играть «благородную роль» выставляется воспитание цельной личности, то есть личности, не чуждающейся «обывательских» инстинктов.
В том же духе, то есть с «обывательской» точки зрения, разнес Чехов прогрессистов и другой раз. Его Лихарев («На пути) – «инвалид», и причина, его «инвалидности» заключается в его пренебрежении потребностями личной жизни. Отдаваясь весь идейным увлечениям, он не живет; настоящая жизнь проходит мимо пего. «Мне теперь сорок два года, – делает он собственную характеристику, – а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя беспрерывно томилась, страдала даже надеждами… Я изнывал от тяжелого беспорядочного труда, терпел лишения… Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем… Моя мать вот уже пятнадцать лет носит по мне траур, и мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву»… Одним словом, Лихарев ведет «неосмысленное и некрасивое существование».
Люди убеждения спутаны с толпой разных дядей Ваней и докторов Астровых, этих хилых пустоцветов «мещанского царства»… И бытописатель последнего стоит «одинокий и потерянный», пессимистически настроенный, исполненный «неверия» и агностицизма, – как подобает истинному «восьмидесятнику», – подавленный своими «настроениями», удалившийся в мир искусства игры. Но его пессимизм не отмечен тем трагическим колоритом, который отмечает Weltschmerz других представителей восьмидесятых годов, – бурную, страстную скорбь Надсона и гаршинский пафос ужаса перед жизнью. Перед лицом «эмпирической безысходности» Чехов спасся, успокоившись на неглубоком скептицизме и уравновешенной меланхолии. Его тоска есть, таким образом, компромисс между отчаянием безусловного пессимиста, и «обывательским» примирением с «хаосом» действительности.

