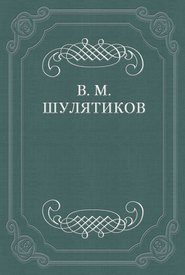 Полная версия
Полная версияВосстановление разрушенной эстетики
Неразвитость общественно – экономических отношения оставляла невскрытым это противоречие. Благодаря данной неразвитости мыслящие «реалисты» не могли выработать классовых пониманий истории. Даже в своей критике «феодальной» психологии они, руководствуясь голосом группового антагонизма, в то же время прибегали к «общим» формулам. «Феодальная» психика объяснялась ими не как необходимое следствие известного классового развития, а как болезненное уклонение в сторону от типа общечеловеческой психики, которое легко можно уврачевать. Мысль о возможности отказа от групповых интересов лежит в основе всех надежд их на будущее, их «утопизма».
Расцвет разночинного индивидуализма не был продолжителен. Хотя, до обнаружения его теоретической несостоятельности и было еще далеко, хотя даже в последующую «сумеречную» эпоху его предпосылки послужили материалом для создания целой научно-философской системы[15], но вскоре уже подорвана была вера в его практическую жизнеспособность: критически мыслящая личность оказалась непризванной властно распоряжаться судьбами истории.
Тем временем на историческую сцену выступили новые элементы разночинной интеллигенции. Виднейшие теоретики решительной схватки с преданиями «феодальной» старины не принадлежали к низшим слоям разночинного общества. Теперь среда мелкого духовенства и мелкого мещанства выкинула из своих недр интеллигентов-пролетариев. Воспитывавшиеся в атмосфере непрерывных бессильных страданий и бессильного озлобления, с детства забитые и униженные, они не разделяли оптимизма первоучителей разночинской догмы. Победителями себя на жизненном пиру они не чувствовали, верой во все спасающее значение «цельной» личности не были проникнуты. Они, напротив, по выражению их самого искреннего идеолога[16], бежали от своей личности и личности каждого отдельного человека, дабы «уйти от страданий».
И спасение от своих личных невзгод они находили в своих демократических симпатиях. Эти симпатии не носили платонического характера. Новые разночинцы-интеллигенты в своей массе стояли ближе, чем: все предыдущие, поколения разночинцев, к народной жизни, были связаны с нею более тесными узами чувства солидарности. В горе «человеческих масс» они стремились растворить собственное горе. Их скорбь вылилась в народнические теории.
В своем бегстве от страдания они создали «философию отчаяния». Присутствуя при зачатках распадения устоев натурального хозяйства в деревне, не видя из-за хаоса падающих обломков, дали будущего, они, эти пасынки разночинской интеллигенции, считают единственным выходом из трагического положения починку и укрепление разрушающегося здания. Но такой выход означал лишь осложнение трагизма.
Если мелкое хозяйство в борьбе с враждебными обстоятельствами держится лишь нечеловеческим напряжением производителя, то желать дальнейшего сохранения старых аграрных устоев – значило лишь приветствовать последние отчаянные усилия гладиатора – мелкого земледельца, гибнущего в безнадежной борьбе.
Народники-разночинцы были сами гладиаторами на жизненной арене, и проповедь их звучала перед лицом новой общественно-экономической эры как древний клич: «Ave, Caesar, morituri te salutant!».
Демонстративный даже по форме реализм публицистических романов «мыслящего пролетариата» и пессимистический натурализм народнических повестей, романов – вот наиболее характерные образцы искусства шестидесятых и семидесятых годов.
В конце семидесятых годов наряду с голосом «народника» громко начинает раздаваться голос иных интеллигентов… Мы подошли к источнику новейшего литературного «перелома», к первому акту «идеалистической» драмы.
II
Эта драма, как сообщает летопись нового литературного движения, имела свой пролог еще в первой половине шестидесятых годов. Действующим лицом пролога явился Тургенев, «сжегший то, чему поклонялся, и поклонившийся тому, что сжигал. И как пролог древних драм давал необходимые пояснения к долженствовавшему развиться перед зрителями действию, так и «отступничество» Тургенева дает многое для понимания новейшего хода литературного развития.
Сожжение прежних кумиров, совершенное им, есть акт, свидетельствующий о наличности общественного конфликта и реакции определенной частя интеллигентного общества, «Сжигающий» Тургенев – это интеллигент-дворянин, повертывающий назад, к заветам «феодальной» старины. «Сжигаемое» – это усвоенные им в эпоху сороковых годов предпосылки разночинской идеологии.
Идя, в продолжение некоторого времени, рука об руку с интеллигентами-разночинцами, учась у них и в свою очередь, развивая отдельные стороны их миросозерцания, выступая выразителями их дум, надежд, стремлений, работая совместно с ними над критикой «романтической» культуры, дворяне-интеллигенты – люди сороковых годов в решительную минуту покинули авангард шествующей вперед интеллигенции. От решительной ломки старых культурных настроений они отказались: «старина» звала их назад, под одеянием прогрессиста в них заговорил человек «старого» психического склада. Когда они стояли перед еще не многочисленными сравнительно рядами разночинцев, разночинцев, уступавших им кое в чем, не посягавших еще на все наследия «отцов» и не доводивших своих выводов до конца, этот человек; дремал. Но он проснулся, как только люди сороковых годов очутились перед сплоченными массами разночинской интеллигенции. Перед этими массами они почувствовали себя чужими людьми, людьми иного мира, иной душевной организации. И они объявили о разрыве со своими прежними сотоварищами. Они, начиная с Герцена и Салтыкова-Щедрина и кончая Тургеневым и Анненковым, осудили «отрицательное» направление разночинцев.
Официальный разрыв Тургенева с «отрицателями» выразился в его ссоре с редакцией «Современника»[17]. Но материал для разрыва накоплялся еще значительно раньше. Тургенев негодовал на «черствость души» разночинцев, заявлял, что они не понимают поэзии. Он проповедовал о необходимости возвращения пушкинского элемента в противовес гоголевскому[18]; последний элемент особенно ценили шестидесятники. Одним словом, он вполне определенно противополагал себя «мыслящим реалистам», как носителям «старых» культурных начал. Впоследствии, когда «разрыв» стал совершившимся фактом, Тургенев прямо охарактеризовал классовое происхождение своих симпатий: «Н. П. (Николай Петрович Кирсанов) – это я, Огарев и тысяча других». А по его собственному признанию, создавая фигуру Николая Кирсанова, он имел в виду выяснить один из типов лучших сынов дворянской интеллигенции своего времени[19]. Именно с «кирсановской» точки зрения он протестовал против господствовавшего направления литературы, против разночинского реализма и натурализма.
«Способности нельзя отрицать во всех этих Решетниковых, Успенских и т. д., – пишет он Полонскому, – но где же вымысел, сила, воображение, выдумка где? Они ничего выдумать не могут – и, пожалуй, даже радуются тому: этак мы, полагают они, ближе к правде. Правда – воздух, без которого дышать нельзя; но художество – растение, иногда даже довольно причудливое, которое зреет и развивается в этом воздухе. А эти господа-бессемянники и посеять ничего не могут»[20].
К первой половине семидесятых годов относится следующее, сделанное им в одном: письме заявление:
«Теперь мода в литературе на политику: все, что не политика, – для нее вздор или даже нелепость: как-то неловко защищать свои вещи, но вообразите вы себе, что я никак не могу согласиться, что даже «Стук-стук» нелепость. Вы мне скажете, что моя студия мне не удалась… Быть может: но я хотел только указать вам на право и уместность разработки чисто психологических (не политических и не социальных) вопросов».
Тургенев провозглашает принцип «аполитического», «асоциального», то есть, выражаясь термином г. Неведомского, «свободного» художества.
И предпосылки этого художества определялись стародворянскими тенденциями его пророка. В противовес реализму «разрушителей» эстетики, он выдвигает апологию «вымысла, воображения, выдумки», то есть в столкновении с интеллигентами-разночинцами пользуется тем оборонительным оружием, которое некогда ввели в употребление интеллигенты-дворяне крепостнических времен. От действительности, где хозяйничают чуждые ему люди, от «правды» он бежит в область родной ему стихии. Пессимистически настроенный по отношению ж реальному миру, он «выдумывает» иной мир. От тревог демократического века он находит успокоение в психологических построениях, в анализе индивидуалистических ощущений и настроений, в игре поэтического воображения.
Возрождается «идеализм» и «идеалистическое: искусство»[21]. Виновнику его возрождения оно не принесло желанного покоя. Разорвав с передовой интеллигенцией, создавая «полуреалистические» произведения, Тургенев чувствовал, что теряет под собою твердую почву. В письмах второго периода его литературной деятельности он часто выражает неуверенность в своем направлении. В минуты откровенности он даже называет такие произведения, как «Стук-стук», «Несчастная», – «уродцами». Ему приходится переживать «душевную драму»: разночинские, демократические симпатии уступают, в его психическом мире, диктатуру стародворянским, индивидуалистическим тенденциям не без борьбы[22]. Правда, эта драма не была особенно тяжелая, не ознаменовалась никакими особенно глубокими вспышками отчаяния: но все же это была драма, осложнявшая пессимизм Тургенева, делавшая малонадежной ту позицию, в которую он замыкался, спасаясь от «громадно несущейся жизни». Некоторые из «Стихотворений в прозе», например, дают достаточно ясное представление об этой драме.
Тургеневский «идеализм», как исповедь писателя, плывшего «против течения», долго оставался своего рода единичным явлением, не находя себе отклика в рядах «молодых поколений интеллигенции». Пролог был отделен от той общей драмы, частью которой он являлся, длинным рядом годов. «Старые» элементы, выделившиеся из состава передовой интеллигентной ячейки, заполненной разночинскими элементами, и не примыкавшие к явно консервативным группам, не в силах были составить самостоятельный агломерат, который бы создал и иное литературное направление. Только с переменой состава интеллигенции, стоявшей на исторической авансцене, они получили возможность приспособиться к благодарной для них почве.
На закате своей литературной деятельности в толпе молодых художников слова Тургенев отметил одного, не похожего на других. Отмеченный им художник не принадлежал к «бессемянникам». Он, по мнению Тургенева, подавал большие надежды как носитель традиции истинного искусства. Это был Всеволод Гаршин.
Личность Гаршина, действительно, говорила о наступлении новых времен в жизни и литературе. Автор «Attalea princeps», «Художников» и «Красного цветка» был знаменосцем новых кадров интеллигенции.
Это – кадры так называемых «восьмидесятников».
Восьмидесятые годы[23] характеризуются первым решительным проявлением энергичной деятельности тех «союзников», на которых возлагались большие надежды интеллигенцией сороковых и пятидесятых годов, – «союзников», которых еще в «реформационную» эпоху приветствовал теоретик «мыслящего пролетариата». «Союзники» сделались господами истории и первым своим дебютом в новой роли заявили о себе с самой невыгодной стороны. Интеллигенты восьмидесятых годов попали в мир «борьбы и наживы», на шумный «рынок», в царство «цифр и расчета». Они на первых порах не видят никакой целесообразности в развитии торгово-промышленного класса. Они видят перед собой лишь «буржуя» и «хищника». Капитализм признается ими «болезненным феноменом, не имеющим будущности». «Действительность» в их глазах получает значение хаотически-беспорядочного процесса. Слепые «страсти» и слепой «случай», кажется им, единственно начинают распоряжаться жизнью общества и отдельного человека.
Вместе с тем, вера в демократические идеалы, выработанная шестидесятниками и семидесятниками, перестает одушевлять интеллигенцию. «Народ», то есть крестьянство, пребывали во тьме «ночи»: попытки внести «свет» в тьму остались безуспешны. Приходил конец «народническим» веяниям. А та часть интеллигенции, которая теперь завладевала общественным мнением, которая теперь руководила судьбами искусства и литературы, унаследовала прогрессивные симпатии лишь как «священные» заветы прежних времен: она не купила этих симпатий ценою интенсивной борьбы с переживаниями «патриархального» и «феодального» строя; она не была связана «страдальческими» узами с «народной жизнью».
Но если интеллигенту-разночинцу восьмидесятых годов не приходилось воспитываться в атмосфере «бессильных страданий», если ему был работой предшественников расчищен путь к дальнейшим поступательным шагам, это не значит, чтобы он вплел новые лавры в венок разночинской интеллигенции.
Напротив, ему пришлось занести на странице истории разночинской интеллигенции первую запись о крупном поражении. Он принужден был объявить себя банкротом.
На самом деле, то оружие, которым интеллигенты-разночинцы боролись некогда против «враждующей судьбы» – светлая вера в силу разума и идеал цельной критически мыслящей личности, – оказывалось в его руках бесполезным. Там, где царят слепые страсти и слепая случайность, разум бессилен. Еще «народники» сомневались в авторитете «критически мыслящей личности». Противостоять же дикому «хаосу» эмпирической действительности, опираясь на этот авторитет, уже совершенно невозможно. И разочарованному в своих силах, прощавшемуся с иллюзиями народнических увлечений, отказывавшемуся находить какой-либо смысл и цель жизни «восьмидесятнику» оставалось лишь воскликнуть устами поэта, ярко выразившего его пессимистическое настроение:
Отверстой бездне зла, зияющей мне в очи,Ни дна нет, ни границ – и на ее краю,Окутан душной мглой невыносимой ночи,Бессильный, как дитя, в раздумьи я стою.Что значу я, пигмей, со всей моей любовью,И разумом моим, и волей и душойПред льющейся века страдальческою кровью,Пред вечным злом людским и вечною враждой?!Попытка разночинной интеллигенции создать свою собственную «культуру», казалось, потерпела неудачу: Здание, воздвигавшееся трудами «мыслящих реалистов», казалось, рухнуло. Разночинная интеллигенция осталась без положительного миросозерцания.
И в эту критическую для нее минуту она прибегла к средству, еще более осложнявшему ее положение: отчаяние слепо и плохой советчик. Очутившись на распутьи, разночинская интеллигенция восьмидесятых годов сделала «культурное» заимствование у своих бывших противников.
Как раз к тому времени эволюция пореформенного хозяйства выкинула на рынок интеллигентного труда большие массы «дворянского пролетариата»[24]. И эти массы обновили «предание старины глубокой», старины, которая считалась навсегда погребенной. Спасаясь от «хаоса» действительности, и не слыша авторитетного, открывающего радужные горизонты слова разночинной интеллигенции, они пошли по проторенной их прадедами дорожке – от мира «правды» обратились к миру «вымысла»… Их примеру последовали разночинцы.
Разрушенная «эстетика» отныне была восстановлена. Идеалистическое искусство, искусство индивидуальных переживаний и романтических порывов вновь получило широкие права гражданства. Правда, идеалистическое искусство потеряло свежесть былых красок; правда, смелости и размаха прежних романтических стремлений оно теперь не ведало; правда, его новые произведения не были отмечены печатью прежней силой творчества. Сохранение полного Status quo ante, торжества реалистического начала – было невозможно. Идеалистическое искусство должно было считаться со многими требованиями реализма. «Романтика» рационализировалась.
«Новое направление поняло, что реализм имеет громадное право на существование тем, что построено огромной частью своего здания на фундаменте действительных требований, на жизненности своих притязаний. Выражаясь наглядно, реализм есть кирпичный остов дома, совершенно еще не отделанного, без крыши, без окон, без дверей. Согласитесь, однако же, что в таком доме еще нельзя жить. Действительно, кирпичный остов есть главная часть будущего здания, но без отделки, без окраски оно не может служить человеческим жилищем. Идеализм есть именно то нечто, что суровое основание здания превращает в приятное помещение для человека, так созданного, что одним необходимым никак не может довольствоваться»[25].
Так формулируется теория новой «идеологии».
«Борец за идеализм» своего времени объясняет, что он «не имеет никаких корней ни в сороковых, ни в шестидесятых годах», то есть в эпохе расцвета эстетики и эпохе торжества реализма; и потому он считает возможным «к обеим эпохам отнестись одинаково объективно». Другими словами, он объявляет, что не обязан смотреть на «эстетику» глазами «мыслящего реалиста». Он отказывается видеть в эстетических увлечениях один из тормозов, сильно задерживающих ход прогресса, одно из противообщественных преступлений. Обращение к области искусства эстетики, идеализма, по его мнению, – удел прогрессивно настроенных, но мало энергичных людей.
«Человек, не настолько энергичный, чтоб мысленный процесс его выразился каким-нибудь вещественным образом, находит опору своему тоскливому настроению в идеализме. В вечных созданиях искусства он наталкивается на тот идеальный мир чистой красоты и совершенства, которого никогда в серенькой пошлости обыденной жизни не встретить. Тут он попадает в область, где всякое его справедливое требование не остается без удовлетворения, в область, где нет корыстных расчетов, где единственным мотивом являются прекрасные чистые цели»[26].
И удаление в мир «возвышающих обманов» в известные исторические моменты признаются «объективно» обязательным, естественно необходимым.
«Во времена общественной приниженности, общественной неурядицы, от общества не зависящей, искусство и художество находятся в большом процветании потому именно, что большинство развитых людей находят в них отдохновение от грустных дум и примирение со своими высшими требованиями». С. Венгеров приводит пример интеллигенции сороковых годов. Он называет «как нельзя более естественным» образ действий этой интеллигенции, «потратившей все лучшие силы свои, весь запас природных дарований» на художественное творчество. В художественных произведениях, – поясняет он, – люди сороковых годов воспроизводили «душевную боль свою, стон своего наболевшего сердца». Идеализм получает высшее оправдание.
«Поэзия, да, поэзия была необходима нашим «отцам», иначе они бы унизились до участия в разных несправедливостях, до забвения истинного понятия о человеческом достоинстве и требовании осмысленного человеческого существования».
Эстетика объявляется – в известных случаях – спасительницей и хранительницей прогрессивных тенденций. Противоречие взгляду на нее, высказанному шестидесятниками, получается полное.
Реабилитация эстетики покупается ценою другого противоречия их взглядам – ценою реабилитации людей сороковых годов, точнее – дворянской интеллигенции названной эпохи.
Прекраснодушные баричи – «Обломовы», какими они являлись в глазах «мыслящих реалистов», характеризуются теперь как глубоко несчастные прогрессисты, парализованные в своих высоких стремлениях гнетом «безвременья». К подобной реабилитации обязывает разночинцев-восьмидесятников сделанное ими культурное «заимствование!». Усвоивши выработанный «феодальной» психологией прием – примиряться с трагизмом «эмпирической безысходности» на почве «идеалистических» построений, разночинцы-восьмидесятники неминуемо должны были предать забвению социальную грань, отделяющую их от носителей «идеалистического начала» в дореформенную старину, должны были поставить себя и их в одну плоскость, оценить свою и их идеологию с отвлеченной «общечеловеческой» точки зрения… Отсюда протест «восьмидесятников» против «партийности» в художественной литературе и требование, чтобы литература служила «общечеловеческим» целям, изображала «общечеловеческое», «общечеловеческие» типы»[27].
Оправдывая эстетическую реакцию в прошлом, г. Венгеров оправдывал ее тем самым и в настоящем. Текущий исторический момент как раз принадлежал к разряду «известных случаев»: «новые» интеллигенты не были «энергичными» людьми, «новая» эпоха была эпохой общественной «приниженности». «Поэзия необходима нам, иначе мы погибнем», – вот какую мысль доказывают все рассуждения апологета «идеализма».
Остов «сурового здания» начинает отделываться, внутренность его обставляется экзотической обстановкой. Появляются даже портреты великолепных предков на стенах.
III
«Страстный ценитель искусств, он всею душою любил поэзию, живопись и музыку, никогда не уставал ими наслаждаться»[28]. Когда ему приходилось встречаться с людьми прежнего закала, осуждавшими «эстетику» как вредную роскошь, он вступал с ними в горячий спор, доказывая противное. Отрицание искусства означало в его глазах лишь «односторонность» развития.
Перед нами один из новых обитателей и вместе с тем из архитекторов достраивающегося и отделывающегося здания. Всеволод Гаршин, – речь идет о нем, – отведал и ценил воздействие «возвышающих обманов». Он подчеркивал именно «спасительную» миссию эстетического начала. «Идеализм» имел для него значение как нечто такое, что должно примирить с жестокой «правдой» реальных отношений, внести гармонию в смятенный противоречиями жизни душевный мир ставшего на распутьи интеллигента.
Художник Рябинин задается вопросом о цели и смысле своего призвания: чьим интересам, какому общему делу он служит. Его наблюдения над действительностью не дают ему основания получить сколько-нибудь утешительный ответ. «Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы… и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах?..» Мысль о бесцельности своего существования неотлучно преследует его. Ему рисуется один выход – совершенно забыться в области напряженного художественного творчества: «Несколько времени полного забвения, – мечтает он, – ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? – во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина – мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность; ты создаешь себе новую, в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество, и ложь, по-своему, независимо от жизни». Область творчества, по определению Рябинина, – это «мир сна, в котором живут только выходящие из себя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся пред тобою на полотне».
И Гаршин показывает нам человека, успокоившегося от тревожной «реальности» в «мире сна». Это – Дедов жрец «красоты», «гармонии», «изящного». Он обходит «тяжелые впечатления» жизни, упиваясь поэзией природы. «Природа не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники». Он идеалист-пейзажист. Его идеалистическое искусство «настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу».
Гаршин сам, по свидетельству лица, близко его знавшего[29], не чужд был «дедовских» увлечении. Он был поклонник природы, «чрезвычайно чутко относившийся ко всем ее красотам, ко всем ее проявлениям: книга природы была для него – великолепная книга, каждая страница которой доставляла ему наслаждение». Но к Дедову Гаршин относится отрицательно.
Создавал его образ, и также образ Рябинина, автор «Художников» как бы ведет борьбу с самим собою – со своим «идеализмом». Наслаждение «красотами» природы он объявляет неуместным – при наличности общественного «настроения» служения культу «гармонии и изящества» – признаком черствого эгоизма; вполне забыться в «мире сна» могут только буржуазные натуры; а интеллигенты прогрессивного типа лишены этой возможности.
Гаршин показал тщету попытки последних жить «независимо от реальной жизни», построив «новый мир» силой творческого воображения. Рябинину не удалось отдохнуть в «монастыре». Его «сон» посетили видения действительности, и притом столь тяжелые, что дальнейшее успокоение осталось немыслимым.
Идеалистическому индивидуализму противополагаются «гражданские» мотивы. Но «гражданственность» Гаршина носит своеобразный характер – не тот, какой она имела в шестидесятые годы.
Как мы выше отметили, хаос, сопровождавший предварительные завоевания капитализма, помешал «восьмидесятникам» определить направление пути исторического развития. Из опыта «восьмидесятники» не вынесли никакого представления об общественном прогрессе. Они имели в своем распоряжении старую «формулу прогресса», но осветить тайники «хаоса» эта формула им не могла помочь: несостоятельность ее уже доказывалась всеми фактами действительности.
Не обладавшие определенным общественным миросозерцанием и притом далеко стоявшие от «народной жизни», «восьмидесятники» могли вдохновляться лишь смутно-прогрессивными настроениями и вспышками гражданских чувств.
На их гражданственности лежит печать «индивидуалистической» эпохи. Не сознанием солидарности с известными общественными группами, а потребностями индивидуальной психики определяются их «общественные» стремления. Проявить себя «гражданином» и альтруистом – значит для них, прежде всего, внести гармонию в свой смятенный душевный мир.

