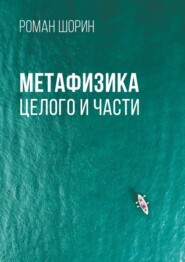
Полная версия:
Метафизика целого и части
Если же издание печатает нового или малоизвестного автора, то обязательно предварит публикацию ремаркой вроде: «Предлагаем вашему вниманию текст начинающего, но многообещающего сочинителя». Иными словами, станет апеллировать к будущим регалиям автора, а заодно к потребности всякого образованного человека смотреть вперед, проявлять прозорливость. И быть готовым сказать про того, кто внезапно стал популярным: «А я его давно приметил», – произведя таким образом благоприятное впечатление на окружающих своим провидческим даром.
Однако коль скоро мне как читателю предложено заинтересоваться текстом нового автора из утилитарных соображений, он и прочитан будет соответствующим образом. Я заранее отнесусь к содержащимся в нем идеям как к прикладным, не самодовлеющим. В таком случае я, скорей всего, упущу в тексте главное.
Разумеется, кто-то пишет именно для того, чтобы позабавить аудиторию. Или принести ей какую-то другую пользу. Тогда – всё в порядке. Но в том-то и дело, что в интеллектуальных изданиях будто бы поднимаются темы, важные сами по себе. Это же не книга кулинарных рецептов. Скажем, философский текст предполагает читательское отстранение от личных забот и интересов, дабы свершилось нечто автономное, самоценное например акт мысли, понимания, если не что-то большее. Однако редакционные предисловия к таким текстам настраивают, увы, на банальное потребление.
Впрочем, если вступление не будет носить зазывающего характера, оно, так сказать, само себя аннулирует. Непременная цель всякого вступления – привлечь к сочинению внимание, побудить его прочитать. И здесь обнаруживается взаимосвязь между воспроизведением цифр, а также других внешних данных и намерением заинтересовать.
Оказывается, не предусмотрено никакой возможности привлечь чье-либо внимание к тому, что значимо само по себе, а не в силу каких-либо сторонних моментов. Оказывается, мотивация связана с апелляцией к сугубо внешним достоинствам (чего бы то ни было), и другого не дано. Не зря моралисты, призывающие творить добро потому-то и потому-то, очень слабы с точки зрения личного примера: им неведомо добро, взятое в своей нефункциональности, но только оно и является собственно добром. В общем, если нет внешней причины что-то делать, то, соответственно, нет и возможности мотивировать на эти действия.
На обложке книги сообщают о тиражах, какими она уже вышла, например, в других странах, подавая количество как знак качества. Для продукции среднего уровня такой подход, пожалуй, сгодится. Количество здесь действительно говорит о качестве. Однако в случае с подлинным произведением искусства цифры не значат ничего. И тем не менее именно они задействуются для того, чтобы сообщить что-то о произведении искусства тем, кто еще с ним не ознакомился.
Если от текстов перейти к живописи, то в презентации картин уже традиционно фигурирует их стоимость. В итоге зритель не столько созерцает, сколько старается выискать в картине то, что сделало ее такой дорогой. К сожалению, данный подход к продвижению произведений искусства нельзя объяснить чьим-то невежеством. Ведь даже если самому умному из нас предложить придумать способ, благодаря которому люди обратят внимание на живопись неразвлекательного характера, он в своем месседже тоже скатится к чему-то вроде денежного эквивалента картины. Как вариант, расскажет об интересной судьбе этого полотна, в свое время украденного, но потом найденного, или, скажем, сообщит о довольно двусмысленных отношениях между художником и моделью, изображенной на рисунке.
Яркой иллюстрацией странной подмены внутреннего внешним (сущностного – посторонним) является традиция подведения итогов года в социальных сетях. Перечисляя события чисто внешнего порядка, довольно образованные люди, даже можно сказать интеллектуалы, подают дело так, будто сообщается нечто сущностное.
При этом берут числом, приводя разнообразные цифры: количество прочитанных докладов, проведенных конференций, опубликованных статей и т. д. А ведь что мерится цифрами, то есть суммируется? Как правило, нечто однотипное, повторяющееся, укладывающееся в ряд – заурядное.
Еще раз подчеркну, что все это говорится отнюдь не в осуждение. Наоборот, интеллектуалов и всех остальных можно понять. Ведь что легче подводится в качестве итогов, то мы и подводим. Что подводимо, то и подводится.
Итоги подводятся из числа того, чему важно быть предъявленным вовне и получить отклик со стороны. Неудивительно, что первой в итоговые списки просится всякая шелуха. Это как с заданием рассказать, «как я провел этим летом», которое дается школьникам. Дети, чувствуя, чего от них ждут, перечислят в своем рассказе все, что угодно, только не то, что их действительно потрясло, изменило, остановило, вырвало из рутины.
Что легче всего оценить со стороны? То, что более всего на эту «сторону» ориентировано. Разного рода внешние проявления. Неслучайно внешние проявления так легко сканируются, измеряются и исчисляются – именно они и предназначены для измерения и исчисления.
Есть еще один нюанс. Сообщения о «достижениях» внутреннего порядка таковы, что им не верится. Допустим, я сообщу, что за этот год я стал скромнее. Но ведь это довольно нескромно – выставлять свою скромность напоказ. Ну хорошо, не скромнее, а мудрее. Однако не в том ли мудрость, чтобы не говорить лишнего? Еще вариант: стал добрее. Но, насколько подсказывает жизненный опыт, чем человек становится добрее, лучше, свободнее – тем меньше это заметно для него самого (тем меньше он обращает на это внимание, потому что вообще меньше обращает внимания на самого себя).
Философски говоря, перемены внутреннего порядка – это в известном смысле замена одного «я» на другое. И для нового «я», появившегося вместе с такой переменой, новое является естественной средой, не требующей акцента на себе. Я становлюсь добрее ровно в той степени, в какой для меня естественно быть более добрым. Получается, что я стал добрее, но для меня это не событие, не факт, который можно запротоколировать и в таком виде поделиться с другими.
Основой осмысленности всякой самопрезентации является то, что мы презентуем свои внешние характеристики и качества. Собственно, внешнему миру от нас только это и нужно. Сообщи мы ему что-либо из своей внутренней жизни, он бы не знал, что с этим делать. Возник бы когнитивный диссонанс.
К тому же события или опыты самодовлеющего порядка не встают в ряд, не нанизываются на общую нить, не складываются в фактуру. Неприложимы к ним и внешние измерительные или оценочные шкалы. А внутренних измерительных или оценочных линеек не бывает. Даже помещенные внутрь они останутся внешними.
Всё, что мы делаем не ради сторонних целей или эффектов, необъективируемо и потому не захватывается средствами познания. Сказанное относится и к тому, что есть само по себе. Именно оно вкупе с тем, что мы делаем без расчета на дивиденды, составляет нашу внутреннюю жизнь. И вполне закономерно, что о проживаемом не напоказ трудно – до невозможности – что-либо сообщить. Да и намерения такого не возникает: внимая чему-то ради него самого либо предпринимая что-то не ради сторонней цели, мы, соответственно, не «закладываем» и присутствия аудитории, которой нужно быть в курсе происходящего с нами. Аудитория – это и есть та самая сторона, с которой видно в нас лишь то, что являет себя наружу.
Потому-то, как было отмечено выше, единственная возможность передачи внутреннего – это его перелицовка на манер внешнего. Только это будет оцифровка неоцифровываемого. Соответственно, она будет оцифровкой чего-то другого, чем неоцифровываемое было подменено. В результате там, где цифры не имеют никакого значения, мы начинаем ими сыпать, стараясь не замечать абсурдности ситуации.
Невозможность, совпадающая с ненужностью
Безграничное (бесконечное). Давайте составим о нем какие-нибудь суждения, замечания, комментарии.
Мне, например, приходит в голову такое: безграничное – это единственное, что есть. Или вот еще: безграничное ни с чем не соотносится. Ну и третье соображение: наблюдатель безграничного невозможен. Ведь не имея границ, оно, стало быть, не оставляет места ни для чего и ни для кого иного.
Конечно, можно набросать еще какие-то тезисы о безграничном. Однако сказанного достаточно, чтобы перейти к более интересному вопросу. Он таков: не являются ли предложенные умозаключения тем, что и так ясно? Ясно до или без выяснений?
Скажем, то, что кроме безграничного ничего больше нет, прямо вытекает из его безграничности. Сразу же содержится в ней. Нужно ли на это дополнительно указывать? Навряд ли.
Или обратимся к положению, согласно которому наблюдатель безграничного невозможен. Это же практически само собой разумеется. Нужно ли об этом заводить особую речь? Скорее, фиксация этого обстоятельства только смутит, посеет сомнения.
Далее у меня такое предложение: слова «и так ясно» заменить на «не имеет значения». Все суждения, которые мы составили о безграничном, не имеют никакого значения. Можно ли так утверждать?
Полагаю, вполне. Возьмем тот же тезис, согласно которому безграничное ни с чем не соотносится. Имеет ли это значение? Причина, по которой безграничное ни с чем соотносится, состоит в том, что соотноситься ему просто не с чем. Оно не соотносится с тем, чего и нет. Одно дело – не соотноситься с чем-то существующим, и совсем другое – не соотноситься с ничем. Имело бы значение подметить первое, но никак не второе.
Итак, в самом начале я составил про безграничное несколько суждений, выглядевших логичными, разумными и справедливыми. Затем обнаружил, что все это «и так ясно», то есть не требует какого-то специального выявления. После чего пришел к выводу, что все это не имеет никакого значения. Самое время сделать следующий шаг.
Если само собой разумеющимся выступает ничего не значащий пустяк, то, выходит, само собой разуметься здесь, в общем-то, и нечему. Как и нечему быть «и так ясным».
То, что безграничное – единственное, что есть, и ни с чем не соотносится, как и то, что наблюдатель безграничного невозможен, – псевдофакты. Их нет ни в эксплицитном (постигнутом), ни в имплицитном (само собой разумеющемся) виде.
Эти псевдофакты могли бы стать полноценными фактами при одном условии. А именно, если бы вдруг оказалось, что они касаются не-безграничного. Тогда бы, как это ни удивительно, их значение резко возросло. Нечто имеет пределы, однако является единственным, что есть. Нечто имеет пределы, однако ни с чем не соотносится. Наконец, нечто имеет пределы, однако его наблюдатель невозможен. Чувствуете, как разгорается интерес? Действительно, мимо такого уже не пройдешь. Такое сразу обращает на себя внимание. Подобно важной, дельной, существенной информации. Или подобно сведениям, которые требуют оперативной проверки и интерпретации.
Другое дело, что невозможно, чтобы имеющее пределы было единственным, что есть. Единственным, что есть, может быть только безграничное. Таким образом, мы снова возвращаемся к псевдофактам, ведь единственность безграничного – их классический образчик.
Безграничное не оставляет места для наблюдателя. Что упущено, если это не оказалось «и так ясным», не уразумелось само собой? Ничего. Что упущено, если это не оказалось понятым? Тоже ничего. А раз так, значит, нечего было понимать. Нельзя же по ошибке, не разобравшись, что беспредельное не оставляет места для своего наблюдателя, ненароком начать его наблюдать.
Вообще-то, мы так и делаем. Ненароком наблюдаем безграничное. На самом деле, конечно, мы наблюдаем всего лишь искусственно созданное в нашем уме образование, которое, пусть оно и помечается нами как «безграничное», является ограниченным, схватываемым объектом. Так что этот пример не опровергает сказанного.
Что ни подметь про безграничное – это неинтересно, несущественно, неинформативно. Вроде банальности или тавтологии. В свою очередь, что ни подметь про то, у чего есть границы, это обязательно будет иметь хоть какое-нибудь значение, вызывать пусть слабый, но интерес.
Сообщить что-либо про безграничное – задача, как выяснилось, не из легких. И это – мягко говоря. В свою очередь, всегда найдется, что сообщить, по поводу того, у чего есть границы. Даже самый мелкий факт, который мы добудем про конечное и очерченное, будет по-своему важен. И фактов про конечное и очерченное добыть можно много, очень много. То, у чего есть границы, способно буквально завалить информацией о себе.
Похоже, именно имеющее границы и является тем, про что можно собирать разнообразную фактуру. Нечто может быть истолковано и описано именно в силу наличия у него границ. Собственно, его описание будет не чем иным, как описанием его протяженности, длительности и т. п.
Нет ли взаимосвязи между тем, что конечное, сколь бы ни были узки его пределы, – это огромное поле для исследования, и тем, что оно оставляет площадку для нас, его интерпретаторов и исследователей? Если да, то следует признать наличие еще одной взаимосвязи. Выходит, место рядом с безграничным не предоставляется нам не только в силу его безграничности, но и в силу того, что понимать или изучать в нем буквально нечего. И будь мы его наблюдателями, наши исследовательские способности (навыки производить умозаключения) остались бы невостребованными.
Про безграничное понимать нечего. Кстати, не потому ли, что его как бы и нет? Отсутствие пределов – это еще и отсутствие того, у чего (у кого) они отсутствуют. Речь, конечно, не о небытии, а о не собираемости во «что-то».
Есть конечное, а бесконечного – нет. В том смысле, что отсутствие пределов не является определяющим фактором, фактором нащупывания, уловления. Конечному есть внутри чего быть. Оно есть внутри своих границ. Зайдя с несколько иной стороны, выражусь так: зафиксировать пределы всегда есть у чего. Пределы всегда чьи-то. В свою очередь, фиксировать отсутствие границ не у чего. Не на что указать, как на не имеющее пределов.
Итак, нет границ – значит нет предмета для рассуждений. Выяснять нечего, когда выяснять не про что. Но вот вопрос: не является ли факт, что в случае с безграничным что-либо понимать не про что, очередным псевдофактом? То есть тем, что незачем понимать, поскольку понимать тут нечего?
В завершение вернусь к уже звучавшей идее: наша невозможность быть наряду с безграничным корреспондирует нашей ненужности быть одновременно с ним. Безграничное не просто не оставляет для своего свидетеля ниши. Оно, так сказать, и правильно делает, что не оставляет. Оно не оставляет такой ниши, в наличии которой не было бы никакого смысла. Прямо сейчас это обстоятельство видится мне важным. Хотя, скорее всего, это тоже так себе обстоятельство.
P.S. Для тех, кто отозвался на понятия «безграничное» и «бесконечное» как на математические и решительно отказался следовать предлагаемой логике.
Математика занимается так называемой количественной бесконечностью – бесконечными рядами, бесконечномерными пространствами, множествами из бесконечного количества элементов. Речь же шла о так называемой качественной бесконечности (странно, конечно, говорить об этом после того, как установлено, что речь шла ни о чем, а точнее, не о чем-то).
Концепт безграничного, который развенчан выше вместе с развенчанием самого этого развенчания, можно одновременно назвать и философским, и проще чем философским, поскольку он интуитивно улавливается практически любым более или менее развитым человеком. Безграничное как подобие бытия, не встречающего иного себе, то есть бытия абсолютного. Безграничное как одновременно и единое, и единственное. Именно про него я пытался сообщить, что его нет (нет как «чего-то»). Впрочем, так ли важно, что именно оказалось тем, чего нет?
Внутреннее дело
Когда рассказываешь всем о своей влюбленности (любви)? Пока она еще только зарождается. Схожим образом именно на период первых шагов в освоении какого-нибудь ремесла или искусства приходится «трезвон» о своих занятиях всем друзьям и знакомым.
Или, скажем, охотно делятся тем, что веруют в Бога, лишь на этапе неофитства. Чем глубже мы «втягиваемся» в любовь, в ремесло-искусство или религиозную веру, тем больше они становятся нашим внутренним делом. А чем больше они становятся нашим внутренним делом, тем меньше мы о них говорим.
Я стал ходить на занятия по боевому искусству. Чем не повод рассказать об этом знакомым? Ведь это поднимает меня в глазах как мужчин, так и женщин. Первые будут знать, что со мной лучше не связываться, а вторые – что, наоборот, быть рядом со мной – значит быть в безопасности. К тому же на фоне рутины повседневности эта новость – действительно новость, то есть сообщая ее, я делюсь новой информацией, обогащаю окружающих знаниями. На текущий момент я был на занятиях по боевому искусству всего два раза. Стало быть, мне пока что ведома лишь внешняя сторона этого мастерства. А она – внешняя сторона – буквально просится быть выраженной в словах и транслированной вовне. С точки зрения владения искусством, которым мне вздумалось заняться, я – новичок. Другими словами, дистанция между этим искусством и мною пока что существенна. Оно для меня – некий внеположный объект, и как субъект я обязан его описывать, делать о нем сообщения для таких же, как я, субъектов.
Я познакомился с женщиной и сходил с ней в кафе. В тот же вечер я сообщил об этом своим приятелям. А назавтра еще и коллегам, а также родственникам. Почему я так поступил? Все просто. Потому что я знаю об этой женщине ничтожно мало. Иными словами, потому что она для меня – часть внешнего мира. Пусть я уже испытываю по отношению к ней какие-то эмоции (получувства), она все еще находится «на одной доске» с моими приятелями, коллегами и родственниками. Она релевантна, соразмерна им. Поэтому рассказывая приятелям об этой женщине, я не совершаю ничего странного, ведь Бог, как известно, велел делиться. Однако когда через пару месяцев приятели напомнят мне о моем рассказе: «Кстати, ты же недавно познакомился с женщиной. Как продвигаются ваши дела?», я промолчу в ответ либо ограничусь дежурным «Да все нормально». Ведь наши с ней дела продвинулись в область, которая является нашим с ней внутренним делом.
Ну и, раз уж я упомянул Бога, разовьем третий сюжет. Я обратился в веру. В какую – это уже детали, главное: отныне я верую в Бога. Это событие? Еще какое. А раз событие, то о нем можно и нужно рассказать. Но что делает мое пришествие к Богу событием? Как это ни странно, условность, непрочность и попросту смехотворность моей веры. Или, иными словами, то, что Бог для меня – всего лишь большой Другой; кто-то особенный, но все равно из внешнего мира. А раз Он – из внешнего мира, внешний мир вправе знать, что я теперь в Него верую.
Опять же, как новообращенный я пока что вижу в Боге главным образом какие-то второстепенные аспекты. И именно они становятся темами моих рассказов. Казалось бы, по мере углубления моей веры должно поменяться лишь содержание моих сообщений. Их качество, а не количество. Однако если я – не лицемерный святоша, то по прошествии времени я стану все меньше рассказывать окружающим меня людям о своих отношениях с Богом. Пока не перестану совсем. Прежде всего по причине отсутствия этих самых отношений. Нет-нет, вы не на то подумали: я по-прежнему верующий, только Бог из вненаходимой сущности превратился в то, чему невозможно противопоставиться даже чтобы поговорить. Ведь мы общаемся и вообще взаимодействуем лишь с тем, что стоит напротив нас (либо ставится напротив нас нами). В моем сознании Бог переселился из внешнего мира во внутренний, а там наша разнесенность по разные стороны уже не столь существенна: мне уже не так обязательно быть его субъектом, а ему – моим объектом.
Итак, внутренние дела и почему мы о них не рассказываем. Во-первых, дело, утаиваемое от других, и внутреннее дело – это не одно и то же. Внутренним будет такое дело, для занятия которым нет ни одной сторонней причины. То есть дело, важное само по себе. Отсутствие сторонних причин означает, что, занимаясь этим делом, мы не берем в расчет внешний мир или учитываем его минимальным образом. Соответственно, это вынесение за скобки распространяется и на обитателей внешнего мира – тех самых собеседников в лице приятелей, коллег, сослуживцев, родственников или так называемой широкой общественности.
Во-вторых, мы сращены с тем, что является нашим внутренним делом. Внутреннее дело не распадается на делающего и собственно дело. Мы одно с нашим делом, если оно внутреннее. Мастер боевого искусства – это оно само, принявшее характерную стойку. Речь идет, конечно же, о моменте боя или тренировки. Когда мастер боевого искусства стоит в очереди за молоком, он – человек, стоящий в очереди за молоком. Хотя кто знает…
Мы не видим в своем внутреннем деле предмета для разговора, потому что прежде всего не видим в нем собственно предмета, объекта, «чего-то». А раз внутреннее дело не выступает для нас чем-то, то и мы не выступаем по отношению к нему кем-то – в том числе рассказчиком о нем, его описателем и т. п.
«Давайте познакомимся. Я – инженер, применяю на практике законы теплопроводности. А на досуге изучаю английский. Еще я не курю». Никто же не скажет в ответ: «А я пытаюсь освободить себя от всего привнесенного в меня извне, чтобы из чистоты откликнуться на зов бытия». Вместо этого мы говорим что-то вроде: «Я перевожу книги». Или: «О да, я тоже на досуге учу английский».
При этом мы ничего не утаиваем: желающий познакомиться с нами стремится узнать про нас именно то, что́ мы такое применительно к окружающему и, в частности, непосредственно к нему.
Разумеется, желающие составить о нас представление не откажутся и от информации, которая лично для нас будет иметь сугубо внутреннее значение. Например, что мы верим в Бога. Ведь если так, то мы, стало быть, ведем себя прилично, не буяним, не мусорим, то есть неплохи, скажем, в качестве соседей по дому. Но какие сведения им точно не нужны, так это наши «внутренние дела», взятые в отрыве от своих возможных внешних проявлений.
Мы неинтересны внешнему миру взятые в те моменты нашего бытия, когда внешний мир неинтересен нам. Что, в общем-то, вполне согласуется между собой. Еще бы: ведь когда он нам неинтересен, мы ему ничего не предлагаем, мы не ставим его имени в поле «копия», отправляя письмо самому себе по своему внутреннему делу.
Маленькая поправка состоит в том, что если миру и интересно наше безразличие к нему, то лишь в разрезе своего внешнего проявления. Впрочем, всякий, кто активно проявляет вовне свое безразличие к внешнему миру, демонстрирует, скорее, его отрицание. А за отрицанием чего-либо стоит не что иное, как нужда в нем. Настоящее безразличие к внешнему миру, возникающее тогда, когда мы занимаемся своими внутренними делами, никак себя в этом мире не проявляет. Ведь как может проявить себя вовне то, что упраздняет саму эту область – «вовне»?
Имеется прекрасная фраза «Это вас не касается». Она как нельзя лучше относится к внутреннему делу или – шире – ко всему тому, что не имеет опосредованного значения. Скажем, если я поступил по-честному, чтобы заслужить похвалу, то мой поступок имеет опосредованное значение, а если я поступил по-честному, чтобы поступить по-честному и точка, то не имеет. Причем в данном случае «вас это не касается» не имеет никакого уничижительного оттенка. Ведь если вы не брались в расчет при совершении какого-то действия, то вам оно ничего и не даст. Стало быть, вы ровным счетом ничего не потеряете, если не проявите к нему интереса или если вас о нем не проинформируют. Короче говоря, мы не транслируем вовне свои внутренние дела не оттого, что нам жалко, не от жадности. Просто это бессмысленно.
Есть, конечно, люди, которые навязчиво заявляют свои внутренние дела во внешнее пространство. Это лицемеры и ханжи. И заявляют вовне они отнюдь не внутренние дела, а всего лишь то, что выдают за таковые.
Есть и такие, кто пытается залезть нам в душу, мотивируя это тем, что им, дескать, жутко интересно. Это мошенники и манипуляторы, пытающиеся подольститься к нам в корыстных целях. Самое интересное, что в душу лезть не надо, она незамкнута, как незамкнуты и наши внутренние дела. Соответственно, лезет в душу именно тот, кто не видит этого факта и незамкнутости чужд.
Раз уж затеяна типологизация, упомянем также и о тех, кто, собственно, стал нашим внутренним делом. В их отношении представляется важным подчеркнуть следующий момент. Точно так же, как мы не рассказываем о своих внутренних делах посторонним, мы не рассказываем о них и людям, ставшим нашим внутренним делом. Они же внутри, а не снаружи.
Однажды я побывал в гостях у семейной пары, и вы сейчас узнаете, почему это первое посещение оказалось заодно и последним. По всей квартире: на различных полочках и поверхностях, на стенном ковре, на мебели, включая, разумеется, и притягивающий магниты холодильник, – стояли либо висели фотографии этой пары с подписями «Наша любовь навеки», «Созданы друг для друга», «Любим друг друга», «Навсегда вместе», «Я и моя половинка» и дальше в этом духе. Таким образом, любовь этих двоих друг к другу была внешним делом – не только для посетителей их жилища, но и для них самих. По большому счету, говоря кому-то «я люблю тебя», мы считаем, что в средствах коммуникации еще есть смысл, хотя их предназначение – передача данных между обособленными сущностями.

