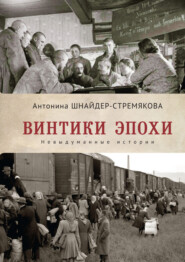скачать книгу бесплатно
– А Ирма?
– Ей две операции сделали. На голове.
– И?..
– Врачи обнадёживают… Если откроет глаза и узнает нас, всё будет хорошо. Так говорят врачи.
– Мы в Прага просиль, чтоб умьирать в одьин дьень.
– Надо надеяться. Вам что-нибудь принести?
– Нет.
– Может, фрукты, сок?
– Лутше кефьир.
– Что у Вас болит?
– Ничьего не больит.
– Тогда пойду. Завтра опять зайду. Если что, мобильник под подушкой.
В палате лежал он с говорливым молодым человеком. Ему подтягивали, как обвисшую бельевую верёвку, ежедневно ногу. Он страдал. Томас недопонимал его и переспрашивал. Больной ворчал: «От— нерусь проклятая!» Это незлобивое ругательство окончательно определило решение Томаса.
* * *
Ирма, будто на неё натянули вязаную шапочку, лежала с туго перебинтованной головой. В себя пришла она только на третьи сутки. Узнала сына и, вспомнив, едва слышно прошептала «То?..»
– С Томасом всё хорошо, – опередил её Костя. – Он будет ходить. Тебе трудно говорить?
Веки утвердительно склеились.
– Тогда молчи, всё будет хорошо.
Она всё понимала, но говорить не могла. Вошла Наташа, что-то шепнула, Костя кивнул, и она удалилась так же неслышно, как пришла. Ирма слабо пошевелила пальцами. Сын слегка сжал их, с трудом узнавая выразительные, со сливовым разрезом глаза, коротко сообщил: «Это налёт». Томасу, начинавшему передвигаться на костылях, в свидании отказывали под предлогом, что «волнения могут оказаться ядом для больной».
Они свиделись через месяц. Томас узнал забинтованную голову— сердце ёкнуло, тело покрылось холодным потом… Заметив его в дверях, она сбросила с колен одеяло и шагнула навстречу. Он протянул руки, и по этажу гулко рассыпались костыли. Она поддержала его, чувствуя теплоту рук, дыхания, глаз.
– Давайте помогу, – подошла к ним сестра.
Словно боясь потеряться, они молча вглядывались друг в друга. Наконец, Ирма отстранилась, взяла его с сестрой под руки, и они добрались до постели. Её голосовые связки обретали силу, но говорила она тихо. Томас, несмотря на множество ушибов и переломов, смотрелся и бодрей, и веселей.
* * *
Стриженая голова, отраставшая завитками младенца, красила Ирму ничуть не меньше, чем раньше, но беспокойство вызывал тихий и робкий смех, однако приход лета они встречали заметно окрепшие. Варвара помогала по дому, Григорий расчищал дорожки, по которым ежедневно прогуливались больные. Ломаные-переломанные кости Томаса благополучно срастались.
– Как на собаке, – смеялся Костя.
– Как на кошке, – поправлял Петруша.
– Не важно. Важно, что врагов, по словам Достоевского, у честных людей больше, чем у бесчестных.
– Спасибо, сынок, обнадёживаешь, – Ирма чувствовала слабость и шум в голове.
В начале осени Томас и Ирма переписали на Костю с Наташей фирму и с грустью покинули Россию. В Германию летом съезжались к ним дочь и внуки Томаса, а также семья Кости. В большом родительском доме гости занимали пустующую половину. Несмотря на головные боли, Ирма помогала внучкам Томаса осваивать русский язык. Упражнялась в языке и старушка-свекровь – говорить на русском с Томасом становилось нормой.
В углу большого зала оформили макет – уголок провинциальной России. Томас часто играл «Времена года» Чайковского и «Сердце, тебе не хочется покоя…» Ностальгирующие звуки разносили тепло и добрую память, что свидетельствовала о неотвратимом конце этого нелёгкого, но состоявшегося счастья…
Вместо эпилога
Осень двух тысяча Н-го… года я проводила на курорте Баден-Баден.
И вдруг увидела девочку из детства!.. Скакалкой она владела так же виртуозно, как та 10-летняя, чей недосягаемо красивый образ навсегда отложился в памяти. Совпадало всё: манеры, сливовые глаза, волнисто-пушистый от природы волос и ровная смуглость, от которой я, 5-летняя, с трудом отрывала взгляд.
«Странные видения…» – подумала я и крепко зажмурилась. Открыла глаза – девочка та же и прыгает так же. «Значит, всё со мною в порядке», – успокоилась я и начала выискивать тех двоих, что могли быть её родителями…
За столиком кафе-мороженого сидят Он и Она, что молча поглядывают на попрыгунью. Так ведут себя, чтобы не отличаться от коренных немцев и не привлекать внимание, иностранцы. Минут десять наблюдаю и, наконец, осмеливаюсь подойти.
– Здравствуйте!
Молчание.
– Извините, мне нужно спросить.
Молчание.
– Вы из России?
– А что? – не выдерживает мужчина.
– Вы знаете Ирму?.. – называю фамилию и сибирской городок.
Удивлённые лица живописуют…
– Не хотите ли прогуляться? – учтиво спрашивает молодой человек на чистейшем русском.
И мы отправляемся к набережной. Его звали, как вы уже, видимо, догадались, Петруша – точнее, Пётр Константинович. Он женился на внучке Томаса, что хорошо и с приятным акцентом говорила на русском.
Мы обменялись визитками, и вскоре в трубке раздался незнакомый голос девочки из детства, которую я воспринимала когда-то очень взрослой и потому следила за ней робко, исподтишка.
Потомок далёких римлян из немецких земель, что нынче принадлежат Франции, Ирма доживала в Германии, а её немецкие предки провели более двухсот лет в холодной России – стране, что не признала русскую кровь Томаса, но его правнучка признаёт Родиной только Россию.
Куда вырулит её судьба? Бог весть!.. Жизнь непредсказуема и часто всего лишь – «проба». Знать, через сколько «проб» предстоит пройти, никому не дано. Главное – выстоять, не сломаться, продолжить и обновить жизнь…
1.08.2009
Рулетка жизни
(повесть-хроника немецкой семьи из Украины)
Довоенное детство
Найдётся ли русское ухо, что не слыхало о шахтёрском Донбассе? Да какое там русское, нерусское – тоже! Здесь, в провинциальной Горловке, жило когда-то много немцев – потомков тех, что ещё при Екатерине II выехали в Россию.
В мае 1932-го в одной из таких семей, что жила на втором этаже престижного дома МВД[4 - Министерство Внутренних Дел], родилась сероглазая девочка. Папаша, молодой милиционер не менее молодой страны, что называлась СССР, против имени Амалия возражать не стал, потому как в то время рулетка жизни крутила безмятежное счастье.
Себя, трёхлетнюю, Маля помнила хорошо: у мамы с папой всё братика или сестрёнку просила – одной скучновато было. Те переглядывались, посмеивались: «Будут тебе и братики, и сестрёнки – только, чур, нянчиться будешь!..»
Денег, чтобы купить ей родственную душу, у них, однако, всё не хватало. В 1938-м ей исполнилось шесть. Утром в день её именин необыкновенно счастливый папа поднял Малю на руки, подарил красивую куклу, поцеловал и сказал фразу, что на всю жизнь запомнилась: «Немного позже будет тебе ещё один подарок – братик, а, может, и сестрёнка».
Высокая на руках папы, она притянула родителей за шею. Мама с того времени стала быстро поправляться, и к лету в их семье появился некрасивый красный комочек, который оказался ещё одной сестрёнкой. Особенной любви к ней Маля не чувствовала (её и человеком-то назвать было трудно), но раз обещала нянчиться, нянчилась – люльку качала, погремушкой тарахтела, рядом сидела, чтобы (не дай Бог!) с кровати не упала. Время шло – комочек хорошел. Краснота сошла, глазки очистились. А когда беззубый ротик растянулся в улыбке, восторгу Мали не было конца, и в ней возникло то трепетное чувство, что при первом же писке заставляло бросать любое занятие.
Так прошло лето.
Отапливались они углём, что высокой чёрной горой лежал во дворе. Сидеть на его недосягаемой верхотуре было верхом блаженства: бросать оттуда в задиристых мальчишек чёрные камушки было значительно легче, там в считанные минуты она превращалась в индейца. Окриком из окна второго этажа сгоняла её с той верхотуры мама Рита, отмывала и, выливая чёрную воду, слёзно просила «к углю больше не подходить». Маля обещала, но, как только оказывалась во дворе, обо всём забывала и к любимой, не досягаемой для мальчишек верхотуре ноги неслись сами собой.
К осени рулетка счастья взяла вдруг да и – сломалась: вечером пришли какие-то дяди в шинелях и увели папу. Маля и мама плакали, папа печально молчал, маленькая Лиля таращила на руках мамы глазёнки – того и гляди, тоже захнычет.
Из хорошего дома их выгнали.
Эту первую в жизни несправедливость Маля почувствовала кожей и с того времени враз стала серьёзной.
Жили теперь они втроём на руднике, где добывали ртуть, – в землянке с маленькими окошечками вровень с землёй. Мама Рита уходила на работу – девочки оставались одни. Люди с улицы корчили, бывало, страшные рожи и кричали: «Враги народа! Вон!» Бывало, стёкла выбивали. Те ды?ры Маля, как взрослая, подушками потом затыкала. Вообще-то была она помощницей. Однажды до прихода мамы пол земляной вымыла, после целую неделю возюкались, правда, с раскисшей грязью, но ничего – подсохло ж!.. Отец, которого она успела подзабыть, вернулся через год. Путь в милицию ему теперь был заказан, и он устроился на шахту мамы – «Комсомольскую».
Дочерей воспитывали не столько родители, сколько госучреждения: Лилю – детские ясли, Малю – детский сад, но его она возненавидела лютой ненавистью. Как-то за обедом подняла она руку и попросилась в уборную, но воспитательница, вся такая из себя строгая, прикрикнула, и Маля от испуга в штанишки наложила. С этим добром и домой отправилась – мама на неё ещё и накричала.
А вот папа!..
Он любил её и разные игрушки покупал. Только не держались они – всегда хотелось знать, что там, внутри. Принёс он как-то двухцветный мячик. Два дня она хвасталась, в третий пошла на речку – самой искупаться, заодно и мячик искупать, а он плавал-плавал да и уплыл. Она потом долго плакала. Любимых дочек папа закалял по-своему – в дождь раздевал до трусиков и выпускал во двор. Они бегали по лужам и кричали рифмованную несуразицу: «Дождик, дождик, лей, лей, ни-ко-го не жалей!», «Дождик, дождик, пуще, вырастет всё гуще!», «Дождик, дождик, перестань, мы поедем в Еревань!»
Жизнь всё тяжелела – всегда хотелось есть.
Послала её как-то мама в столовую каши купить. Пока домой донесла, всю и съела. Опомнилась с пустым котелком в квартире и, глядя в мамины глаза, заплакала…
Перезимовали трудно, и весной в поисках лучшей жизни папа перевёз их на бричке в барак на территории шахты – Маля сидела сзади, ногами всё болтала и песенки напевала.
Было это в пятнадцати километрах от милой и любимой маленькой землянки. От тоски по ней она однажды с маленькой Лилей отправилась её проведать. Пришли, сиротливо возле постояли, у колонки напились и по солнцепёку поплелись назад – Лиля всю дорогу хныкала.
Родители с работы пришли – солнце за горизонт спряталось, а дочек нет и нет. Папа с мамой по всей округе бегали, кричали, искали. Когда они, держась за руки, колобочками выкатились в вечерних сумерках из-за деревьев, мама с папой кинулись к ним, как к воскресшим, – плакали, тискали, ругали, смеялись.
Девочки подрастали – привыкали к коммунальному бараку… к разговорам-сплетням, тревожным и тихим… к ругани женщин… к общей кухне, где нередко перепадало и что-нибудь вкусненькое…
В сентябре пришла пора в школу.
Школы, как и детского садика, Маля боялась и потому всё из папиной руки рвалась. Оказалось, зря – училась легко и хорошо. В конце года отличникам вручали похвальные грамоты, но Мале похвальную грамоту не дали – оказалось, причиной тому был папа, которого когда уводили «шинели».
Это был второй урок несправедливости.
Третьим уроком, самым длинным и беспощадным, была война.
В августе 1941-го эвакуировали военкомат. Отца призвали не сразу, а по списку в обычной школьной тетради, которую заполнял военком. Мама с Лилей и только что родившейся девочкой лежали в постели – провожать папу, кроме Мали, было некому. Прощались, будто навсегда… В трамвае домой исходила Маля в слезах – от жалости. Ту солёную горечь в глазах и во рту ощущала всю жизнь: прошлась эта горечь по ней печальной рулеткой…
Начинался голод. Люди взламывали магазины и растаскивали то немногое, что в них оставалось. Всё закрывалось. Школы тоже. Хлебный паёк выдавался только семьям шахтёров. Когда мама с новорожденной уходила за хлебом, Маля с Лилей оставались одни. Однажды, когда мама ушла, явились милиционеры и приказали покинуть барак: с минуту на минуту должны были взорвать оцепленную шахту. Жильцы спешно покидали опасную зону— Маля с Лилей тоже. Навстречу им бежали орущие и в голос рыдающие женщины – без хлеба, и среди них мама.
– Ты что, Маля, без одеяльца? – кричала она, будто важнее всего было одеяльце, а не то, что нашла дочерей живыми и невредимыми. – Малышке ночью будет холодно, замёрзнет!
Ни слова не говоря, Маля бросилась назад, к бараку. Милиционер пытался её задержать. Она увернулась, и он вбежал в комнату уже вместе с нею, но помог унести одеяльце и тёплые вещи. Метров сто отбежали и – бабахнуло.
Темнота полыхала взрывами. Прижавшись друг к другу на траве под клёнами, слушали они, подрёмывая, устрашающую музыку ночи. Горловка вымирала. К уцелевшим стенам с пустотами вместо окон никто, кроме Маргариты с детьми, не вернулся. Плохо знавшая русский, она не читала газет и не слушала радио – ждала, когда всё уляжется.
Знакомые растворились. Крепчали холода. Вместе с ними крепчала и ненависть к немцам. Маргариту спасало, что её принимали за татарку. Однажды она встретила местного еврея, и он посоветовал:
– Сгинешь здесь с детями. Уходить тебе надо. Недалёко есть станция «Фенольная». Кохда-то рядом с нею была бохата немецка колония «Нью-Йорк». Може, от того богатства шо и осталось – сходи…
Судьбою двигала война
И Маргарита решилась… Собрала узелки и с тремя детьми отправилась в путь – не знала, что неприятель во всю разгуливал уже по русской земле. Линию фронта перешли, будто и не было войны. Сели в тени отдохнуть, и вдруг – два военных.
– Пух! Пух! Куда идёшь?
Только и сумела понять, что не немцы они, – не знала, что в «голове» немецкой армии шли итальянцы и румыны. В штабе Маргариту выслушали, дали ей мешок с продуктами и послали к коменданту бывшей колонии «Нью-Йорк». В бараке за колючей оградой ей с детьми выделили двухъярусную кровать. Внизу с грудничком размещалась Маргарита, наверху – Амалия с Лилей.
Кормили в столовой – два раза на дню. Всё б ничего, да Маргарита угодила в больницу. Без мамы 9-летняя Маля подхватила малярию. От холода тряслась она наверху, а 6-летняя Лиля, калачиком ножки, раскачивалась внизу. Сидит, бывало, турчанкой, и, как маятник, туда-сюда… Собачкой выла – сестру и себя жалела. Чужие тёти поили их, кормили и укрывали – любили, значит. И она их любила, в кишках от любви аж ныло… Маргариту выписали через месяц, и вскоре Маля с Ли-лей начали оживать.
Зиму 1941-го (такой лютой зимы старожилы давно не помнили) перебивались попрошайничеством. Новорожденная всё кричала – молочка, видать, не хватало. Однажды Маргарита проснулась – комочек молчит. Притронулась, а он холодный, и горько подумала, что рулетка сработала в пользу старшеньких…
На похоронах плакали больше для приличия.
Девчонки целыми днями могли теперь христарадничать… Поверх коротких пальто завязывали тёмные шали и в свисавший конец складывали подаяния. Забегали домой, выгружались, чуть-чуть отогревались и опять убегали. С наступлением тепла много съестного находили также в степи: щавель, цветочки клевера, «заячью капусту», «калачики»…
Люди закопошились в земле… Засадила огород и Маргарита. Время казалось мирным – без взрывов и ужасов бомбёжек. Маргариту взяли уборщицей в комендатуру – в топливе и питании, как раньше, они теперь уже не бедствовали. А когда её перевели на консервную фабрику, зажили почти что богато.
В первые дни войны призвали в армию мужчин, и, когда в январе 1943-го началось наступление Советской Армии, женщины и дети российских немцев оказались меж двух мясорубок. Беспощадный барабан войны требовал выбора, а решиться было, ой, как непросто: своими они считали и тех и других. Оккупация означала однозначное пособничество и шанса на выживание не оставляла. Ржа войны разъедала и разъединяла, однако душам глубоко было наплевать, чья это ржа – русская или немецкая. До хрипоты доказывая самим себе очевидную нелепость: «Мы, что ли, в войне виноваты?», женщины беспомощно разводили руками и прикусывали языки.
Вскоре пронёсся слух, что немецкое командование решило перебросить на запад всех жителей оккупированной территории. Дети не понимали – матери рассудили, что так будет лучше.
В морозное утро Маргарита отправилась, как обычно, на работу. Непривычно пустынные улицы настораживали. Оказалось, ночью по секретному предписанию срочно двинулся с места обоз с российскими немцами – про её избушку, стоявшую на отшибе, никто не вспомнил. С плачем бросилась она в полицию: что делать? У кого ей с детьми просить защиты?
Такой бешеной скачки меж голых деревьев по горным кручам они ещё не знали. От страха вывалиться из саней дети сидели молча. Как разжались вцепившиеся в сани пальцы и ослепила снежная пыль, не поняли, только – кувырк! – и сани полетели под обрыв. Отделались, слава Богу, ушибами и ссадинами, больше всех пострадала сама Маргарита.
Длинный обоз из российских немцев, что опережал армию на целый месяц, догнали они в Бережанах, и с того времени жили на колёсах. Только освоятся – поступала команда двигаться дальше. Летом 43-го занесло их в Ивано-Франковскую область. Десять относительно спокойных месяцев провели они в богатой до войны колонии Ландестрой. Маргарита работала поварихой при комендантском пункте.
В полях вызревали хлеба, в садах поспевала черешня. Осенью купались в изобилии фруктов, комендант даже решил устроить праздник урожая. На высоком столбу в центре площади был закреплён венчик из живых колосьев, внутри которого заманчиво болтались червячки домашней колбаски, но до них никто так и не дотянулся. Время казалось счастливым, сытым и мирным. Маля скакала верхом на лошади и по-детски была счастлива.
На знание немецкого языка по решению Вермахта «фольксдойче» (Umsiedler) должны были сдать тест, после чего получали немецкое гражданство. Весной 1944-го по всем фронтам началось наступление русской армии, и всем «фольксдойче» было приказано двигаться на запад.
Маргарита с детьми боялась повторения голодных переходов и потому всю неделю стряпала и готовила сухари, в последнюю ночь зажарила даже гуся. Упакованные продукты стояли у порога. Боясь, что о них снова забудут, решила уточнить время отправления и зашла с детьми к старушке, что жила в другой половине дома. Едва вошли, как Карпаты озвучились пулемётными очередями. От криков и огненных всполохов они застыли у порога.