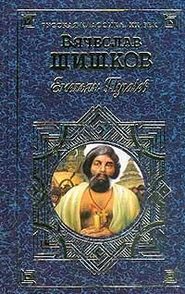 Полная версия
Полная версияЕмельян Пугачев, т.2
Сбежавшие из Пензы пред вступлением Пугачева в этот город воевода Всеволожский, его товарищ Гуляев и два офицера были захвачены толпой Иванова в имении помещика Кандалаева. Их отправили к Пугачеву на суд, но по дороге в деревне Скачки конвоиры заперли арестованных в амбар и там сожгли. А два пензенских секретаря, Дудкин и Григорьев, тоже сбежавшие от Пугачева, были повешены толпою Иванова в селе Головщине.
Спасаясь от Пугачева, все они угодили в плен к разъяренным толпам. И как знать! Сдайся они на милость мужицкого царя, может быть, все остались бы целы-невредимы. И таких случаев народной мести было немало. За короткое время в одном только Пензенском уезде так или иначе пострадало до 150 помещичьих семейств, или до 600 человек.
Однако Емельян Иваныч Пугачев вряд ли целиком виноват в тех подчас излишних жестокостях, которые творились его именем, но без малейшего его участия.
Если внимательно всмотреться в грозные события, быстро развернувшиеся на правом берегу Волги, то можно с ясностью видеть, что пугачевское движение теперь утратило почти всякое организационное начало и вылилось в форму движения стихийного.
Да оно и понятно. Лежавшие к западу от правого берега Волги великорусские губернии, по которым спешным маршем проходил Пугачев, это не то, что мятежная столица Берда, где мужицкий царь полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая Военная коллегия. Это мудрое государственное учреждение, возникшее волей Пугачева, сразу положило предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности и какого-то порядка. В Военную коллегию являлись за приказами пугачевские полковники и атаманы, они без ее повелений не смели пикнуть. Военная коллегия вела весь распорядок в армии, коллегия руководила всем народным движением, и почти ни один сколько-нибудь заметный народный мятеж не ускользал от ее внимания.
Потерпевший поражение на Урале и разбитый под Казанью, Пугачев бежал на правый берег Волги с малой толпой, всего в полтыщи человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней. И не было времени ему одуматься, чтоб снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить ее для окончательной схватки с докучливым врагом.
И все пошло самотеком. В руках Пугачева ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачев сугубо страдал. Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси, зачиналось пугачевское движение без Пугачева, вне его направляющей воли.
Как уже мы видели, от центральных пугачевских сил отделялись толпы и, без ведома своего царя, устремлялись на самостийную работу.
Зачастую подобные толпы возникали сами собой в разных местах. Участники их в глаза не видали Пугачева, – что им мужицкий царь – они сами Петры Федоровичи! И набеглых Петров Третьих – разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, канцеляристов Сидоровых, поповичей Преклонских – можно было насчитать по России немалое количество. Все они Петры Третьи или его полковники. Но сам Пугачев не имел о них ни малейшего понятия, они тоже знали его только понаслышке.
А в Новороссийской губернии даже объявился император Иван Антонович[63], шлиссельбургский узник, с младенческих лет заключенный в Шлиссельбургскую крепость и там давным-давно убитый. Этот самозванец разъезжал в богатом экипаже и всех приходящих к нему щедро награждал деньгами. «Меня хотели убить, Екатерина выпустила манифест о моей ложной смерти, – взывал он к народу, – но всемогущий Бог спас меня. Я ваш император Иоанн». Темные попы валились пред ним на колени, служили о его здравии молебны.
В маленький городишко Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых, хорошо вооруженных крестьянина. Оба – грозные обличьем, заросшие густыми бородами.
Один из них, Петр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре:
– Я – царь ваш, миряне, Петр Федорыч Третий! Великое воинство идет за мной.
Легковерный народ только того и ждал. В народе только и разговору было, что о царе-батюшке, потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся.
– Ой, батюшка! Ой, свет ты наш! – завопили окружившие всадников крестьяне.
Как водится, ударили в набат. Горожане, окрестные жители и помещичья дворня стали сбегаться на базар, воевода и все начальство страха ради скрылись. Сразу скопилась шайка вольницы, город подвергли разграблению, побито было до восьмидесяти человек народу, преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильникам сопротивление.
Из Инсара «Петр Третий» (он же Евстафьев) увел толпу в Троицк, жители которого сразу покорились самозванцу, приволокли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воевода Столповский, его товарищ князь Чегодаев и управитель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты, имущество их расхищено. Далее толпа на телегах, верхами или пешком, с дубинками, косами, топорами повалила за своим «Петром Третьим» в Краснослободск, затем в Темников и, разбив эти города, стала приближаться к Ардатову. Около Керенска он был разбит.
Действовал также со своей толпой литейный мастер Инсарского железного завода Савелий Мартынов. В его команде были заводские рабочие, русские и мордовские крестьяне. Ими были разгромлены помещичьи и казенные заводы Сивинский, Рябукинский, Виндреевский и Троицкий винокуренный. Толпа мастера Мартынова выросла до 2000 человек, но в конце концов была разбита.
Работала также команда из двенадцати человек какого-то вахмистра, говорившего по-польски; он объявил себя посланцем государя Петра III. К нему присоединились многие однодворцы, пахотные солдаты и крестьяне. Они разбили город Керенск и Богородицкий монастырь. Когда служили в монастыре молебен с провозглашением многолетия Петру III, подгулявшие бунтовщики, стоя в церкви, стреляли из ружей. Монахи со страху попадали на пол.
Начал организовываться отряд повстанцев и среди рабочих тульских оружейных заводов. Возникали «колебания» и «замешательства» и в других местах Тульской провинции. Но мерами правительства движение это вскоре прекратилось. «О тульских обращениях» Екатерина писала в Москву князю Волконскому: «Слух есть, будто там, между ружейными мастеровыми, неспокойно. Я ныне там заказала 90 000 ружей для арсенала; вот им работа года на четыре, – шуметь не станут».
Было много и других мятежных отрядов, но все они действовали, так сказать, очертя голову, без дисциплины, без должного порядка, да и возглавлялись людьми неподходящими.
Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трехтысячная толпа предприимчивого, смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося «полковником государя императора». От его огромной толпы, в свою очередь, отделялись небольшие отряды и, опять-таки без ведома Иванова, устремлялись на добычу.
Прибывший в Пензу подполковник Муфель ясно видел, что оставлять уезд в таком положении невозможно и что надо в первую голову, разыскав главные силы Иванова, покончить с ним. Оказалось, что руководимая Ивановым толпа движется к Пензе. Навстречу мятежникам Муфель выслал двести человек улан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства Чемесова.
В тридцати верстах от Пензы, возле села Загошина, загорелся бой. Несмотря на дружный и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемесов с одетыми в голубые мундиры уланами врубился в самую середину толпы. Народ побежал, оставив до трехсот человек убитыми, сто семьдесят крестьян попало в плен, были захвачены несколько чугунных пушек и две медные мортиры.
Вскоре после этого дворянство и купечество, скрывавшееся в лесах без пропитания, стало стекаться в Пензу под защиту правительственных войск.
Однако не всем скрывавшимся дворянам удалось отделаться так благополучно. Многие из них были изловлены крестьянами, связаны, посажены в телеги и отвезены в Пензу, на суд царя-батюшки. Но Пугачева там крестьяне уже не застали и, раздосадованные, повезли дворян обратно, вслед за государем.
– Куда везете этих гадов? – остановили подводчиков случайно встретившиеся пугачевцы. – Везите их в Пензу, там воеводой поставлен полковник Герасимов. Он их всех подымет кверху. А нет, сами расправьтесь.
– Пятые сутки треплемся, – жаловались крестьяне. – Лошадей-то притомили. Эй, Макар! – кричали они переднему вознице. – Поворачивай нито в лесок. И впрямь кончать надо с гадами.
Один из находившихся в этой группе обреченных – помещик Яков Линев впоследствии писал в Москву своему приятелю: «Остановясь в лесу, велели всем выходить из повозок и вынимали рогатины, чтобы переколоть нас. Но в самый тот час прибывший конвой чугуевских казаков спас нам жизнь, и всех мужиков переловили. Из коих злодеев шестеро – застрелены, четыре повешены, прочие, человек двадцать, кнутом пересечены. Посмотрели бы вы на верного друга вашего пред казнью, то и увидели бы меня в одном армячке, сюртуке без камзола, стареньких шелковых чулках без сапог, скованного и брошенного в кибитку».
4
– ...Не падайте духом, государь, – продолжая прерванный разговор, негромко вымолвил офицер Горбатов.
Пугачев молчит. На исхудавшем лице его гнетущая тревога.
Глухая ночь. Небольшая комната купеческого дома. Две догорающие свечи на столе. В переднем углу, перед образами, скупо помигивает огонек лампады. Истоптанный ковер на полу. Возле изразцовой печи – голштинское знамя и другое – государево, с белым восьмиконечным крестом. В стороне, за печкой, на брошенном тюфяке храпит – руки за голову – верный друг царя атаман Перфильев.
За окном – костры, отдельные выкрики, посвисты, затихающая песня, и возле церковной ограды – устрашающая виселица. Темно. В темном небе серебрятся звезды. В комнате сутемень. Колышутся дремотные огоньки, ходят тени по стене.
Пугачев в угрюмой позе за столом. Андрей Горбатов стоит в отдалении, прислонясь спиной к изразцам холодной печи. Его открытое, обрамленное волнистыми белокурыми волосами лицо полно решимости, взор напряжен. Ну, что будет, то будет: смерть так смерть, но он решил, наконец, перемолвиться с Пугачевым откровенным словом.
– Не падайте духом, государь, – повторяет он. – Замысел ваш бесспорно смел... А посему и ошибки – а их много у вас, – тоже неизбежны, понятны и... я бы сказал... зело немалые.
– Ошибки не обман, – хмуро промолвил Пугачев.
– Избави Бог, ничуть, – пожал плечами Горбатов. – Хотя вы своей цели, может быть, и не достигнете, то есть не совершите того, что у вас в мыслях, что задумали совершить, однако дело ваше станет навсегда известно русскому народу.
– Верно, верно! – Пугачев порывисто поднялся с кресла и в волнении начал вышагивать от стены к стене. Он хмурил брови, что-то бормотал про себя, останавливался, глядел в пол, с досадным прикряком взмахивал рукой. Видимо, он искал слов, которые правильно выразили бы его думы, и сразу не мог таких слов найти. Горбатов смотрел на него с интересом, с удивлением, наконец сказал:
– Ведь ваши намеренья большие, я бы сказал – огромные. И ежели вы все потеряете из-за немалой смелости своей, за вами все же останется слава великого бунтаря. И потомки упрекнуть вас в неспособности не посмеют.
Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачев вдруг остановился, щеки его затряслись, глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнес:
– Мила-а-й! Благодарствую. И как на духу тебе. Намеренья-то мои, это верно, горазд большущие, а силенки-то надежной в моих руках нетути... Нетути! Вот и казнюсь таперь, и казнюсь. Ночи не сплю. Иной час слезами горючими обливаюсь. Только таюсь от всех. И ты, друг мой, никому не сказывай об эфтом... А за те слова твои золотые, что народ, мол, вспомянет меня по-доброму, спасибо тебе, сынок... Да ведь и мне так думается: ежели и загину я, на мое место еще кто да нибудь вспрянет, а правое дело завсегда наверх всплывет.
Пугачев отсморкнулся, вынул платок, утер глаза и нос, подошел к Горбатову, положил ему руку на плечо, тихо заговорил:
– Верно, что, когда дело зачинал, помыслы мои были коротенькие, как воробьиный скок... Эх, думал я, дам взбучку старшинам яицкого войска за их злодейства лютые, тряхну начальство, да и прочь с казацкой голытьбой куда глаза глядят. А тут вижу – не-е-ет... Вижу – день ото дня гуще дело-то выходит, крепости нам сдаются, людишки ко мне валом валят. И уж чтоб уйти, чтоб взад пятки сыграть, у меня мысли чезнули. И подумал я: будь что будет! И покатился я, как снежный ком, все больше и больше стал облипать народом. А тут – пых-трах, без малого весь Урал-гора, все Поволжье загорелось, в Сибирь гулы пошли, у царицы Катьки сарафаны затряслись! Во как... Вот тут-то, чуешь, когда многие тысячи народу-то ко мне приклонились, уж не сереньким воробушком, а сизым орлом я восчувствовал себя... Орлом! У меня тут, чуешь, гусли-мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгадь! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце, шибко облестительный: ударить на Москву, поднять всю Русь, а как придут из Туретчины с войны царицыны войска, сказать им само громко: «Супротив кого идете? Я вам всю землю, все реки, все леса дарую, владейте безданно, беспошлинно, будьте отныне вольны. Нате вам царство, нате государство, давайте устраивать жизнь-судьбу как краше». Не враг я народу, а кровный друг! – Пугачев перевел дух и спросил: – Ну, как думаешь, полковник?
– Я не полковник, а майор, ваше величество, – перебил его Горбатов.
– Будь отныне полковником моим. Ну, как думаешь, господин полковник, что сказало бы в ответ мне войско?
– Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы.
– Правда твоя, генерал. Будь отныне моим генералом. Люб ты мне. Лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и в фельдмаршалы вскорости произвел бы, да чую, бросишь ты меня... И все вы меня бросите, предадите... – с особым надрывом, тихо сказал Пугачев и опустил на грудь голову.
– Избави Бог, государь! Я до конца дней с вами! – прокричал Горбатов.
– Знаю. А все ж таки чую, и ты спокинешь меня, убоишься петли-то... – Пугачев сдвинул брови, вскинул руку вверх и снова закричал: – А вот я не боюсь, не боюсь!.. Мне гадалка-старушечка древняя предрекла: высоко взлетишь, далеко упадешь, на четыре грана расколешься. А я не боюсь!.. Пожил, погулял двенадцать годков после своей неверной смерти – и будет с меня... Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорыч...
По губам Андрея Горбатова скользнула легкая усмешка. С минуту длилось молчание. Пугачев опять было начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился, вперил испытующий взор свой в лицо офицера, спросил:
– Так веришь ли ты, Горбатов, в меня, в императора своего, что я есть Петр Федорыч Третий?
Грудь Горбатова поднялась и опустилась. Он смело произнес:
– Да нешто вы и в самом деле император Петр Третий?
Пугачев, как боевой конь, дернул головой и, ошеломленный, отступил на два шага от офицера.
– А как ты думаешь, твое превосходительство? – стоя вполоборота к Горбатову, сурово и раздельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его враз болезненно взрябилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза.
Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле. Однако, овладев собой, с напряженным спокойствием проговорил:
– Кто бы вы ни были, ваше имя будет вписано в летопись о борцах за народ! Про вас станут песни складывать, как про Разина...
Пугачев не вдруг осмыслил слова офицера.
– Борцов? За народ? Песни складывать? – недоуменно бросал он, двигая бровями и глядя через плечо в глаза Горбатова. – Ишь ты, ишь ты... – Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, тряхнул головой, напористо спросил: – Ну, а все ж таки... Раз на тебя сумнительство напало... Ежели я не царь, по-твоему, не Петр Федорович... так кто же я? Отвечай немедля!
Горбатов как завороженный молчал, губы его подергивались, сердце сбивалось.
– Отвечай, царь я или не царь?! – резко притопнув ногой, крикнул Пугачев.
– Нет, вы не царь, – все тем же спокойным голосом ответил Горбатов, от крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело, на высоком лбу выступила испарина.
Пугачев прянул в сторону, взмотнул локтями. В мыслях стегнуло: «Неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрипицын, Волжинский и многие другие офицеры?» Желчь растеклась по жилам Пугачева. В нем все кипело.
– Изменник! Согрубитель! – свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутренне сжался, пальцы на его руках затрепетали. – Мало я вам, злодеям, головы рубил! – Пугачев порывисто схватил стоявшую в углу саблю и подскочил к Горбатову. Он по-настоящему любил этого молодого человека, ему было жаль умерщвлять его.
– В последний раз! Царь я или не царь?!
Горбатов все так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. Не помня себя, он вздохнул:
– В последний раз говорю: нет, нет!
– Так кто же я?! – взревел Пугачев и выхватил из ножен острую, в белом огне, саблю.
– Вы выше царя! – каким-то особым, приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взором Пугачева. – Вы народа вождь! – И Горбатов вытянулся перед Пугачевым, как в строю.
Емельян Иваныч враз остыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот и еще более выпучив глаза, он шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они оба стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред, молчании.
– Выше царя... Как это так – выше? Чего-то шибко заковыристо, в толк взять не могу, – бормотал Пугачев, растерянно опустив руки и с неостывшей подозрительностью косясь на офицера.
– Все просто, все понятно, – сказал Горбатов и, помедля малое время, продолжал: – Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами, не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без огляда...
– Пошто так?
– А кто такой покойный Петр Федорыч, имя которого вы носите? – продолжал Горбатов. – Голштинский выкормок, вот кто. Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный... Бездельник он великий и пьяница!
Снова наступила тишина. Из груди Пугачева снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слыхал подобных слов: они ударяли его в сердце. Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал:
– Милый... Друг... Уж ты прости меня, ежели пообидел. Ведь я, мотри, иным часом, как порох. Уж не взыщи! Может, ты и прав... Только, чуешь, хитро, ой хитро ты говоришь... И со смелостью!
Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и – нога за ногу – подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи.
«Народа вождь... Выше царя...» – каким-то далеким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова... «Выше царя... Неужто так-таки выше?»
Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал, бредил. Горбатову стало неловко. Он вздохнул и, с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачева, произнес:
– Покойной ночи, ваше величество!
Пугачев, не поворачиваясь, отмахнулся рукой. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон.
5
Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Оладушкин, дальний родственник Падурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иваныч без вести пропал.
– Эка, эка беда стряслась!.. Сокол-то какой был...
– А ты сам-то как до нас добрался? – спрашивали его.
– Когда Оренбург освободили да Матюшка Бородин пошел с казаками в Яицкий городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня заграбастали, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до батюшки... Да я не один, девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись мы делов, вся Русь вскозырилась, кажись... – Голос у старого Оладушкина хриплый, усы большие, сивые, подбородок голый, глаза навыкате – задорные.
Его привели к Пугачеву. «Батюшка» обрадовался, начал обо всем с жадностью выспрашивать, казак отвечал срывающимся робким голосом, а когда Емельян Иваныч усадил его и велел поднести вина, Оладушкин осмелел, стал говорить красно и без запинки. Он рассказывал об Оренбурге и, понаслышке, об Яицком городке, что государыня Устинья Петровна арестована и неизвестно куда увезена, а вместе с ней схвачена вся ее родня, атаман Каргин, Денис Пьянов и другие-прочие.
Брови Пугачева изломились, рот перекосился, он ударил кулаком в коленку и, замотав головой, крикнул:
– Пропала государыня! Пропала Устинья Петровна! Замучают ее, бедную...
Он приказал подать крепкого вина, залпом выпил стопку, за ней – другую, наполнил третью... Закусывал селедками, рвал их руками, обсасывал пальцы, отирал о рушник. Выпил третью... Быстрые глаза его погасли, голос сник. Он больше уже не выкрикивал, а продолжал бормотать в темную с заметной сединой бороду:
– Пропала, пропала... Эх, пропала бедная головушка...
– И еще хочу сказать, – обсасывая хвост селедки, заговорил Оладушкин. – Хлопуше, названому полковнику вашего величества, принародно казнь была.
– О-о-о, – протянул Пугачев и вскинул на казака вновь ожившие глаза. – Ты видел, что ли?
– Самовидцем был... В крепости вешали-то, под барабаны. Мы с солдатней кругом помоста стояли, в походном строю, с хорунками да со значками. А народ-то на валу. Густо народу было... И как кончил чиновник бумагу оглашать да повели Хлопушу к петле, вот он и возгаркнул во весь народ, как в колокол брякнул: «А Казань-то, – орет, – батюшкой взята!.. Начальство перевешано!..» Тут ему рот хотели заткнуть, а он, безносый, страшительный, рванулся да свое: «И вам, кричит, то же будет от батюшки, сволочи!.. Он истинный царь!»
Пугачев опять замотал головой, схватился за поседевшие виски, сказал с горечью:
– Верный он, самый верный... Хлопуша-то... И не Хлопуша он, а Соколов – работный человек. Да, брат, да, казак... Невеселые ты мне вести привез, старик. Вести твои дрянь дрянью...
Пугачев снова потянулся к чарке. Под впечатлением предсмертных слов Хлопуши ему вспомнилась Казань, вспомнились встречи в ней с разными людьми, и он спросил:
– Слышь, казак! А про приемную дочку Симонова ничего не чутко? Она подружкой государыни Устиньи была.
– Как же, известно! – воскликнул казак и, оскалив зубы, чихнул в шапку. – Нареченная матерь ее, комендантша-то, одна возворотилась быдто. А барышня-то, Даша-то... Кто его знает, чего подеялось с ней. Одни болтают, быдто она из монастыря в бега ударилась, жених быдто у нее где-то... А другие толкуют, что от тоски да от печали с колокольни бросилась. То ли с колокольни, то ли в Волге, сердешная, утопилась...
Пугачев, закинув ногу на ногу, сидел с низко опущенной головой и посматривал на казака недружелюбно, исподлобья. Раздумывал: «Сказать Горбатову про Дашу или не надо говорить?» И решил: «Не надо!»
– Мне ведомо, что Яицкий городок захвачен неприятелем, – раздувая усы, сказал он. – Только в помыслах было у меня, что государыня Устинья на коне ускачет, она, поди, роду-то казацкого... А она, вишь, оплошала... Как же так не уберегли ее, не удозорили...
– Да вы, батюшка, ваше величество, не печалуйтесь: авось Господь праведный и спас Устинью-то Петровну, – взбодрившись, сказал казак, накручивая сивый ус и похотно косясь на свой пустой стакашек. – Как ехали мы, батюшка, Русью, всячинки с начинкой нагляделись. Повсеместно мужик остервенел, бар изничтожает.
– Так остервенел, говоришь, мужик-то? – И Пугачев прищурил правый глаз.
– Истинно остервенел, батюшка. От злости на господишек рукава жует, как говорится. А поверх того, народ со усердием повсеместно поджидает вас, а того боле – самосильно к вам, батюшка, валит. Насмотрелись мы и страшного и смешного. В одном селенье сказывали нам, приехал-де царицынский отряд, а мы с великого-то ума думали – это от батюшки, вышли встречать вместях с попом и всем миром, со старостой да с десятскими, повалились-де на колени, а сами кричим: «Мы все слуги верные царя-батюшки... Мосты все у нас вымощены, гати излажены, ждем не дождемся отца нашего, где он, царь-батюшка, далече ли?» А офицер на нас: «Ах вы, сволочи! Хватай их!» Ну мы-де все – кто в кусты, кто в лес, как зайцы от гончих собак, дай Бог ноги...
Пугачев улыбнулся, налил стакашек, сказал:
– Пей, старик! Чего поздно ко мне-то передался, ведь я полгода под Оренбургом был?
– Батюшка, царь-государь! Я, ведаешь, не один к тебе, нас десятеро, да двоих, правда, смерть сразила в сшибках со врагом. Вот я и говорю молодым ребятам-то, вроде как ты мне: ой, ребята, поздно... А они мне: может, тебе, старому, поздно, а нам в самый раз, ты-то вот куда прешься? А я им: перед народом-де оправдаться хочу, чтоб было с чем на Божий суд после смерти прийти, я-де вижу, как весь народ подъяремный страждет, а я, старый окомелок, на боку лежу, трубочку покуриваю да вот с такими голоусиками, как вы, в кости играю, в зернь.



