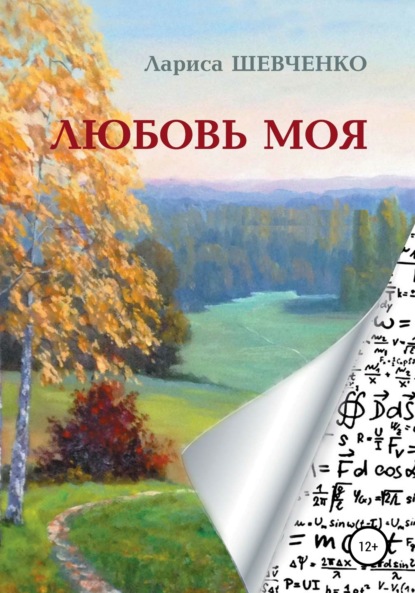 Полная версия
Полная версияЛюбовь моя
– Видать, сам в ней не силен, – усмехнулась Инна.
– Инна, это не этично. Ты же лично не знаешь прототипа этого героя. Сделай одолжение… – Лена не читала книгу, но с укором тихо одернула подругу.
– Да-да… припоминаю… Я что-то такое листала. Лицо автора на обложке книги мне показалось вдохновенным, и слова, хотя и высокопарные, но звучали вполне искренне. Но я не вникала в них, – задумчиво сказала Инна. – Только я считаю, что смысл слов не должен меняться от того кто и как их произносит, лишь тогда они верны.
– В моей семье Бог существует как любовь, как путеводная звезда, как абсолют. И я не хотела бы, чтобы о служителях культа и о священных книгах говорили вот так огульно. Понимаете, в них есть личный акт веры… такой мучительный, волнующе бесконечный… – раздраженно забормотал Жанна.
– Я говорю не об авторе, а об его герое. И книга эта не священная, а светская, – оправдалась Аня. – Уточняю еще раз: это хроника работы священника и сумма назидательных нравоучительных проповедей. Наверное, она писалась для внутреннего пользования в духовных школах. У произведения, безусловно, мощная религиозная основа. Чего только стоит первый рассказ, предваряющий повествование! Возможно, священника выделяет глубокое знание предмета, но те отрывочные посылы, которые он преподносит, даже навязывает, не формируют у меня какого-то определенного мировоззрения. Они раздражают. Такие проповеди могут ложиться только на хорошо подготовленную почву.
– Смелая интерпретация. Но он, насколько я помню, транслировал их сыну, – подсказала Инна.
– Одному. А второй для него не существовал! Как это жутко его характеризует! Священник отказался от собственного ребенка! Не-на-ви-жу! – простонала Аня. – Чего стоят прекраснодушные слова проповедей, произносимые человеком, разрушившим семью и сломавшим жизнь своим детям? Я не верю, что сын, живущий с ним, искренне любит своего отца. Вряд ли он простил ему предательство, слезы матери и брата.
Ты читала, какие проповеди священник посылал своему сыну? Наверное, гордится ими. Попробуй в них что-нибудь понять. Они написаны скупым, негибким, тяжелым, неэмоциональным церковным языком. В них нет чувства, любви. С детьми так не разговаривают. Ты представляешь себе десятилетнего мальчика, вникающего в это занудство, и серьезно его постигающего? А пятнадцатилетнего юношу? Эти послания в будущее своего сына? А нужны ли они ему будут, когда он вырастет и станет жить своим умом? Инна, ты видишь в этом мое невежество? Может, ему и было что сказать, но не сумел он… по крайней мере в книге.
– Так о чем же это произведение? Расскажи толком, – прервала рассуждения Ани Жанна.
– Прочитав половину книги, я, наконец, поняла, что это история собирания средств на постройку церкви, через судьбы людей, вложивших в нее свой труд и свои деньги. И главным героем является священник, которого автор и восхваляет.
– Чем тебе не тема? В ногу со временем. Так сказать… согласно современным веяниям. Если уж у художников ни один пейзаж теперь не обходится без пусть даже виртуальной церквушки, так служителю религиозного культа сам Бог повелел строить и проповедовать. Это же его хлеб насущный. Я ясно выразилась? И потом, как я поняла, священник для людей старался, церковь строил, – пожала плечами Инна. – И его деяния окармлял Всевышний! Видно не случайно в жизнь этого священника ворвалась любовь к людям, и от нее он ведет отсчет времени… Пустим шапку по кругу! – в привычной шутовской манере окончила свое «выступление» Инна.
– Карьеру он себе строил. Я могу понять, когда люди, не ища корысти, по велению души восстанавливают храмы для красоты, на радость старикам и пользы болезным… Вот и церковь возле моего огорода в деревне ждет своего возрождения, своего Савву Морозова.
А как этот священник деньги собирал?.. Ты представляешь себе такое: я помогаю соседке и жду от нее награды. До революции семнадцатого года священники вволю напаслись на ниве темноты народа и теперь продолжают. Это же нечестно и гадко! Церковь ищет безвольных, безответных овечек. Сломленные души ей нужны, чтобы за их счет богатеть.
– Одно другому не мешает. Ты слишком предвзята, – усмехнулась Инна.
– Чтобы нести людям добро, религия не нужна. Человек сам перед собой должен быть честным и добрые дела делать не на выставку, не рекламируя себя, по-тихому. В этом проявляется духовная чистота и зрелость человека.
– Не все таковы, – заметила Жанна.
– Но многие. Знаешь, сколько людей анонимно помогают больным детям?! А священнослужитель тем более обязан быть таким.
– Аня, священник не отбирал деньги. Ну, может, если только совсем чуть-чуть… приворовывал из того, что получал от убитых горем людей. Но это бездоказательно… И теперь это не считается грехом на фоне массового ограбления страны. Нам проверить у прототипа этого героя наличие собственности? – насмешливо спросила Инна.
– Ерничаешь? Отрезать бы твой грязный язык! – вскипела Жанна. – Если ты хорошо изучала историю науки и культуры, то знаешь, что многие крупные иерархи церкви были выдающимися учеными, уважаемыми людьми. Даже считалось, что наука и религия – два пути познания истины.
– А многие – выдающимися лжецами. Да шучу я, шучу, – отмахнулась от нее Инна. – Общеизвестно, что наука и религия всегда враждовали. Они служили разным целям. Священники гнобили, убивали ученых, тормозили развитие науки. Изуверы! Не понимали, что великие открытия делают людей умнее или это им было невыгодно? Может, именно открытое отрицание Бога, точнее отказ от религии, создал условия для переворота во всех областях жизни и раскрутил в двадцатом веке маховик науки и техники так, что у нас теперь дух захватывает. Ученые толкают мир вперед, а корыстные политики и религия часто тянут его назад.
– Папа Пий-12 говорил: «Настоящая наука за каждой открытой дверью всегда обнаруживает Бога». Что он под этим подразумевал? – самодовольно, с вызовом произнесла Жанна.
– Неисчерпаемость мира, невозможность его полного познания. Когда Папа спросил Лапласа, почему он в своем трактате не упомянул о Боге, тот ответил, что у него не было необходимости в этой гипотезе. Ватикан только в тысяча девятьсот девяносто втором году наконец-то признал, что Земля круглая и что самый главный в природе, на Земле – Человек. Представляешь, только в тысяча девятьсот девяноста втором!! А ты говоришь, церковь стремилась к познанию. А теперь опять возобладало мракобесие? Оно непобедимо? Церковь всегда боялась, что наука лишит мир тайны божественного создания, и она останется не у дел.
– Так и среди ученых нет единства. Атеисты утверждают, что не веруют, агностики говорят: «Не знаем», а философы мнутся: мол, возможно, есть нечто… непознанная Всевышняя сила, – попыталась защититься методом нападения Жанна.
– Нечто – это уже не Бог! Я считаю, что в религиозном смысле Бога нет. Нет ни ада, ни рая. Может, есть что-то в биофизическом смысле… Какая-то непознанная энергия. Еще мне не нравится, что в религии отсутствуют сомнения. Есть Бог и всё тут! – сердито возразила ей Аня.
– Своей безапелляционностью ты ранишь чувства верующих.
– А может, они мои?
– А вдруг Бог окажется в четвертом или в пятом измерении, или в параллельном мире? И если, перейдя за грань… ты увидишь Его? – настороженно произнесла Жанна. – В себе-то я не сомневаюсь, а вот на твой счет…
– Пытаешься умничать? Угадай с трех раз, что я сделаю? Так вот, сначала обрадуюсь, а потом пожалею, что не верила в чудо, как жалею сейчас о многом, не свершившемся в моей жизни, – спокойно за Аню ответила Инна. – А Библию церковникам в связи с развитием науки все-таки приходится корректировать, – поддела она Жанну.
Инна нарочно пикировалась, подзуживала, подстрекая ее к спору.
– Когда читаешь священные книги, сознание должно быть открытым и чистым, – спокойно заметила Жанна. – В мелочах да, но основополагающие истины остаются неизменными. Наука тоже представляет собой последовательность ниспровергаемых заблуждений.
– Наука не считает свои законы заведомо непогрешимыми и предполагает их изменение, развитие и уточнение. А Библия постулирует свои утверждения, – влет отрезала Аня.
– Дорогие мои демагоги, за недостатком информации этот спор невозможно окончить, – остановила подруг Лена.
* * *– Я не критикую Библию. Меня возмущает то, что я нахожу в книге этого автора между строк, то, что я чувствую во время или после чтения. Истинное христианство не в церкви, не в иконах. Оно в отношении к людям, в том, что делаешь для них во имя Всевышнего. Христианство состоит в том, чтобы не бросать в беде людей. Говорят, что вера без дел мертва, а дело без веры – вообще ничто. Без какой веры? В себя? В добро? И потом, бывают дела, но бывают и делишки.
– Поведай скрытый смысл, который я должна отыскать в этой книге, – попросила Инна у Ани не без иронии.
– Я чувствую фальшь, неискренность в словах священника и лукавство, неподобающее его сану. Религиозность – его личина!
– Она чувствует! Твой интеллект соткан из паутины тонких чувств, фиксирующих и пропускающих через себя самые малые токи? И всего-то? Чувства к делу не пришьешь. Твои возможности восходят к тем временам, когда человек, по сути, еще не был человеком как таковым? Тоже мне критерий истинности. Ура! Час настал! Свершилась победа истины над заблуждением!.. Аня, не боишься предчувствовать? Люди, пытающиеся заглянуть за Божий край, часто бывали наказаны.
– Инна, ну полно, полно тебе, – простонала Жанна.
– Ой, да ладно тебе. В нас, в женщинах, столько языческого! Все мы немного ведьмы, – рассмеялась Инна. – Мы пытаемся сквозь месиво социума пронести свою великую любовь, стремимся ввысь, к запредельному счастью, которое невозможно, но без которого нам как Земле без Неба. Нам всегда кажется, что мы остановились в шаге от него, от своей мечты… И всё чего-то ждем, надеемся…
– Не обладает священник истинным, религиозным сознанием, не чувствую я в нем мощное духовное начало, – грозно начала свое обвинение Аня.
– Не испытываешь при общении с ним волн религиозного восторга? – изобразив по-детски удивленно расширенные глаза, «вторглась» в исповедь Ани Инна.
– А без него, по-моему, примирения и восхождения к помыслам Божьим невозможно… Истинное откровение нисходит только к тем, кто заслуживает. У них «Бог ночует между строк» и в душе. А этот автор и его персонаж не умеют любить людей как самих себя, тем более, больше себя. Я места не нахожу от одолевающего меня раздражения! – с пламенем праведного гнева в глазах продолжила Аня. – Герой книги видно в священники пошел ради корысти. Иначе бы ему не сколотить деньжат на вознесение и поддержание своего тщеславия.
– И что из того? У каждого свои изъяны, – язвительно усмехнулась Инна. – Может, ему было видение?
– Опять ты… Я отказываюсь даже от попыток понять ход твоих мыслей, – обиделась Аня. – Смирение, беспрекословное послушание… По-моему служение Богу для простых прихожан предполагает утрату личности. Но только для овец, а не для пастухов. Вот это-то и не укладывается в моей голове. Получается, что пастыри сами не верят, а используют… По логике… именно этим они оскорбляют чувства верующих. Бред какой-то. Я при всем желании мысленно не вижу себя среди паствы этого служителя культа.
Инна снова вмешалась со своим ироничным замечанием в нервный, нескладный монолог Ани, безуспешно пытающейся сформулировать свое мнение:
– И у тебя есть тому неопровержимые доказательства? Оскорбить человека можно только когда он признаёт это оскорблением. Твой вопрос надо рассмотреть в другой плоскости: имеется ли у прихожан в наличии или отсутствует способность это осознавать? Вот я, например, в молодые годы, идя от директора в свой цех, по просьбе его секретаря часто захватывала и заносила в бухгалтерию какие-то документы. Ведь по пути. Мне не трудно было. Я считала, что мне доверяют, потому что я аккуратная и ответственная. А потом мне доложили, что женщины из канцелярии, унижая меня, развлекались. Они вычитали, что в Японии заставить человека сделать работу ниже своего статуса, значит нанести ему смертельную обиду. Но пока я этого не знала, не обижалась на них и честно выполняла работу курьера.
Аня задумалась, пытаясь применить Иннин пример к пониманию ситуации с прихожанами и главным персонажем обсуждаемой книги.
– А если ты ошибаешься в оценке священника? – Это Жанна предостерегла Аню от необдуманных высказываний.
– Это замечание из разряда твоих богословских изысканий? Так вот я объясню. Сначала меня покоробила фраза священника о том, что лицо скорбящей женщины прекрасно. Я бы поняла, если бы он сказал «смиренная» красота. Да и то не совсем. Но преподнес автор это изречение не в контексте перенесенного кем-то горя, а всуе, как бы в общем плане. Он считает, что жизнь женщины должна быть чередой страданий? Они – наша единственная школа жизни и ее итог? Мировая скорбь в глазах женщины ему приятна? Увидев печальное лицо, мне хочется ему сочувствовать, но никак не восхищаться. Может, с его религиозной точки зрения призывающей всех терпеть это и верно, но для меня нет ничего прекрасней лица просветленного знанием, озаренного радостью или благодарной улыбкой. А счастливый смех детей, влюбленных, истинно любящих! Он же незабываемо восхитителен. В искреннем счастье прекрасен человек, а не в страдании!
Разве автор своей матери, детям своим и себе пожелает скорбной красоты? Разве он хочет видеть на их лицах печаль? Такое может утверждать только человек, легко идущий по жизни, не знавший горя. Его герой хотел бы видеть лицо жены скорбным, а свое вдохновенно-прекрасным? Конечно, кто из прихожан станет ходить в его церковь, чтобы смотреть на постное или тоскливое лицо своего пастыря? Дома каждому хватает такого добра.
– Куда тебя понесло! – Инна попыталась остановить Анины излияния.
– Сколько семей живет в злобе, в ненависти, в грубости и глупости по вине только одного, допустим, пьющего, гулящего, растлевающего, хамоватого деспота?.. А как хочется, чтобы люди, по возможности, не портили друг другу жизнь! К счастью надо призывать людей, к стремлению приносить друг другу радость, чтобы жили в любви, в уважении, во взаимопомощи, чтобы их лица расцветали улыбками! А этот батюшка проповедует красоту скорбящего и идиотскую, человеконенавистническую мораль жертвенности женщины в семье, ее уничижение перед мужчиной!.. Что, собственно, мы и наблюдаем в судьбах Эммы и Зои и в семьях им подобных невезучих женщин. С молоком матери дочери впитывают рабство, поддерживаемое церковью и обществом мужчин.
– Какой темперамент! Какой силы ненависть! Не предполагала я их в тебе. Как неожиданно ты повернула эту, может быть, вскользь брошенную священником фразу! Мне такое в голову не приходило. Анечка, мы не в пятнадцатом веке. Атавизм мужского господства и женского подчинения, конечно, существует, но он не носит массового характера, – заметила Инна и тут же сделала небольшую врезку-отступление:
– Вот что значит вариться в узком кругу бед детдомовских детей! Роль места работы в твоих категоричных воззрениях отнюдь не второстепенная. У меня есть знакомый врач, в психбольнице работает, так для него…
Аня остановила Инну:
– Конечно, лицо гордой женщины без слез несущей крест своей беды можно назвать трагично-красивым. Я помню окаменевшие от горя лица матерей, потерявших сыновей в Афганистане. Я знаю слова Тютчева: «Божественная стыдливость страдания», где слово «божественная», мне кажется, употреблено не в религиозном смысле, а как эпитет восхищения, преклонения.
– А я помню слова Толстого: «Она была так хороша в своем страдании…» В них – восхищение мужеством роженицы, – сказала Жанна. – К тому же без скорбей нет спасения.
– Только в счастье она была много краше. По-твоему получается, что человеку, прожившему жизнь честно и счастливо не быть на Небе? Он же не страдал! – сделала неожиданный вывод Инна.
– Предваряя твой протест, Жанна, скажу: «Я предпочитаю видеть лица горюющих женщин опухшими от слез. Может, даже с перекошенными ртами. Я не вижу в том ничего дурного. Позволительно же человеку быть абсолютно свободным хотя бы в горе… когда мир видится другими глазами, когда чувствуешь то немногое… общечеловеческое, что нас объединяет, консолидирует. Хотя, конечно, каждый человек скорбит по-своему. Но я не выношу возвеличивания страданий!
Люди, одиноко и мужественно переносящие боль внутри себя, как правило, заканчивают болезнью или ранней смертью. А ведь кому-то – если даже не себе – они, возможно, еще нужны. По мне так пусть отплачутся и дальше твердо идут по жизни. Но каждому свое. Я уважаю сильных женщин, но молюсь Всевышнему, чтобы он помогал им полностью не погружаться в боль утраты. Правда, в этом вопросе я все же больше уповаю на сочувствие и заботу близких людей, а не на Бога. Знаешь, в наш просвещенный век Он… как-то не вяжется в сознании.
– Выплеснула свое негодование? Успокоилась? – спросила Инна у Ани без иронии, даже с долей сочувствия.
– Выслушай меня. Не убудет от тебя, – попыталась Жанна объясниться с Аней. Но Инна опять опередила ее.
– Жанна, я могу на корню погубить пафос твоего светского и религиозного благоговения и благонравия. Повернем колесо истории вспять и перенесемся назад лет эдак на… сто пятьдесят. Мне почему-то вспомнились из учебника истории лиссабонские ужасы тысяча семьсот пятьдесят пятого года. Видно, зацепили они меня тогда. Сохранились сведения о том, что город пережил землетрясение, цунами, огненную лавину, бандитизм, каннибализм. Треть жителей погибла, были разрушены все церкви, а бордели остались невредимыми! И люди не закрыли глаза на этот факт. Не вытанцовывалось в их сознании религиозное объяснение. Не нашли они в этом странном явлении промысла Божьего. И в их мышлении произошел надлом. Они, может быть, впервые «надели правильные очки» и задумались о том, что не карающая рука Бога наказала их за грехи, а физические природные явления стали причиной тех бед. Природа «во всей красе» продемонстрировала им свою власть и указала границы человеческие, – со злым удовольствием внесла Инна свою лепту в религиозные сомнения Жанны. – Может, поэтому этот век отодвинул богословие и занялся наукой?
– Да-а… зрелище на любителя. Благодарю за предоставленную возможность мысленно лицезреть наглядный пример. Только твое заявление – «ни ладушки, ни складушки». Извини, но он не показательный, недостаточно убедительный и неудачный! Ты его ошибочно истолковываешь. В твоих рассуждениях много слабых мест, – запротестовала Жанна, не зная как ответить сокурснице. – И вряд ли это ответ на мучающий всех вопрос.
– Кажется, Мережковский писал, что мир спасет не Бог-Отец, не Святой Дух, а Мать. И истово верующий в Бога Достоевский считал, что женщина спасет мир, что она более сакральное существо, чем мужчина, – заметила Инна. – Меня бесит религиозный миф об изначальной греховности человека и его ничтожности, особенно в той части его, где говорится о зачатии и деторождении. Мол, в грехе рождаемся, в грехе умираем. Вместо возвеличивания женщины-матери, святоши втоптали ее в грязь. Они разучились видеть в ней божественное начало. Женщина дает жизнь, а церковники ее в великие грешницы записывают, мол, женское тело, ее лоно, несет в себе зло и грех. А мужчина не грешен «посещая» его? Все с ног на голову перевернули. Как можно эту часть жизни, на которой собственно жизнь держится и продляется объявлять дьявольщиной и грехом? Природа не наделила человека способностью к бестелесному зачатию. Все вопросы к ней, то есть к Богу. По их получается, будто чуть ли не всё, что мы делаем – грешно. Один хороший друг как-то сказал мне: «Женщины живут нами, мужьями и детьми. Для себя редко. Мы, мужчины, в постоянном неоплатном долгу у матерей и жен».
– Греховность грозит перевернуть во мне все понятия и представления, которые я для себя считала незыблемыми, – продолжила ерничать Инна. – Всё у святош хитро продумано. Ни в чем неповинными людьми трудно управлять. Они самодостаточны. А если человек заведомо грешен, вот тут-то всё и упрощается. Этим пользовался Сталин. И светская власть частенько брала церковные методы себе на вооружение: придумывала невыполнимые законы и указы – особенно на местах, – создавала невыносимые условия и тем самым заставляла честных людей их нарушать. Так кое-кому легче было наживаться. И никто не мог им помешать. Если только наверху дознаются. Если захотят. А помнишь, что в начале перестройки творилось?! – зло и презрительно покривила губы Инна. – И вот опять религию на щит поднимают. Церковь снова стремится слиться с властью, чтобы влиять на нее и богатеть. Еще один хомут на шею народа? Церковь – может, я и ошибаюсь – соблюдала нейтралитет в семнадцатом, и в сорок первом не больно-то поддерживала народ. Он сам в себе Бога хранил. А эта ее фраза «Любая власть от Бога» во времена перемен звучит очень даже двусмысленно. И власть Гитлера? Нет у меня к церкви доверия. Она только запугивает людей, потому-то я без всякого почтения отношусь к священникам. Церковники держится на неспособности простого народа их оспорить.
Я могла бы, допустим, обвинить церковь в том, что она плохо воспитывала народные массы и допустила революцию. Почему бы и нет! Только она себя жертвой числит. А была бы возможность, так и власть не преминула бы присвоить. Да и вообще, церковь – социальный институт, обычная общественная организация, такая же, как партийная или профсоюзная, только со своим уставом и многовековыми традициями, с хитрой способностью обирать народ. В СССР ее не запрещали, но критиковали. Священников пытались склонять к отречению, а если не удавалось, заставляли доносить. В революцию, правда, им крепко досталось. А кого она не затронула?
– Ты, Инна, я вижу, тоже недолюбливаешь всякого рода начальников? – удивилась Аня.
– Ну, когда много чего о них знаешь…
– И, тем не менее, страна развивалась и развивается, – настырно заметила Жанна.
– А могла бы много лучше и быстрее, если без всяких там… помех, – отбила нападение Инна.
– Недавно один батюшка по телевизору на вопросы верующих отвечал. Такую ахинею нес! У меня к каждому его ответу по ходу беседы масса претензий возникала. Приведу пример. Женщина жаловалась: «Я стараюсь во всем следовать Божьим заповедям, а несчастья на меня сыплются, как из рога изобилия. Почему?» Поп отвечал: «Знать, вас Бог любит и потому насылает несчастья, чтобы вы боролись и еще лучше становились, в вере укреплялись». Обескураживающее заявление. На кой ляд тогда ей Его любовь? Плохим людям легче жить. Им везет, Бог их не испытывает, насылая беды, – сделала «интересный» вывод Аня. – Это что же получается? Мать, любя ребенка, должна вместо радости нести ему мучения? Она же по Его образу и подобию создана.
А другой священник советовал при любой неприятности говорить самому себе «Слава Богу». «Украли или разбили вашу машину, ну и слава Богу». Мой коллега десять лет копил на машину, мечтал на ней зарабатывать. Жене хотел помогать корзины с овощами из сада возить. Тяжело ей стало их на себе до автобуса таскать. А какая-то сволочь гараж вскрыла и оставила беднягу без колес. И ему теперь Бога за это благодарить? Наверное, попу его машина легко досталась, раз у него получается возрадоваться.
– Бог породил зло для сравнения, потому что, не зная плохого, нельзя оценить хорошего, – назидательно сказала Жанна.
– Ты своих детей на этом принципе воспитывала? А своей головой разве люди не могут дойти до понятия зла, наблюдая за ужасами хотя бы природных явлений? Тогда лучше бы Бог ума им добавил.
– Инна, ты не ошибаешься насчет женщины-матери? Такие факты обычно изымаются из всеобщего пользования и не разглашаются церковью. Я чего-то не понимаю? – осторожно спросила Жанна и вернулась к теме Божьей кары:
– Представляю всю меру беды лиссабонского народа из-за отсутствия у них веры в Бога! Куда она их завела? Не избежали печальной или даже гибельной участи?
– Выжили, возродились. – Инна насмешливо отмахнулась от Жанны и обратилась к Ане. – Я согласна с тобой. Нас учили реально надеяться на себя, на своих друзей, в себе самих создавать «идеальное общество». И это придавало нам веры в свои силы и возможности. Нам не говорили, мол, не ломай ветки – Боженька накажет. Нам объясняли, что деревцу тоже больно. И это доходило до сердца быстрее, чем угроза наказания невидимым Богом, который даже в детстве не защищал нас от несправедливости.
Нас воспитывала память людей, переживших войну. Нас учили быть гуманными, оптимистами и борцами за светлое будущее, активными тружениками. И тебя больно уязвили слова о красоте скорбного лица. Но не горячись. Ты как всегда обобщаешь. Всякий человек слова священника воспримет по-своему. Его главное оружие – вовремя сказанное слово и умение с его помощью купировать душевную боль. А как переносить свое горе: в гордом одиночестве, с Богом или как-то иначе… какая разница, если учесть что и коммунизм, и религия – все это галлюциноторные реальности, а рай – мираж. Надеюсь, мой подход окончательно примирит тебя с обеими идеями или я взяла только первую высоту и тебе для осознания верности моих утверждений потребуются более весомые аргументы и более четко структурированная система доводов? Чувствую, без философского взгляда на этот вопрос нам не обойтись, – пошутила Инна. – Но это всё мелочи. Нет, все-таки что-то другое как атомный взрыв вздыбило тебя. Сознавайся, Аня.

