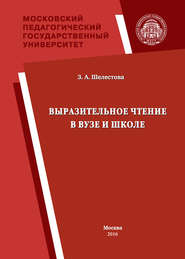 Полная версия
Полная версияВыразительное чтение в вузе и школе
Очень часто поэму Лермонтова читают как предсмертную исповедь героя, потерпевшего поражение в борьбе с трагическими обстоятельствами, «упиваются» страданиями его и безысходностью, связывая их с якобы пессимистическими переживаниями самого автора, так и не нашедшего выхода из противоречий своей действительности. Однако такая интерпретация противоречит творческому замыслу поэта: мы не воспринимает поэму как произведение мрачное, исполненное отчаяния и безнадежности. Для поэзии М. Лермонтова действительно характерны «дневниковость» и частичная автобиографичность. Разве не мог поэт, рано потерявший самых близких ему людей, сказать словами Мцыри:
Я вырос в сумрачных стенах,Душой дитя, судьбой монах.Я никому не мог сказатьСвященных слов «отец» и «мать».Но на первый план произведения поэт выдвигает все же не страдания героя, а его любовь к жизни, к свободе, к родине. История Мцыри – это история деятельного проявления такой любви. Для того чтобы полнее воплотить в чтении данную мысль, необходимо укрупнить идеалы Мцыри: «не кельи душные и молитвы», а «чудный мир тревог и битв»; не одиночество «в сумрачных стенах», а «отчизна, дом, друзья, родные»; не аскетизм монахов, а полнота жизни и радость бытия. И чем лучше чтецу удастся передать счастье и радость, которые испытал Мцыри за «три блаженных дня» свободы, тем ближе будет он к «голосу» самого автора:
Ты хочешь знать, что делал яНа воле? Жил – и жизнь мояБез этих трех блаженных днейБыла б печальней и мрачнейБессильной старости твоей…Как самую сокровенную тайну открывает Мцыри перед старым монахом свое давно зародившееся желание бежать из монастыря. Он верно рассчитал момент, когда ему никто не сможет помешать: гроза для монахов – ужасный, страшный час, посылаемый людям за их грехи. Совсем иначе воспринимает ее герой:
…О, я как братОбняться с бурей был бы рад!Глазами тучи я следил,Рукою молнии ловил…В ряде лирических произведений прямое излияние души, рассуждение, описание и повествование составляют нерасторжимое единство. Необычайно разнообразна по степени выражения авторского сознания поэзия Серебряного века с ее эстетизмом, склонностью к стилизации, патетичностью и способностью внушать представления. Исторические события, научное познание в начале XX в. изменили структуру художественного мира и его ощущение. Для художественного мышления стали характерны: новая, более сложная организация пространства и времени в художественном произведениии, масштабность образов, проникновение в невидимый мир, образное воплощение новых представлений о структуре мира, о взаимоотношениях человека и общества, человека и природы.
Общим чертам художественного мышления соответствует и ряд особенностей в способах художественного отражения мира: 1) активизация тропов (особенно в символизме и авангарде), 2) усиление принципа неопределенности, 3) активизация внутренней речи как источника художественных приемов; стремление к передаче не результата мышления как в классическом стихе, а процесса мышления и восприятия, «потока сознания», поиски новых точек зрения. В поэзии ХХ в. усиливается контекстуальная многозначность слова. За сложностью стиля лежит сложное содержание. Разговорная речь становится источником обновления поэтического языка. Усиление неопределенности было вызвано необходимостью выразить сложные, предельно отвлеченные, иррациональные сущности: «Кто-то кого-то куда-то звал» (А. Блок), «И донеслось уже до слуха: цветет, блаженствует, растет» (А. Блок), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (О. Мандельштам). Неопределенные местоимения или только подлежащие, или только сказуемые отражают индивидуальный ход ассоциаций, рождаемых во внутренней речи, для которой нет необходимости называть предмет, он всегда известен говорящему.
Свободный ход ассоциаций создает структуру, аналогом и моделью которой является монтажный принцип: отдельные представления соединяются так, как следующие друг за другом кинокадры. Этот принцип «рождает сочетание картин, мыслей, образов, связь между которыми остается в подтексте» [88, с. 167]. Взлеты метафоричности в поэзии ХХ в. связаны со стремлением передавать непосредственность восприятия.
Для поэзии ХХ в. характерен и гармонический принцип звуковой организации стиха, основанный на сочетании контактных и дистантных повторов и вариаций. Звуковое сходство слов осознается как их звуковая связь. Одним из важных способов изображения мира и обновления традиционных тропов является паронимия. Причем созвучия зачастую несут на себе печать рифмы. Например, «времени бремя» (О. Мандельштам), «шалью шелковой шаля» (С. Кирсанов), «чинная чиновница», «задолицая полиция», «Весь оскаленный шакал Из-за леса пришагал, За шакалом волочится Разужасная волчица» (В. Маяковский) и т. д.
Сравним у М. Лермонтова: «У Черного моря чинара стоит молодая», у А. Белого: «чернеют чинары». Заметим, что в творчестве А. Ахматовой, М. Волошина, Н. Гумилева, В. Ходасевича больше представлен классический стих, а паронимия – лишь частное явление. Для творчества В. Тушновой паронимия вообще не характерна, мало ее у Н. Рубцова, Н. Рыленкова, Ю. Друниной и др. Все эти особенности современной поэзии требуют от чтеца особого внимания к поэтическому слову, тщательной работы над видениями, рождающимися в ходе ассоциативного мышления в форме внутренней речи; умения разобраться в звуковой организации стиха и передавать звуковое сходство как смысловую связь. А главное – понять индивидуальный стиль каждого поэта.
Черты облика Маяковского отличаются от черт облика Есенина, Ахматову не спутаешь с Цветаевой. Истинного поэта чувствуешь с первых же строк. Строй образов, интонация, мелодика стиха – на всем этом лежит отпечаток личности поэта. Даже дух одного времени, в котором поэты живут, проявлен у каждого по-разному. Есть ямб Блока и ямб Пастернака. Формально это стихи, в которых сплошь двухсложные стопы с ударением на втором слоге. По существу же это совершенно разные стихи. Отличие идет не по слогам, не по ударным и безударным гласным, а по интонации, тембру голоса, внутреннему душевному жесту, строю образов.
Чтецу важно знать, что главное в творчестве того или иного поэта. У каждого из них свои темы и проблемы. Так, Н. Асеев тревожится о сохранении лада и гармонии в отношениях человека и общества, человека и природы, слова и мысли. М. Светлов добивался поэзии в человеческих отношениях, но как поэт сильных чувств он боялся чувствительности, сентиментальности, умствования в стихах. В его голосе, его интонации есть что-то мягкое, душевное, чеховское, осторожная ирония – орудие добрых и незащищенных. Одна из черт поэтического стиля П. Антокольского – прямота, крутой излом его строки, ораторский жест, формулы-афоризмы.
Особую трудность для исполнения чтеца представляет верлибр как прогрессивная форма версификации, принесенная в литературу авангардом. С формальной точки зрения верлибр – это стих, свободный от рифм и канонических ритмов. К нему обращались В. Брюсов, В. Хлебников, К. Бальмонт, А. Блок, М. Волошин, А. Вознесенский, Ж. Превер, Э. Верхарн, И. Бродский и др. В качестве примера приведем стихотворение В. Брюсова «Треугольник».
Я,елекачаяверевки,в синели,не различаясиних тонови милой головки,летаю в просторекрылатый, как птица,меж лиловых кустов!Но в заманчивом взореЗнаю, блещет, алея, зарница!и я счастлив ею без слов!Как видим, это стихотворение отличает оригинальная строфика строк и близость к прозе. Однако, в отличие от прозы, в нем есть своя форма, постижение которой потребует от чтеца глубины мышления, почти абсолютной точности слова, тончайшего чувства ритма, умения увидеть интонационный рисунок стиха и разобраться в его речевой структуре.
Прежде всего выясним, к какому типу лирики относится данное произведение, есть ли в нем лирический герой и какова его функция. Перед нами любовное стихотворение, лирический герой размышляет о своем чувстве, и его переживание достигает вершины эмоционального состояния в словах, являющихся доминантой произведения: «И я счастлив ею без слов!» Каждая из строк несет на себе смысловую нагрузку и является определенной микроситуацией, которую необходимо себе четко представить. Возможно, в воображении чтеца возникнет картина, изображающая влюбленных в момент катания на качелях. Форма стиха отражает момент раскачивания качелей и захватывающее дух физическое ощущение летящей птицы, когда в момент мелькания «лиловых кустов», «милой головки» теряется способность различать «синие тона синели» и одновременно чувство радостной влюбленности. Герой только предполагает, о чем свидетельствует слово «знаю», что в «заманчивом взоре» его возлюбленной «блещет, алея, зарница», т. е. она испытывает те же чувства, какие испытывает сам герой.
Таким образом, работа над выразительным чтением лирических произведений в процессе их подготовки к исполнению требует от чтеца развитого ассоциативного мышления и воссоздающего воображения, способности к сопереживанию, навыков исполнительского анализа, которые базируются на знании законов поэтического творчества и специфики лирики как рода литературы. Выразительное чтение учит находить в стихах свои мысли и чувства, вылившиеся в стройные строфы под пером поэта – мастера, умение видеть чудесные картины, созданные им, развивает способность слышать стихи – способность, которая необходима даже тогда, когда мы читаем стихи про себя.
2.2.3. Чтение басен
О значении выразительного чтения басен для школьников М. А. Рыбникова писала: «Чтение басен приучает к более живым и бытовым фразировкам, к более свободной расстановке пауз, к беглой перекличке голосов в диалоге, к ведению многочисленных вопросительных и восклицательных интонаций» [96б, с. 156].
Чтение басен имеет свои особенности, обусловленные спецификой их жанра. Басня – небольшой иносказательный рассказ поучительного характера, чаще всего изложенный стихами. Обычно человеческие свойства в басне олицетворяются в образах животных, растений или предметов, но нередки и такие случаи, когда действующими лицами басен являются люди. Содержание басен обычно раскрывается в очень несложном сюжете. Как правило, басня состоит из краткого описания одного события или акта и вытекающего из него вывода (морали), в котором непосредственно выражена основная мысль автора. Поучение может завершать повествование, логически вытекая из него («Кот и повар»), предварять повествование, которое в таком случае является образным подтверждением основной мысли («Ворона и Лисица»); наконец, мораль может и отсутствовать, если сюжет басни сам по себе с достаточной ясностью выражает ее идею («Стрекоза и Муравей»).
В качестве примеров мы не случайно назвали басни И. А. Крылова. Русская литература знала немало баснописцев, но наиболее художественно завершенное воплощение басня нашла именно в творчестве Крылова. Его басни – общепризнанный образец произведений этого жанра.
Главными чертами басенного творчества И. А. Крылова являются подлинная народность и глубокая реалистичность. Народность творчества Крылова сказывается прежде всего в идейном содержании его басен, в том, что писатель воспринимал и оценивал жизненные явления и человеческие поступки с точки зрения простого народа. В. Г. Белинский писал: «В них вся житейская мудрость, плод практической опытности и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род» [11, с. 150].
Хотя сюжеты басен И. А. Крылова большей частью фантастичны, сказочны (звери разговаривают человеческим языком, вступают друг с другом в несвойственные им в жизни взаимоотношения), содержание его произведений глубоко реалистично. Реалистические тенденции Крылова ярко сказываются на характерах его басенных персонажей. Баснописец настолько приближает поведение животных к поведению человека, наделяет такими живыми, реальными деталями, что мы видим за ними не отвлеченные аллегории, а живых людей с их индивидуальными чертами.
И. А. Крылов писал свои басни простым, гибким, метким и образным языком. Поскольку басенное творчество восходит к народному творчеству, писатель широко использует народные обороты речи: «ан, глядь, сидит та Крыса без хвоста», «вперед чужой беде не смейся, Голубок», «оглянуться не успела, как зима катит в глаза» и т. п., а также характерные для фольклора уменьшительные слова: «на ту беду Лиса близехонько бежала», «Лиса, курятинки, накушавшись досыта» и т. п. В совершенстве владел Крылов и образной, афористической формой народных пословиц и поговорок. Многие выражения самого баснописца вошли в наш жизненный обиход как пословицы и поговорки: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку», «Слона-то я и не приметил», «Услужливый дурак опаснее врага» и т. д.
Сюжетное повествование И. А. Крылов ведет обычно эпически объективно, редко высказывает свое мнение о событиях, прикрывая глубоко скрытую иронию рассказчика наивной серьезностью и внешним беспристрастием. Крайне редко употребляет он даже эмоционально-оценочные эпитеты, ограничиваясь простыми определениями: «кудрявая болонка», «зубастая щука», «косолапый Мишка» и т. д. Свое отношение баснописец непосредственно высказывает только в моральном выводе или зачине, лишь иногда в момент развязки сюжета или по его окончании. Жанровые и стилистические особенности басен определяют и основные требования к манере их исполнения. Приступая к работе, чтец должен прежде всего разобраться в содержании басни. Хотя идея часто оказывается сформулированной автором, чтецу важно сделать мораль убедительной. А для этого необходимо как можно конкретнее и нагляднее раскрыть слушателям характер каждого персонажа через описание его поступков и передачу его слов, отчетливо показать конфликт, на котором строится сюжет: неслучайно В. Г. Белинский называл басню «маленькой комедийкой». Важно также, чтобы события и образы басни в представлении чтеца опирались на какие-либо конкретные явления современной ему жизни, что вполне допускает обобщенный характер басенного содержания. Например, в басне «Квартет» И. А. Крылов намекал на учрежденный Александром I Государственный совет. Однако басня эта с таким же успехом может быть направлена против любой организации, в которой сидят несведущие люди, деятельность которых бессмысленна и бесполезна. Показ характеров персонажей – главное условие при чтении басен, но он необходим не сам по себе, а для выявления идеи произведения. Именно поэтому исполнитель во время чтения никогда не перестает быть рассказчиком и должен «видеть» персонажей как бы со стороны. Не изображать, не перевоплощаться в эти образы, а именно рассказывать о них. Показ персонажей может проявиться в передаче интонационного рисунка его речи, внешней характерности, манеры поведения.
При этом следует помнить, что идейная функция персонажей в басне заключается в том, что они всегда являются носителями какой-то определенной черты характера, разоблачаемой или утверждаемой автором, следовательно, чтец должен особенно ярко передать именно эту ведущую черту характера, подчиняя ей все детали.
Яркий показ возможен в басне не только при передаче прямой речи, но и в повествовательном тексте, описывающем внешний облик и действия персонажа или раскрывающем мотивы его поступков. Возьмем, например, отрывок из басни «Ворона и Лисица»:
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводитИ говорит так сладко, чуть дыша:«Голубушка, как хороша!Ну что за шейка, что за глазки…»Лисица олицетворяет в данном случае хитрого, лукавого льстеца. Ее прямая речь с ласковыми обращениям («голубушка», «светик», «сестрица») и обилием восклицательных знаков характерна для льстивой речи и дает чтецу богатый материал для показа этой черты характера. Однако следует помнить, что передавать повествовательный текст от лица или с точки зрения персонажа можно только в том случае, если этот текст не содержит прямых авторских оценок, как, например, в басне «Слон и Моська»: «Известно, что Слоны в диковинку у нас – /Так за Слоном толпы зевак ходили».
Чтец И. Ильинский первоначально изображал животных, доходя до звукоподражания, так что кошка у него мяукала, собака лаяла, но потом играл больше людей, а не самих животных. До сих пор многие чтецы при исполнении басни С. Михалкова «Заяц во хмелю» настолько переигрывают опьянение Зайца, что трудно даже бывает разобрать слова, которые они произносят. Шатаясь из стороны в сторону, размахивая руками, они бессвязно бормочут что-то себе под нос. Это обстоятельство надо учитывать в школе. Основное – передача характера, а звериные маски – лишь прием более яркого изображения персонажа.
Однако другие требования предъявляются к чтению басен «по ролям». Задача исполнителя – наиболее полно выявить характер воплощаемого им действующего лица. Он присваивает себе его мысли, чувства, побуждения, действия и в возможной мере интонационно перевоплощается в образ персонажа. Это обязывает его общаться не со слушателями, а со своими партнерами (кроме исполнителя роли «от автора»), воздействовать не на слушателей, а на партнеров. Чтец «от автора» остается рассказчиком, наблюдающим за происходящим, комментирующим сценку отдельными репликами-пояснениями, выносящим свой приговор продемонстрированному событию.
Художественные особенности басни определяют и способы общения чтеца с аудиторией. «Разговорность» басни, ее близость к обычной устной речи, накладывает отпечаток на манеру исполнения: это своеобразная беседа со слушателями, требующая прямого общения с ними, обращения к ним. Чтец должен привлекать их к активному участию в рассказе, иногда как бы отвечая на предполагаемый вопрос: «И чем же кончились забавы величавы?/Синица со стыдом в-свояси убралась…» Именно так, по воспоминаниям современников, читал свои басни сам Крылов: «Крылов басни свои как бы не читал, а пересказывал со всею грацией простодушия и безыскусственности» [8, с. 81].
Образ рассказчика в баснях И. А. Крылова близок к образу народного сказителя с характерными для него чертами: мудростью, простодушием, веселым лукавством. Однако он не старался встать в позу «учителя жизни» и как-то подчеркнуть свою мудрость. Крылов часто предоставляет возможность высказаться своим героям и даже рисует события с их точки зрения, т. е. как бы от их лица. Но за внешним спокойствием и объективностью чувствуются глубоко затаенные ирония и юмор человека мудрого, хорошо знающего жизнь и людей.
Басни И. А. Крылова обычно пишутся «вольным» стихом, для которого характерен разностопный ямб. Стихи эти нельзя превращать в прозу. Чтобы этого не случилось, не надо забывать о стиховых паузах. Исполнение басен так же, как и стихов, требует соблюдения изохронности (равновременности), которая достигается удлинением межстиховых пауз при чтении несоразмерных строк.
Мысли чтеца, заложенные в подтексте басни, должны опираться на образные представления, которые он наживает в процессе освоения авторского текста. Небольшой размер басни не оставляет места авторским описаниям, и чтецу необходимо дорисовать намеченные Крыловым образы и картины, обогащая их бытовыми деталями. Интересной в этом плане является работа над басней «Демьянова уха».
Художественное своеобразие басни в том, что в ней нет прямо выраженной морали. Обычно учащиеся выводят из басни такую, вытекающую из частной ситуации мораль: нельзя угощать без всякой меры. Надо найти обобщающее значение произведения и определить его художественные особенности. Известно, что к «Демьяновой ухе» И. А. Крылов приписал поучительную концовку после того, как на одном из заседаний общества «Беседа любителей русского слова», услыша чтение длинной и скучной пьесы, прочитал после его окончания «Демьянову уху». Содержание басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и приноровление было так ловко, так кстати, что публика хохотом от всей души наградила автора за басню.
Конечно, смысл басни шире, чем он сформулирован в морали, ограничивающей ее обобщенный смысл:
Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь,Но если помолчать вовремя не умеешьИ ближнего ушей ты не жалеешь, —То ведай, что твои и проза и стихиТошнее будут всем демьяновой ухи.Мораль этой басни не может быть исчерпана лишь осуждением тщеславия писателя, который мучит чтением своих произведений окружающих. Образы басни, смысл ее сюжета позволяют делать вывод более широкий, применить ее для осмеяния назойливости, злоупотребления правом гостеприимства и дружбы и т. п.
Итак, выясним, чем басня «Демьянова уха» отличается от уже изученных басен. В ней нет открытого нравоучения, так как оно не нужно: внутренний замысел произведения подсказан всей его образной системой. В чем же заключается этот замысел, что осмеивает Крылов в своем произведении?
И вот после первоначального, слишком конкретного определения морали басни можно обратиться к концовке произведения, возникшей после чтения ее Крыловым в «Беседе». Писатель отказался от морали басни, потому что нам без нее делается понятнее, что в басне речь идет не только о Демьяне. О таких людях, как Демьян, говорят: «Прилип, как банный лист». «Крылов осмеивает нахальных Демьянов, которые встречаются в жизни». «Человек может быть и с добрыми намерениями, но получается, что от этих намерений другим только хуже». Следовательно, готовясь к выразительному чтению, надо будет попытаться передать мораль: во всем необходима мера, чрезмерное навязывание чего-либо к добру не приводит.
Открытие И. А. Крылова в басенном жанре – это создание характеров. В этом отношении он шел от драматургии, комедии. Мы словно врываемся в чужой спор, превратившийся в забавный поединок между Демьяном и Фокой. Причем от реплики к реплике наше отношение к персонажам меняется: если в начале басни мы относимся к Демьяну как к радушному хозяину, хлебосолу, то в конце – как к деспоту и мучителю, все больше и больше проникаясь, с одной стороны, сочувствием к Фоке, с другой – осуждением его безволия, неумения постоять за себя.
Выясним, какими представляются нам в воображении Демьян и Фока. Судя по речи и одежде, это простые люди, крестьяне средних лет, одеты они в рубахи-косоворотки, подстрижены под горшок, с бородами. Фока сидит за большим деревянным столом под образами в «красном» углу. Перед ним – деревянная ложка и большой ломоть хлеба. Рядом – русская печь, возле которой хлопочет жена Демьяна, в платке и сарафане, ухватом достает из печи чугунок с ухой, чтобы по приказанию мужа подлить ухи в миску гостя. После словесного рисования портретов героев можно рассмотреть иллюстрацию к басне художника А. Лаптева. Она дополнит представления о персонажах. Почему Демьян так старается угодить Фоке? Есть ли у него какая-нибудь цель? Должно быть, соседи находятся в дальнем родстве – сваты или кумовья. «Причем Фока богаче Демьяна, – отмечают обучающиеся. – Может быть, Демьян мечтает, чтобы Фока продал ему подешевле лошадь или корову».
Рассказывая, автор заранее знает, к чему приведут действия героев, это помогает ему в оценке их поступков, хотя в начале басни он не высказывает своего открытого отношения к Демьяну и Фоке. Задача автора, а следовательно, и чтеца – как можно точнее и объективнее передать намерение Демьяна, поэтому он и дает ему возможность так много говорить по сравнению с Фокой. Обратим внимание на интонационное богатство и разнообразие речи Демьяна, качества, которые свойственны живой разговорной речи русского языка. Речь героя то ласково-вкрадчивая, то настойчивая, то умоляющая. Этому содействует привлечение автором слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: соседушка, ложечка, тарелочка, ушица, кусочек, а также использование чисто русского обращения «мой свет».
Отметим, что каждое слово в произведении отличается выразительностью и зрительной наглядностью. Прозрачную желтизну наваристой, жирной ухи Крылов подчеркивает поэтически точным сравнением: «как будто янтарем подернулась она». Фока говорит только две реплики. Ему очень нелегко, герой не хочет прослыть невежливым и неблагодарным, поэтому не в силах отказать хозяину. Сначала он отказывается приличия ради: «Соседушка, я сыт по горло». После третьей тарелки жалобно замечает: «Я три тарелки съел». Потом, не выдержав хлебосольства Демьяна и забыв его поблагодарить, в ужасе убегает от соседа.
Просим одного, затем другого чтеца попытаться нарисовать характеры персонажей, передав свои видения в чтении. Остальные следят за тем, кому из чтецов удалось лучше выполнить исполнительскую задачу. Отметим, что не нужно изображать Демьяна и Фоку, как при чтении по ролям, а надо рассказать о них, при этом постараться показать, как назойливо приставал Демьян к Фоке с просьбой отведать уху и как тяжело было Фоке, чтобы не обидеть хозяина, заставить себя съесть последнюю, но всякий раз оказывающуюся не последней тарелку ухи. После проделанной работы можно предложить прослушать басню в записи в исполнении мастера художественного слова и ответить на следующие вопросы: Понравилось ли вам чтение басни в исполнении А. Покровского? Чем именно? Какими рисует чтец Демьяна и Фоку? Совпадает ли трактовка басни чтецом с авторским замыслом?
Басня «Демьянова уха» написана И. А. Крыловым очень давно, но то, что в ней произошло, остро воспринимается и сегодня, поскольку означает явление, которое может быть и в нашей действительности. И проникновение средствами выразительного чтения в увлекательный басенный мир великого русского писателя, выявление его положительного идеала имеют важное значение для воспитания высоких нравственных качеств современных школьников, и в первую очередь тактичности и деликатности.



