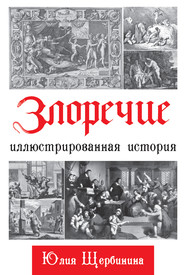скачать книгу бесплатно
Словарь клеветы
Чем масштабнее и популярнее та или иная социокультурная практика – тем богаче ее вокабуляр, тем больше синонимов и смежных понятий.
Слово ябеда пришло в русский язык из древнескандинавского, где звучало как «эмбетти» и означало службу, должность. Изначально ябедником назвали чиновника, но поскольку многие служащие показывали себя далеко не с лучшей стороны – ябедами стали называть доносчиков, в том числе клеветников. Ябеда была общим названием ложного обвинения, в качестве юридического термина чаще употреблялось слово поклеп: поклепный иск, поклепное дело, поклепное челобитье…
Доносы именовались доводами и изветами (от «извещать»). Дурным изветом называли в основном обвинение по пьяни и в сердцах – брошенное во время ссоры, драки. Более известное слово навет употреблялось преимущественно в расширительном смысле «козни, наущение». Само же слово донос в нынешнем значении вошло в речевой оборот примерно в 1760-е годы; прежде оно означало просто сообщение о чем-либо.
Синонимами клеветнического обвинения и лжедоноса в разных контекстах были затейный (вымышленный, заведомо ложный), облыжный (облыг = ложь), напрасный, недельный, воровской. (В старорусский период воровством называли любое преступление и даже правонарушение.) Семантически смежные названия: оговор, наряд, обада (церк. – слав.).
В ходу были и образные выражения: наряд наряжать, нарядные писма, затевать затейки, затейные враки. Здесь отражается скрытый, имплицитный характер клеветы: сокрытие и утаивание истинного намерения. Соответственно, и у самого клеветника тоже было немало имен нарицательных: шепотник, клепач, нарядчик, ябедник, дегтемаз.
Тайно подброшенный донос без подписи назывался подметным письмом – от слова «метать» (незаметно кидать). Анонимки считались серьезным преступлением и прилюдно сжигались, а пойманных авторов ожидало суровое наказание. При этом грань между справедливым обвинением и злоумышленным очернительством была весьма зыбкой, а квалификация преступления во многом зависела от мотивации судей.
При Михаиле Федоровиче возник, а при Петре I закрепился особый порядок участия в политическом сыске, выражавшийся формулой «Слово и дело (государево)!». Громогласное произнесение этой фразы в людном месте означало готовность дать показания о государственном преступлении. Этими словами начиналось большинство доносов, многие из которых являли собой образчики сущей мелочности или явного абсурда. Например, в 1718 году некий Севастьян Кондратьев, прокричав «слово и дело», донес на киевского губернатора князя Салтыкова: якобы тот «гадает у бабы, когда ему ехать ко двору». Доведенные до предела отчаяния крепостные нередко кричали на помещиков «слово и дело» только за истязания и притеснения.
Среди изветчиков были коварнейшие хитрецы, завзятые пройдохи, алчные мздоимцы, но встречалось и немало пропойц, слабоумных, душевнобольных с манией сутяжничества. Несмотря на судебную ответственность за ложные доносы, они сыпались как из рога изобилия, забивая судебные канцелярии – начиная столичной и заканчивая самой захолустной.
Народная ненависть к доносчикам пополняла словарь клеветы хлесткими пословицами. Доносчику – первый кнут. Ябедника на том свете за язык вешают. Бог любит праведника, а черт – ябедника. Кто станет доносить, тому головы не сносить.
Кликтуницы – клеветницы
Ходячими сосудами с ядом клеветы были кликуши — люди, подверженные истерическим припадкам с резкими выкриками и бессвязными нечленораздельными речами. Впервые о «кликтуницах», «икотницах» упоминает письменный источник 1606 года, но сам феномен известен еще с XI века. В большинстве кликушами были женщины, которые жаловались, что на них «навели порчу», «наслали бесов».
Примечательна народная вера в возможность управления кликушеской речью с помощью особых магических приемов. Считалось, что уста кликуши выдадут ценную информацию, если обратиться к бесу, повесить на кликушу замок, держать ее за палец, надеть на нее хомут или венчальный пояс.
Очень часто кликуши указывали на подозреваемых злодеев из близкого окружения – родственников, соседей, односельчан. Это сейчас мы понимаем, что подобные обвинения были в большинстве ложными, а в XVII веке названных кликушами людей – «окликанных» – считали колдунами, тащили на суд и предавали пыткам. Считаясь главным и притом неоспоримым доказательством, кликушеский бред активно использовался и для политических наветов, и для сведения личных счетов простолюдинами.
В исторической ретроспективе клевета – единственный вид злоречия, воплощенный в негласном праве раба выступить против господина. Клевета была воплощенным голосом, которым зло высказывало себя миру. Самовнушение в сочетании с корыстью породили яркий психосоциальный фантом и особый речевой феномен: кликушество сделало клевету фактически легитимной. И это была самая настоящая черная магия слов.
Кликушеское злоречие служило эффективным инструментом политической борьбы и властного контроля. Картина Апеллеса превратилась из символа в реальность: влекомые Злобой и Коварством кликуши вливались в свиту Клеветы и нескончаемыми вереницами тянулись к царскому трону. Если в Европе этому немало способствовало распространение экзорцизма (церковного обряда изгнания бесов), то в Московском государстве – усиление суеверий после никонианских реформ и церковного раскола. К «услугам» кликуш прибегали, в частности, сторонники царицы Софьи для очернительства молодого царевича Петра, а затем – противники Петровских реформ.
Доведенный до белого каления кликушескими кознями, Петр повелел, «ежели где явятся мужеска и женска пола кликуша, то, сих имая, приводить в приказы и розыскивать» (то есть допрашивать под пыткой). Указом 1715 года справедливость была формально восстановлена: отныне судили «притворно беснующихся», а не «окликанных». Но не тут-то было! Изворотливые шарлатанки принялись обвинять людей в не связанных с бесовством преступлениях: мошенничестве, грабеже, убийстве.
Пустив глубокие корни в народной среде, цепляясь за невежество, питаясь завистью и подозрительностью, кликушеское «мнимостраждие» не сдавало позиций вплоть до конца XVIII столетия. Законодательство Российской империи сохраняло наказания за него вплоть до 1917 года. В современный язык слово «кликушество» вошло со значениями «истерическая несдержанность» и «бестактное политиканство».
Аттракционы памятозлобия
В правотворчестве Петровского времени относительно клеветы наблюдалось все то же расхождение действительности с декларативностью. С одной стороны, в Воинские артикулы 1715 года входила отдельная глава «О поносительных письмах, бранных и ругательных словах», где клевета рассматривалась как отдельное преступление и разделялась на устную и письменную. С другой же стороны, по верному замечанию Василия Ключевского, донос «стал главным инструментом государственного контроля, и его очень чтила казна».
Письменная клевета именовалась пасквилью (в женском роде) и считалась более опасной ввиду анонимности. «Пасквиль есть сие, когда кто письмо изготовит, напишет или напечатает, и в том кого в каком деле обвинит, и оное явно прибьет или прибить велит. А имени своего или прозвища в оном не изобразит». За такое полагались шпицрутены, тюрьма или каторга. И «сверх того палач такое письмо имеет сжечь под виселицею».
В ходу была также процедура «очистки от навета» – то есть пытки, с помощью которой изветчика заставляли сознаться в клеветничестве. Причем добровольный отказ от показаний не избавлял от пыток – они применялись повторно, для подтверждения раскаяния. Если доносчик упорствовал в своих обвинениях, его с ответчиком «ставили с очей на очи», устраивали очную ставку.
Затем предавали пыткам обвиняемого. Бесчеловечная процедура «перепытывания» увеличивала шанс для утверждения клеветы. Отказ от прежних показаний или частичное их изменение на новой пытке – т. н.
«переменные речи» приводили к утроению пыток. Это жуткое правило цинично именовалось «три вечерни».
Видя массовые злоупотребления доносительством и вняв многочисленным жалобам, в 1714 году Петр I огласил указ, согласно которому обвинителю «ради страсти или злобы» полагалось «то же учинить, что довелось было учинить тому, если б по его доносу подлинно виноват был». Однако это не пресекло злоупотреблений. Преображенский приказ розыскных дел был доверху завален нескончаемыми изветами.
Изветчиками были опустившиеся пропойцы и почтенные отцы семейств, бравые вояки и канцелярские крысы, хитрованы и простофили, злоболюбивые и малахольные, сановные и безродные… Купцы уничтожали торговых конкурентов, мастеровые сводили внутрицеховые счеты, крепостные мстили помещикам за притеснения, арестанты пытались улучшить условия заключения, родственники изводили опостылевших домочадцев…
Установленный порядок стимулировал расторопность изветчиков. Так, «просроченные» (запоздалые) доносы вызывали меньше доверия и награждались не столь щедро, чем заявленные день в день. На практике это превратилось в соревнование в лжедоносительстве, или, по Сенеке, «великое состязание в негодяйстве».
Адольф Шарлемань «Петр I накрывает заговорщиков в доме Цыклера 23 февраля 1697 года», 1884, холст, масло
В топе обвинительных мотивов были ворожба и покушение на государя. Стольнику Никите Пушкину вменили покупку «шпанских мух» и намерение «теми мухами государя окормить». Беглый рекрут Леон Федоров донес на помещика Антона Мозалевского: «ворожит, шепчет и бобами разводит…и знает про государя, когда будет или не будет удача на боях против неприятеля». Рассыльщик Ларионов и подьячий Яхонтов оговорили дьяка Васильева: якобы тот ведает, «как царя сделать смирным, как малого ребенка». Крепостной Илья Ярмасов облыжно обвинил князя Игнатия Волконского в убийстве пяти человек, высечении у них топором сердец и приготовлении колдовского зелья на водке – чтобы «портить государя».
Среди изветчиков встречались настоящие фанатики, для которых клеветничество было извращенным сладострастием, экстремальным спортом и аттракционом памятозлобия. Казалось бы, что общего у беглого солдата Дмитрия Салтанова, казака Григория Левшутина, бывшего драгуна Андрея Полибина и священника Василия Белоуса? Все они специализировались на изветах о покушении на жизнь царя, причем умудрялись инициировать масштабные допросы невиновных, даже находясь уже на каторге.
Клевета порождала особый род мученичества, эдакую «антисвятость». Часто это был доведенный до предела ресентимент: стремление отчаянного, а нередко и отчаявшегося человека погубить напраслиной как можно больше невиновных. Для таких людей поклеп становился местью за собственную погубленную судьбу. Вариантом Апеллесовой картины, на которой вслед за Клеветой плелось Несчастье и тащило за собой Бесчестье.
Созданная Петром I циклопическая паутиноподобная институция доносительства была упразднена при Анне Иоанновне в 1730 году. Этому способствовали и всеобщая ненависть, и отсутствие ощутимой пользы. Однако на поверку это не возымело особого эффекта в борьбе с ложными обвинениями. В мемуарах графа Эрнста Миниха сообщалось: «Ни при едином дворе, статься может, не находилось больше шпионов и наговорщиков, как в то время при российском. <…> И поскольку ремесло сие отверзало путь как к милости, так и к богатым наградам, то многие знатные и высоких чинов особы не стыдились служить к тому орудием».
Нетерпимость vs полезность
Официальное отношение к доносам по-прежнему оставалось двойственным: каралось как ложное обвинение, так и недоносительство. Что делать в такой ситуации? Приходилось всячески изворачиваться. Блистательную иллюстрацию находим в судебном деле 1732 года. Посадский Василий Развозов заявил, будто купец Григорий Большаков назвал его «изменником», то есть фактически обвинил в государственном преступлении. Григорий измыслил отличную отговорку: дескать, такое слово он вправду говорил, да только не про Василия, а про сидевшего на крыльце пса. «Вот у собаки хозяев много, как ее хлебом кто покормит, тот ей и хозяин, а кто ей хлеба не дает, то она солжет и изменить может, и побежит к другим». Каково!
В 1762 году Петр III упразднил Тайную канцелярию – орган политического сыска и суда, самим существованием которого «злым, подлым и бездельным людям подавался способ, или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей». Но клевете все было нипочем: государев манифест не отменял доносительства, запрещалось только принимать показания заключенных и оговоры без письменно оформленных доказательств. Вместо Тайной канцелярии образовалась Тайная экспедиция, куда уже через неделю после обнародования манифеста перешел весь штат сотрудников.
Покуда же шла реорганизация карательного ведомства, в ситуации ослабления властного контроля по кулуарам поползли порочащие государя слухи, что в итоге привело к его гибели и дворцовому перевороту. Безжалостной рукой Клевета затянула ружейный ремень, которым, по легенде, был задушен Петр III. Затем той же рукой был написан ряд исторических сочинений, в которых император огульно именовался «голштинским солдафоном», «беспробудным пьяницей», «духовным ничтожеством».
Екатерина II запретила «ненавистное изражение Слово и дело», за которое отныне предписывалось «наказывать так, как от полиции наказываются озорники и безчинники». Клеветников клеймили литерами «Л» и «С», означавшими «ложный свидетель». Пасквили публично сжигались под барабанный бой на городских площадях. Доносительство уже не считалось проявлением патриотизма и верноподданничества.
Однако и при Екатерине, которой приписывают известное изречение «Доносчики нетерпимы, но доносы полезны», изветчиков не стало меньше. Поубавилось разве что рвения, но не прыти. Примечательно высказывание адмирала Екатерининской эпохи Николая Мордвинова: «Злобный доносчик может самое невинное слово обратить в уголовное преступление и подвергнуть невинно мучению».
Иной раз изветы превращались в изощренное развлечение, жестокую забаву. Так, знаменитый уральский заводчик Прокофий Демидов тешил себя «пашквилями» на брата и даже на приближенных самой императрицы, распространял стихотворные клеветы на сенаторов. В конце концов терпение Екатерины лопнуло – и она повелела публично под виселицей сжечь письмена Демидова. Но неистощимый в злоязычных фокусах сумасбродный богач выкупил все квартиры окнами на площадь с виселицей, приказал накрыть в них роскошные столы для приглашенных друзей, нанял два оркестра, хор песенников – и трапезничал в приятном обществе, наблюдая за сожжением своих пасквилей из окон роскошного особняка.
Процветанию клеветничества в высших сословиях XVIII века немало способствовал фаворитизм. Вот где был наитончайший баланс между моральной «нетерпимостью» клеветы и ее «полезностью» для власти! Один из многочисленных примеров – анонимная клеветническая биография светлейшего князя Григория Потемкина, написанная саксонским дипломатом Георгом Гельбигом. Биография публиковалась отдельными частями в журнале «Минерва» с 1797 по 1799 год и без какой-либо проверки перепечатывалась многими европейскими издательствами.
Едва ли не половина всех доносов Екатерининского времени, согласно подсчету историков, были «неправыми», то есть ложными. Борьба за личное расположение монарха и его особую милость становилась тиглем для выплавки искуснейших клевет. Фаворитизм был механизмом возгонки ресентимента, превращал клевету в летучий газ, проникавший в самые отдаленные уголки огромной империи.
Участь Чацкого
Соотношение «нетерпимости» и «полезности» клеветы кардинально не изменилось и в XIX столетии. Попадались, правда, крепкие орешки вроде Петра Чаадаева, чья жизненная история послужила сюжетной основой комедии «Горе от ума».
Незаурядный мыслитель, интеллектуал европейского склада, обличитель николаевского режима, Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим. Денис Давыдов и Николай Языков сочинили стихотворный пасквиль, в котором издевались над его «Философическим письмом». В Большом театре шла сатирическая комедия Михаила Загоскина, где высмеивалось чаадаевское вольнодумство.
Однако Чаадаев продолжал участвовать в публичных мероприятиях и держался даже франтовато, реагируя на клевету с истинно философским спокойствием. Впечатленный его выдержкой Николай I наложил следующую резолюцию на доклад о прекращении лечения: «Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать». Петру Чаадаеву до конца его дней запретили наносить визиты. Глубина мысли и смелость поступков выдающегося человека были сведены к пошлому чудачеству.
Менее известна, но не менее драматична судьба графа Матвея Дмитриева-Мамонова, которого также объявили душевнобольным за отказ присягать Николаю I, да еще и подвергли принудительному лечению с целью добиться покаяния. Это был один из первых отечественных примеров карательной психиатрии. Обливание ледяной водой, смирительная рубашка, изоляция в подмосковной усадьбе привели графа к подлинному сумасшествию, а затем и к нелепой гибели от ожогов из-за возгорания смоченной одеколоном рубашки.
Еще одна жертва мнимого сумасшествия – брянский заводчик-миллионер Сергей Мальцов. На его организованных по высоким европейским стандартам предприятиях трудилось сто тысяч рабочих. В его заводском округе были своя железная дорога, своя судоходная система, своя полиция и даже свои деньги. Однако проживавшая в Петербурге жена Мальцева не понимала ни масштаба его личности, ни значимости его дела и пустила слух о сумасшествии. Ведь только умалишенный мог спускать кучу денег на простолюдинов, да еще и петь в мужицком хоре.
Затем злонравная супруга адресовала просьбу оградить ее от «спятившего» самой императрице. Жесточайший психологический удар довершается черепно-мозговой травмой в результате несчастного случая. Мальцова признают недееспособным и лишают всех прав на заводскую собственность. Вконец раздавленный, он заканчивает свой век в отдаленном имении.
Участь Чацкого отчасти постигла и самого Грибоедова. На светском рауте он нелестно отозвался об одном прощелыге, после чего был пущен слух о его невменяемости. «Я им докажу, что я в своем уме. Я в них пущу комедией, внесу в нее целиком этот вечер: им не поздоровится», – пообещал обиженный Грибоедов и сдержал обещание. «Горе от ума» – литературный ответ на частную клевету, масштабированный до сатиры на все московское дворянство.
В приведенных историях и множестве аналогичных примеров обнаруживается еще одно онтологическое свойство клеветы, заключенное в известной метафоре «убивающего слова». Словесно оскверненный человек выпадает из общения, исторгается из коммуникации, становится изгоем. Ложное обвинение подобно магическому обряду наведения порчи. Клевета – своеобразный род социального проклятия (подробно – в гл. III).
Фискалы, филеры, сексоты
Что же касается доносчиков-профессионалов, то они никуда не исчезают – только меняют свои названия.
Так, в 1711 году Петр I учредил сначала должность фискала (лат. fiscus – касса, казна, финансы), обязанного надзирать за исполнением чиновниками государственных служб и царевых поручений, а затем и обер-фискала – высшего должностного лица по тайному надзору за финансовыми и судебными делами. В случае выигрыша половина изъятого имущества или штрафа принадлежала фискалу – и он незамедлительно превратился в завзятого клеветника, встав в один исторический ряд с греческим сикофантом и римским делаторием.
С «гордым гневом» жалуясь на презрительное отношение Сената, «непотребные укоризны и поношение позорное», фискалы – эти стотысячные «очи государевы» – денно и нощно рыскали в поисках компромата. Шастали по торговым рядам, присутственным местам, игорным домам, баням, кабакам… Ревностное исполнение фискальных обязанностей почиталось как верноподданническое. В фискалы рвались столь же рьяно, как нынче рвутся в народные депутаты.
Со временем фискальство стало обобщенно-фигуральным названием доносительства и проникло в самые разные сферы. Наиболее заметно и вопиюще безобразно оно проявилось в образовательной среде, что подробно описано Николаем Помяловским в «Очерках бурсы».
Явилось новое должностное лицо – фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую послугу начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. <…> Ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству.
И вновь, как видим, «полезность» доносов вступает в явный конфликт с его «нетерпимостью». Однако редкий ученический коллектив обходится без наушника, при том что наушник неизменно становится объектом ненависти и преследования.
В XIX веке агенты Охранного отделения и уголовно-сыскной полиции, занимавшиеся наружным, уличным наблюдением и негласным сбором информации, получили название филеры (фр. fileur – сыщик), или попросту наружники. Основной их обязанностью было доносительство о деятельности революционных кружков, особенно террористических организаций, о сборищах заговорщиков и провокаторов. Агентов браннопренебрежительно называли шпиками, топтунами, подошвами.
Разумеется, среди филеров встречались предатели, корыстолюбцы и просто людишки себе на уме, так что канцелярия клеветы по-прежнему не испытывала недостатка кадров. Случалось, топтун втихаря покидал наблюдательный пост по личной надобности, после чего записывал в отчет наскоро выдуманные сведения. По ироническому замечанию декабриста Гавриила Батенькова, филеры «не могли понимать разговора людей образованных» и посему «занимались преимущественно только сплетнями».
К концу столетия с усилением революционных настроений выросла и армия «двойных агентов», трудившихся одновременно на правительство и на его врагов. Из самых известных и одиозных – Евно Азеф, секретный сотрудник Департамента полиции, а также «по совместительству» один из руководителей партии эсеров.
В конце позапрошлого столетия появляется еще одно понятие – сексот (сокращ. «секретный сотрудник») – штатный осведомитель жандармских управлений. Затем оно перешло в лексикон советских силовых ведомств. Поставщик эпизодических сведений звался на жаргоне штучником.
В целом же российское законодательство XIX века было уже не столь ревностно в отношении клеветы. С одной стороны, доносительство уже не только не вменяется в обязанность как непременное условие гражданского благочестия, но воспринимается как противоречащее порядочности. С другой стороны, ложное обвинение карается не так строго: штрафом и тюремным заключением до восьми месяцев. Устрашением для потенциальных клеветников служило установление высшей меры наказания за троекратную подачу необоснованной жалобы. Правда, правоприменение этой статьи исчислялось единичными случаями.
Многовековая и многотрудная работа российского правоведения по квалификации состава клеветы завершается на рубеже столетий Уголовным уложением 1903 года, в котором клевета сливается с диффамацией в обобщенное понятие опозорение — умышленное разглашение каких-либо обстоятельств, «роняющих человека в глазах других людей, вредящих его доброму имени». Но и заключенная в строгие юридические формулы клевета по-прежнему остается неуловимой и неизменно вредоносной.
Змея с зелеными глазами
В отличие от европейской, русская литература в меньшей степени тяготела к символизации клеветы. Многие произведения – как фольклорные, так и авторские – подробным изложением мотивации персонажей и однозначностью оценок их поступков напоминают протоколы судебных дел. В центре повествования – пусть и вымышленный, но факт.
В народе ходили устные пересказы датированной XII веком славянской «Повести об Акире премудром» о мудреце, ставшем жертвой клеветы приемного сына. Позднее пользовалась популярностью «Повесть о царице и львице» о злоключениях царицы, ложно обвиненной в супружеской неверности и изгнанной в пустыню. В другой известной «Повести о Савве Грудцыне» жена оговаривает любовника перед супругом. В первой половине XVIII столетия ходила в списках «Повесть о царевне Персике» об оклеветанной мачехой царской дочери.
Все эти тексты объединяет не только мотив мести, но также идея нравственного выбора, который совершается героями либо через анализ обстоятельств, либо по велению души. Здесь выясняется, что клевета не только ядро всего злоречия, но и средоточие человеческих пороков вообще. Помимо зависти, это трусость и нерешительность, глупость и легковерие, гордыня и своенравие.
С конца XVIII – начала XIX века клевету начинают препарировать профессиональные литераторы. Один из первых опытов – басня Крылова «Клеветник и змея», очередное напоминание о Демосфеновом змееподобном сикофанте. Змея и Клеветник спорят в аду, «кому из них идти приличней наперед» и «кто ближнему наделал больше бед». Змея одерживает верх, похваляясь ядовитым жалом, но Вельзевул все же признает победу за Клеветником, чей злой язык способен язвить так далеко, что от него «нельзя спастись ни за горами, ни за морями».
Тема очернительства развивалась и в прозе. Княжна Мими из одноименной повести Одоевского – униженная светскими предрассудками старая дева – мстит за свое одиночество распространением клеветы, из-за которой гибнет ни в чем не повинный человек. Такова же и графиня Мавра Ильинична – одинокая злобная клеветница – из романа Герцена «Кто виноват».
Софья Каликина «Спор клеветника и змея о первенстве в аду», нач. XX в., бумага, тушь, граф. карандаш, темпера
Тот же аллегорический образ – в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам»: клеветницу после смерти мучают выползающие из ее уст змеи.
О клевете и мучительные, исполненные то выспренной назидательности, то философского смирения, то отчаянного трагизма рефлексии Пушкина в «Евгении Онегине» («Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы, на чердаке вралем рожденной и светской чернью ободренной»); «Борисе Годунове» (призыв Шуйского «народ искусно волновать»). Мотив клеветы – и в «Анджело» («Знай, что твоего я не боюсь извета»), «Сказке о царе Салтане», стихотворениях «Клеветникам России» и «Памятник». Не говоря уже о том, что сам поэт «пал, оклеветанный молвой».
Лживые россказни Грушницкого о Печорине – пружина сюжета «Героя нашего времени». О клевете с горечью писал Некрасов: «Снежным комом прошла-прокатилася Клевета по Руси по родной». Сатира в прозе Салтыкова-Щедрина «Клевета» – о разнообразии социальных оттенков и речевых приемов очернительства. В рассказе Чехова «Клевета» герой пугается подозрений во фривольности с кухаркой и, желая упредить поклепщика, решает самолично поведать о щекотливом эпизоде. Эффект достигается ровно противоположный: через неделю информация возвращается к герою в форме злостной клеветы.
Изветчики, наговорщики, наушники шагают по страницам русской литературы, наглядно демонстрируя, как глубоко и прочно клеветник укоренен в лживых измышлениях, как упорствует в возведении напраслины. Титан клеветы готов свернуть горы слов, вытащить из бестиария злоречия всех пресмыкающихся, насекомых и птиц, чтобы во всеоружии идти войной на Истину. Но изящная словесность не только исправный поставщик поучительных сюжетов, но и своеобразный «аннотированный каталог» жизненных обстоятельств, речевых ситуаций, коммуникативных сценариев клеветы.
Василий Перов «Наушница. Перед грозой», 1874, бумага на картоне, тушь, карандаш
Раз все ее товарищеские попытки отвергнуты и ведут только к глумлению и обидам, – так черт же с ними, с этими злыми дурами и негодяйками! Она тоже пойдет против них – примкнет к силе, пред которою они трепещут. До сих пор она нисколько не злоупотребляла своим положением «экономкиной душеньки», теперь стала давать его чувствовать всем, кто показывал ей когти. Наушничала и даже клеветала, навлекая на товарок-врагинь ругань и побои Федосьи Гавриловны, которая со дня на день все больше души не чаяла в своей «Машке» и верила ей безусловно.
[Врагини, понятно, тоже принимали меры безопасности]: бегали к Федосье Гавриловне в больницу и наушничали ей на Машу всевозможные сплетни и клеветы.
(Александр Амфитеатров «Марья Лусьева»)
Не менее наглядно литература отображает разноплановость клеветы, художественно убеждая в том, что очернительство может быть не только выражением зависти и способом самоутверждения, но и средством от скуки, психологической самозащитой, «антиспособом» выживания. Последний случай находим в романе Александра Амфитеатрова «Марья Лусьева» (1903).
Серебряный век русской литературы развивает традиционные мотивы клеветничества, используя устойчивые образные клише. «Что клевета друзей? – презрение хулам!» – вслед за Пушкиным рассуждает Брюсов. Пастернак показывает неизбывность клеветы: клевещут «правдоподобье бед», «рукопожатье лжи», «ничтожность возрастов». В стихотворении Сологуба клевета – «лиловая змея с зелеными глазами», а в романе «Мелкий бес» выведен эталонный клеветник Передонов, одновременно одержимый манией преследования доносчиками. Змееподобный образ клеветы находим и у Ахматовой: «И всюду клевета сопутствовала мне. Ее ползучий шаг я слышала во сне».
Не обнаруженный нами ни в одном отечественном произведении изобразительного искусства архаический образ клеветы разнообразно варьируется в литературном творчестве. Однако вряд ли стоит говорить о том, что европейская культура рефлексирует клевету больше визуально, а российская – вербально. Это было бы слишком абстрактным обобщением без достаточных аргументов. Корректнее предположить универсальность мотива клеветы и его избирательную востребованность художниками и писателями.
Лучше стучать
В период революционных событий и Гражданской войны клеветничество вновь обретает яркую политическую окраску. В 1918 году одиозную фигуру предателя и доносчика отливают в пятиаршинный памятник Иуде Искариоту и торжественно устанавливают в Свияжске. Правда, грозящий небу Иудушка не простоял и двух недель – был потихоньку демонтирован и утоплен в Волге.
Уголовным кодексом СССР 1926 года клевета обособляется в отдельное преступление. Диффамация декриминализуется и даже поощряется, что уточняется в комментариях к УК: «Государству и обществу важно знать, что из себя представляет тот или иной гражданин. Тот, кто сообщает о таком согражданине что-либо, хотя бы и позорное, конечно, оказывает тем помощь в деле оценки его личности». Известный деятель ЧК-ОГПУ Мартын Лацис заявил, что «каждый коммунист обязательно должен быть стражем рабочей и крестьянской власти и донести последней обо всем, что он увидел, и пособить, где это потребуется, изловить заговорщиков, подкапывающихся под новые устои пролетарского государства».
Клевета упоминается в марше Корниловского полка («Пусть вокруг одно глумленье, клевета и гнет…»), гимне донских казаков («Друзья, не бойтесь клеветы!»), известном афоризме Горького («Клевета и ложь – узаконенный метод политики мещан»).
При этом, с одной стороны, все не соответствующее коммунистической идеологии объявляется клеветой. С другой стороны, муссируется идея о том, что монархию можно было сохранить, если бы граждане не руководствовались «архаическим» понятием чести, а оповещали официальные органы о деятельности революционеров. Такого мнения придерживался, в частности, публицист Иван Солоневич. Однако рассуждать было уже поздно – оставалось только лавировать между моральными принципами и декларациями о гражданском долге.
Клевета становится легитимной практикой и одним из методов государственной политики: классового врага можно и нужно уничтожать прежде всего словесно. Велеречивые выступления с трибун, многословие советских вождей, небывалая популярность диспутов, жанр идеологической проработки (гл. V), товарищеские суды – все это речевые стратегии борьбы за власть.
В сталинский период клевета становится коммуникативной доминантой, численно превышая даже славословия «великого вождя, отца народов». Клеветнические речи сливаются в многомиллионный хор, на доносы изводятся тонны бумаги. Здесь нельзя не вспомнить также известный риторический вопрос Сергея Довлатова: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?»
Очернители доходили до вершин наглости на грани с комизмом. Один такой случай обнародовал А. А. Жданов на XVIII съезде ВКП(б). «В одном из районов Киевской области был разоблачен клеветник Ханевский. Ни одно из многочисленных заявлений, поданных им на коммунистов, не подтвердилось. Однако этот клеветник не потерял присутствия духа и в одном из своих разоблачительных заявлений в обком КП(б)У обратился с такой просьбой: “Я выбился из сил в борьбе с врагами, а потому прошу путевку на курорт”».
Извращенность массового сознания, порочная созависимость страха доносительства и, одновременно, страсти к очернительству отражены в известной поговорке: Лучше стучать, чем перестукиваться. Популярные названия доносчика стукач и (позднее) дятел заимствованы из воровского арго. Этимология второго слова прозрачна, а происхождение первого связывают с набором анонимных доносов на пишущей машинке в целях сокрытия почерка. Согласно другой версии, это напоминание о временах Алексея Михайловича, когда изветчики потихоньку являлись к Тайному приказу и стучали в окошко.
Новым содержанием наполняется образ кликуши, возводящей напраслины притворным сумасшествием. Известна масса случаев кликушеского очернительства, аутентичных представлениям советской эпохи. Эту практику реалистично описал Владимир Тендряков в рассказе «Параня». Деревенская дурочка объявляет себя сначала «невестой Христовой», а затем «невестой вождя», и принимается разоблачать «врагов народа». В контрасте образов «Сталин» и «Спаситель» обнажается страшная сущность клеветы: не в силах вещать устами божества, она высказывает себя устами убожества.
Национальный спорт
Парадоксально, но и показательно, что с развенчанием «культа личности» стукачество не исчезает, лишь меняет регистр – с политического на бытовой. Анонимки на неугодных сослуживцев, чиновников-бюрократов, зарвавшихся работников торговли, соседей по коммуналке – разновидность «национального спорта» в СССР.
В стихотворении с аллегорическим названием «Оркестр» Константин Симонов выводит образ музыканта, который «путал музыку с клеветами, на каждого сажая по пятну». Нездоровый психологический климат, яд всеобщей подозрительности, превратное понимание гражданского долга правдиво описаны Эдуардом Асадовым в стихотворении «Клеветники»: «…И ползут анонимки, как рой клопов, в телефонные будки, на почты, всюду…» Развивая зооморфную метафорику клеветы, поэт язвительно называет поклепщиков «жучками-душеедами».
Поскольку клеветой объявлялось все шедшее вразрез с генеральной линией КПСС, логичной и закономерной была реконструкция ответной формы клеветничества – обвинения в сумасшествии. Неугодным тоталитарной власти гражданам грозила принудительная госпитализация, насильственное лечение, постановка на медицинский учет на основании мнимого психиатрического диагноза. Репрессивная (карательная) психиатрия использовалась как способ личностного психоподавления, общественной дискредитации, лишения прав и ограничения деятельности инакомыслящих.
У истоков этой практики в СССР стоял выдающийся психиатр с мировым именем А.В. Снежневский, предложивший концепцию «вялотекущей шизофрении», которая стала применяться для обоснования «невменяемости» диссидентов. Сложно оценить однозначно, был ли это политический заказ и, значит, злонамеренное вредительство или же искренняя убежденность академика в расширительной трактовке и гипердиагностике заболевания. Однако факт остается фактом: мнимое отождествление протеста с психозом искалечило судьбы многим общественным активистам и правозащитникам, среди которых Владимир Буковский, Жорес Медведев, Наталья Горбаневская, другие узники совести.
В целом же «для руководства всякие предсказания, не соответствующие его сегодняшней демагогии, суть клевета». Эти слова из романа известного критика советского режима Александра Зиновьева «Зияющие высоты» (1974) применимы ко всему периоду СССР. Клеветой автоматически считалось все, о чем молчала официальная пропаганда.
Зиновьев также был подвергнут принудительной психиатрической экспертизе, затем последовали исключение из комсомола, из института, из общественной жизни. К счастью, клевета преследовала его, но не убила – впоследствии Зиновьев стал выдающимся ученым и философом мировой величины. Признанные вопиющим образцом антисоветчины, лишившие автора всех научных званий «Зияющие высоты» переведены на двадцать языков.
«Алмазная оправа»
В постсоветский период клевета становится объектом целенаправленного исследования. Впрочем, акцентируется преимущественно социально-исторический аспект, тогда как коммуникативная сторона и речевая основа клеветы почти не рассматриваются. Из русскоязычных изданий назовем научно-популярную книгу Владимира Игнатова «Доносчики в истории России и СССР», из зарубежных – работу немецкого ученого Карола Зауэрланда «Тридцать сребреников», самая объемная часть которой посвящена осведомительским практикам нацизма.