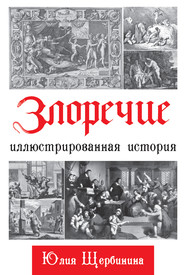скачать книгу бесплатно
Пройдет время, и Фридрих Ницше раскроет этот поведенческий механизм в работе «К генеалогии морали», дав ему название ресентимент (фр. ressentiment – негодование, озлобление, злопамятство) – враждебность к тому, что человек считает причиной своих неудач. По мысли философа, ресентимент – определяющая характеристика «морали рабов, противостоящая морали господ». Впоследствии закрепившийся в социологии, этот термин станет означать нечто более широкое и сложное, чем просто зависть. С одной стороны, ресентимент маскирует чувство неполноценности «плебея» перед «аристократом» (при всей исторической изменчивости обоих понятий). С другой стороны, служит социальным противовесом, ограничивая господство правящих элит. Отсюда неявные, но значимые социальные функции клеветы: уравнительная и нейтрализующая. В противопоставлении тиранической власти и диктатуры демоса клевета – ответная «иммунологическая» реакция, направленная на подавление «вируса» господства, на ограничение власти.
В повседневно-бытовой коммуникации ресентимент возникает из стремления ослабить позицию соперника, конкурента. Или, по крайней мере, не допустить ее усиления. Работая на создание «образа врага», клевета становится одновременно и средством избавления от чувства вины, и ловким обоснованием подлости, и утешением для уязвленного самолюбия.
Питер Брейгель Старший «Фламандские пословицы», фрагмент «Не терпеть вида солнечных бликов на воде» (ревновать к чужим успехам), 1559, холст, масло
Так обнажается еще один психоповеденческий механизм клеветы – мщение и обнаруживается ее психологическая функция – компенсаторная. Клевета – моральная сатисфакция и мнимый способ восстановления справедливости. Клеветник часто воображает себя не только властителем судеб, но и карающей десницей.
Здесь самое время вспомнить древнегреческую полулегенду-полубыль, заметно повлиявшую на осмысление клеветы в европейской культуре. Величайший художник своей эпохи Апеллес был оклеветан соперником-завистником Антифилом, который ложно вывел его соучастником заговора против царя Птолемея. Правитель поначалу поверил Антифилу и хотел казнить Апеллеса, но один из схваченных заговорщиков возмутился подлостью клеветника и засвидетельствовал непричастность художника к заговору. Птолемей выдал Апеллесу сто талантов денежной компенсации, а в придачу Антифила в качестве раба. Финал этой истории – доказательство ницшеанского тезиса: природа очернительства суть рабская. Как ни изворотлив клеветник – все равно носить ему клеймо раба.
В память о неприятном, но поучительном событии Апеллес написал картину «Клевета» – ту самую, о которой шла речь в начале главы. Полотно не сохранилось, но история посрамленного клеветника вошла в трактат Лукиана Самосатского «О том, что нельзя слепо верить клевете» (II в.).
В окружении воплощенных в женских образах Невежества и Подозрения восседает правитель с большими ушами, протягивая руку приближающейся взволнованной Клевете, ведомой мужской фигурой, которая олицетворяет Зависть. В одной руке Клевета несет горящий факел – символ лжи, а другой тащит за волосы поверженного юношу, призывающего богов в свидетели. Вместе с Клеветой идут две ее приспешницы – Ложь и Коварство, льстиво возвеличивая и заботливо прихорашивая свою владычицу. Слева от зрителя проливает слезы стыда Раскаяние в темных одеждах, скорбно взирая на идущую следом стыдливо обнаженную Истину. Взор Истины обращен к небесам.
Воплощенная на холсте и возрожденная в слове, эта поучительная история сделалась устойчивым мотивом в изобразительном искусстве. К Апеллесу вернемся еще не раз, а пока посмотрим, как обстояли дела с клеветой в древнеримском государстве.
«Состязание в негодяйстве»
В Древнем Риме «голос народа» (лат. vox populi) считался выражением воли богов. Народ, как и ранее в греческих полисах, также имел значительное влияние на ротацию политических деятелей. В период республики всякий достигший совершеннолетия гражданин, заинтересованный в ее благоденствии, брал на себя почетную обязанность изобличать преступления. Никакой суд не мог быть инициирован без заявления обвинителя.
Эта деятельность изначально носила добровольно-общественный характер и никак не оплачивалась. Когда же Рим стал клониться к упадку, политика вырождалась в интриганство, ораторство – в пустую декламацию, судопроизводство – в череду корыстных тяжб. И вот на рубеже I–II вв. до н. э. в римский уголовный процесс чеканным шагом вошли делатории (лат. delatores – информаторы, осведомители), быстро ставшие ключевыми фигурами судебной системы. Сначала они извещали в основном о налоговых преступлениях, но очень скоро проникли во все сферы публичной и частной жизни.
Честность первых делаториев сменилась продажностью и оговорами. Ситуация усугубилась с введением оплаты доносительства: раскрытие преступлений требовало поощрения, а затем и денежного вознаграждения. Изобличив какого-нибудь толстосума в неуплате налогов, делаторий получал четверть конфискованного судом имущества. Так множились ряды лжесвидетелей, вымогателей и клеветников. Дошло до разрешения тайного доносительства, причем доносчиками могли выступать прежде не имевшие данного права женщины и даже рабы.
Некоторые делатории становились настоящими «звездами». При императоре Августе такой знаменитостью слыл Кассий Север. Судебным коньком этого человека незнатного происхождения и подлой натуры были дела о прелюбодеяниях богатых граждан, которых он принуждал выплачивать отступные или отдавать часть имущества. Как темпераментно заметил итальянский историк Гульельмо Ферреро, «Рим еще не видывал такого густого, желтого, кипевшего, серного потока вулканической грязи, какими были обвинения Кассия».
Обвинители, которые жили исключительно на доходы от тяжб, а часто даже работали по найму, назывались квадруплатории (лат. quadruplatores). Этим обвинительных дел мастерам приходилось прилагать недюжинные усилия, дотошно выявляя финансовые нарушения и стаптывая сандалии в бесконечных розысках, преследованиях, ходатайствах.
Античный историк Геродиан рассказывал, что при императоре Макрине доносчики «встречали всяческое попустительство, больше того – их подстрекали поднимать давнишние судебные дела, среди которых попадались не поддававшиеся расследованию и проверке. Всякий, только вызванный в суд доносчиком, уходил сейчас же побежденным, лишившимся всего имущества. Ежедневно можно было видеть вчерашних очень богатых людей просящими милостыню на следующий день».
Социальные функции и коммуникативные стратегии римских делаториев и греческих сикофантов в какой-то момент почти совпадали. Правда, для судебного разбирательства теперь уже требовались публичные обвинения. К тому же каждый последующий правитель мог публично высечь, обратить в рабство, изгнать из страны агентов своего предшественника. Так поступил, например, император Веспасиан с делаториями Нерона.
Как и сикофанты, делатории уличались в злоупотреблениях. Ораторская слава Цицерона началась с выступления по делу Секста Росция, огульно обвиненного в отцеубийстве. Процесс был с блеском выигран. Впоследствии Цицерон настойчиво призывал как можно жестче ограничивать иски делаториев, презрительно называл их «кляузными дельцами» и «лаятелями на клепсидру».
В трактате «О республике» Цицерон упоминает о римском «Законе Двенадцати таблиц» (лат. Leges duodecim tabularum), который предусматривал смертную казнь за сочинение и распевание клеветнических песен. Более мягкое наказание – выбривание головы и бровей, выжигание на лбу клейма «С» (от слова calumniator – клеветник).
Джон Лич «Цицерон», рис. из «Юмористической истории Древнего Рима» Гилберта Эббота Э-Беккета, ок. 1850
Помимо делаториев, хватало в Риме других очернителей, которые только и делали, что искали поводы да улучали моменты, чтобы извести врагов, отомстить обидчикам, устранить конкурентов. Что только не выдумывали для правдоподобия порочащих сведений! Один из обвинителей отвел в сторонку императора Клавдия и заговорщицки поведал, будто видел сон о его убийстве, а спустя некоторое время якобы опознал злодея в своем противнике, который, ничего не подозревая, подходил к императору с каким-то прошением.
Таким же коварным способом, по одной из версий, был оклеветан Аппий Силан – политический деятель из ближайшего окружения Клавдия. Жена императора Мессалина возненавидела Аппия за отказ стать ее любовником и сговорилась с вольноотпущенником Нарциссом разыграть сцену «пророческого» сна. Ранним утром Нарцисс вломился в императорскую спальню и в притворном смятении поведал жуткий сон, в котором Аппий нападает на Клавдия. Мессалина столь же артистично изобразила изумление и поведала о таком же сне. Сразу после этого действительно явился Аппий – это совпадение привиделось неоспоримым доказательством, и невиновный был схвачен.
Оба описанных случая – иллюстрации поразительного свойства клеветы облекаться в причудливые образы для усыпления бдительности, снижения критичности восприятия. Фантазия «мне привиделось» производит куда больший эффект, чем свидетельство «я видел», и становится идеальным способом устранения врага.
«Кто на тебя клевещет, тот не друг тебе», – указывал Квинт Энний. «Охота чернить друг друга есть удовольствие бесчеловечное, жестокое и всякому честному слушателю противное», – бичевал клевету Квинтилиан. «Кто не порицает клеветников, тот поощряет их», – настаивал Светоний. Все эти изречения были точны, но тщетны.
К периоду упадка Рима клевета сделалась бизнесом – включилась в товарооборот и стала своеобразной услугой, как поставленное на поток производство дефиксионов (гл. III). «Повсюду идет великое состязание в негодяйстве», – пессимистически заметил о своем времени Сенека. Только проклятие еще сохраняло сакральность в силу магического содержания, а клевета бытовала как профанная практика. Презренных клеветников, вздумай кто пересчитать их и собрать вместе, явно не вместил бы Колизей.
На примере Древнего Рима мы последовательно наблюдаем, как клевета разъедает общественный организм, вызывая кризис социального доверия. В клевете упражнялись и политики, и поэты – она сделалась не только эффективным инструментом властной борьбы, но и своеобразным родом псевдоискусства, «аттракционом болтовни». В отличие от Греции, в Риме наиболее заметна эстетизация клеветы, что не в последнюю очередь способствовало популярности т. н. адвокатской литературы – художественно обработанных текстов судебных речей и специально созданных искусных стилизаций.
Мозес ван Эйтенбрук «Меркурий обвиняет Батта», XVII в., офорт
Древние не жаловали не только клеветников, но и просто доносчиков. Мифологический Батт – пастух царя Нелея – обещал никому не рассказывать об украденном Гермесом стаде Аполлона. За это Гермес презентовал ему одну из похищенных коров. Желая испытать Батта, он явился к нему в другом обличье и принялся расспрашивать о краже. Наивный пастух все охотно растрепал – и разгневанный Гермес обратил доносчика в камень. Этот сюжет отражен в «Метаморфозах» Овидия.
При этом весьма любопытно, что клевета как отдельный род преступления была неведома древнеримскому праву. Распространение лживых сведений проходило по части оскорблений (лат. contumelia). Позднее, в императорский период, под клеветой (лат. calumnia) понималось ложное обвинение в преступном деянии.
Культ клеветы пошатнулся правлением Марка Ульпия Траяна (99-117 н. э.), который прекратил обвинительные дела по оскорблению императорской особы и величия римского народа. Траян расправился с доносчиками с затейливой фантазией и жестокостью, достойной их гнусного поведения. Согласно описанию Плиния Младшего, все доносчики были посажены на наскоро сколоченные корабли и отданы на волю волн. «А если штормы и грозы спасут кого-нибудь от скал, пусть поселятся на голых утесах негостеприимного берега, и пусть жизнь их будет сурова и полна страхов, и пусть скорбят они об утерянной безопасности, которая дорога всему роду человеческому».
Битвы чернильниц
Примерно к началу IV века профессиональное клеветничество начинает временно затухать. В христианском представлении очерняющий ближнего сам вверяется дьяволу, который есть главный очернитель. В Откровении Иоанна Богослова дьявол назван не иначе как «клеветником, клевещущим пред Богом день и ночь» (ср.: греч. diabolos – ложный обвинитель, рассеиватель клеветы).
Поруганием Христа фактически было лжесвидетельство против Него: «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти» (Евангелие от Матфея. 26:59). Клевета лишает человека божией благодати: «Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?.. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего» (Псалтирь. 14:1–5).
Эльвирский собор 306 года установил отлучение от Церкви христиан, по доносу которых лишались не только жизни, но и свободы другие христиане. Непримиримым борцом с клеветниками был император Константин Великий, распорядившийся применять к ним смертную казнь с предварительной пыткой и вырыванием языка «с корнем» – дабы более не клепали на ближних. Исключением были только доносчики на астрологов и гадателей – их Константин считал «скорее достойными награды».
Однако клевета продолжала язвить своим тройным жалом и мир, и клир. Хрестоматийны судьбы Григория Богослова, обвиненного в незаконном захвате Константинопольской кафедры; Иоанна Златоуста, оклеветанного самим Патриархом Александрийским Феофилом; Макария Великого, ложно уличенного в изнасиловании девицы…
Наряду с моральной оценкой клеветы в европейских законодательствах постепенно закрепляется необходимость ее пресечения. Так, в древненорвежских «Законах Гулатинга» среди прочего указано: «Никто не должен возводить напраслину на другого или клевету». Под напраслиной подразумевается высказывание о том, «чего не может быть, не будет и не было». Например, один человек говорит о другом, что тот «становится женщиной каждую девятую ночь, или что он родил ребенка, или называет его волчицей-оборотнем. Он объявляется вне закона, если оказывается в этом виновным».
Между тем, как водится, правовые догматы расходились с реальностью. Клевета нашла надежное прибежище в религиозно-догматических спекуляциях. Всякого инакомыслящего можно было объявить еретиком. Мощный оплот Святейшей Инквизиции – тайное осведомительство, где клевета – действенный способ властного контроля.
Кристиано Банти «Галилей перед Инквизицией», 1857, холст, масло
Место сикофанта и делатория заняла зловещая фигура т. н. родственника инквизиции. За этим ласково-циничным названием скрывался наемный ловкач по части обвинений, который указывал на всякого «впавшего в ересь». Армия «родственничков» состояла из представителей самых разных социальных слоев: военных и торговцев, художников и поэтов, простолюдинов и придворных. Все они имели разрешение носить оружие, были неподсудны и неприкосновенны. Доносчики рекрутировались также из священников и церковных прихожан, которым выдавались индульгенции (отпущения грехов) за стукачество на вероотступников.
Доносчики делились инквизицией на тех, кто предъявлял конкретные обвинения и должен был их доказывать во избежание кары за лжесвидетельство, и тех, кто только указывал на подозреваемых еретиков. На улицах европейских городов красовались особые ящики для жалоб. Бесперебойный поток «еретиков» сливался с бесконечным потоком осведомителей.
Злоречие обрело форму битвы чернильниц, поединка перьев. Особая роль здесь отводилась городским писцам – они охотно помогали гражданам в составлении юридических текстов, в том числе и доносов. Бог кляузы, писец зазывал прохожих в свою лавку затевать судебные тяжбы.
Особо усердствовала в доносительстве Венецианская республика с ее печально памятным Советом Десяти – закрытой организацией, состоявшей из представителей знатнейших родов и следившей за общественными настроениями и борьбой правящих элит. Совет создал особую систему осведомителей и широко практиковал анонимные доносы, о которых по сей день напоминают пасти бронзовых львов на венецианских улицах. Сохранился знаменитый «Зев льва» – стенное окошко, куда зудящие алчностью, обидой, страхом уста нашептывали поклепы дежурному инквизитору. Безмолвные грозные львы хранят тайны многих средневековых клевет.
Оранжерея законотворчества
В XV столетии в лексикон клеветы входит пасквиль – упоминаемое еще в античных источниках письменное сочинение, содержащее ложные порочащие сведения и жалобы (лат. liber famosus). По одной версии, слово образовано от фамилии римского башмачника Пасквино, автора ядовитых высказываний о власть имущих. Согласно другой версии, пасквиль происходит от Pasquino – народного названия римской статуи, на которую по ночам приклеивались pasquinades – обличительные листки, острые анекдоты, всевозможные карикатуры. К безрукому античному торсу, словно к идолу для жертвоприношения, в числе первых устремлялись сплетники, склочники, скандалисты.
Далее эволюция представлений о клевете идет путем дробления терминов и разделения смыслов. Так, в 1606 году в английское право входит понятие мятежная клевета (seditious libel) как уголовное деяние, караемое пожизненным заключением. В отличие от мятежных речей – устных выпадов против государственной власти, критических высказываний о королевской семье, призывов к бунту – «мятежная клевета» фиксировалась письменно.
Понятие просуществовало до XIX века и даже получило повторное законодательное закрепление после жестокого разгона митинга в поддержку избирательной реформы 1819 года, известного как «бойня при Питерлоо». Во избежание подобных выступлений были приняты Шесть законов (The Six Acts), куда среди прочих вошел Закон о Преступной Клевете.
При этом, как и в Античности, официальные циркуляры вступали в противоречие с обыденными представлениями. «Верхи» не могли обходиться без доносчиков, а «низы» не хотели их терпеть. Яркий пример такого противостояния – жалоба курфюрста Кельна в 1686 году на отсутствие претендентов на фискальные должности из-за «страха презрения и поношения соседями».
В абсолютистской Франции в ходу был lettre de cachet (букв. «письмо с печатью») – приказ о внесудебном аресте с королевской печатью. В уже подписанном документе оставляли свободное место – так что можно было указать любое имя. С помощью таких подделок монархия избавлялась от своих врагов. Сильные мира сего легко фабриковали такие тексты, а богатые просто покупали их.
Однажды Вольтер спросил полицейского префекта Эро, как поступают с фальсификаторами lettres de cachet. Получив ответ «их вешают», философ едко заметил: «И то хорошо до поры до времени, пока не начнут, наконец, вешать и тех, кто подписывает неподдельные». В период французской революции «письма с печатью» были отменены, но в 1791 году французским законодательством было установлено понятие гражданского доноса (de lation civique) – обязательного для всех совершеннолетних граждан.
Впрочем, были и активно протестующие против подобных практик. Главный выразитель протестных идей, видный итальянский экономист и публицист Гаэтано Филанджиери в трактате «Наука о законодательстве» настаивал на том, что все доносы должны игнорироваться официальными органами. Менее прогрессивные современники парировали, что сообщение о преступных деяниях – необходимая гражданская обязанность.
Одновременно и разлагая, и подпитывая юриспруденцию, клевета демонстрировала возможность перетолковать любой порядок, перелгать всякую заповедь. Для ядовитого цветка злоречия с сердцевиной клеветы законотворчество было оранжереей, где он уничтожал здоровые растения, пускал все новые и новые ростки.
От Боттичелли до Карраччи
Юридическая калибровка понятия клеветы шла параллельно с поисками творческих способов его отображения в искусстве. В конце XV столетия Боттичелли, вдохновленный описанием Лукиана, реконструирует историю Апеллеса на монументальном аллегорическом полотне «Клевета». В сидящем на троне ослоухом человеке мы вновь узнаем царя Мидаса, который воплощает уже не только Глупость, но и Легковерие, интерес к наветам.
Подозрение и Невежество крепко держат правителя за уши, нашептывая в них гадкие речи. Как и на картине Апеллеса, здесь Клевета выступает вместе с Завистью в сопровождении Обмана (в другой трактовке – Злобы и Коварства). Спутницы украшают Клевету жемчугом и цветами, придавая ей убедительность и маскируя порочность. Неуверенно указующий жест правителя синхронизирован с властно порабощающим жестом Зависти. Раскаяние отклоняется от античного описания: неподвижно стоящая зловещая старуха угрюмо взирает на обнаженную венероподобную Истину (ср. выражение «голая правда»), указующую на небеса. Фигура Истины композиционно отделена от остальных, символизируя отделенность от порочного людского мира.
Наконец, фигура влекомого за волосы юноши у Боттичелли трактуется как аллегория Невинности и, как полагают некоторые искусствоведы, олицетворяет самого Апеллеса. Философский смысл этой сцены довольно прозрачен: спустя столетия оклеветанный не нуждается в самооправдании – за него свидетельствует само время. Оно и только оно – опаснейший противник и главнейший враг клеветы.
Сандро Боттичелли «Клевета (Оклеветание Апеллеса)», ок. 1494, дерево, темпера
Расположение персонажей у Боттичелли зеркально их описанию у Лукиана, что создает эффект обратной последовательности событий и наводит на мысль о том, что Правда и Раскаяние, возможно, слишком запоздали. Клевета изображена инфернально двойственной: это женщина-хамелеон, коварный оборотень. Наученный полуторатысячелетним опытом человек Ренессансной эпохи верил в справедливость куда меньше эллина. Но как бы то ни было, Боттичелли сделал клевету мыслезримой, художественно изреченной.
В отличие от Боттичелли, падуанский мастер Мантенья сохранил логическую последовательность легенды, изложенной Лукианом, расположив персонажей картины слева направо и сделав подписи под каждой фигурой рисунка. В этом римейке античного сюжета Клевета приближается не взволнованно, а надменно и даже торжествующе, уверенная в своем могуществе. Одновременно и образ Правды куда более сдержан и не столь патетичен, нежели у Боттичелли.
Несколько иную аллегорическую трактовку истории клеветы дал Питер Брейгель (репродукция в начале главы). Художник изобразил легковерного царя с большими, но все же не ослиными, не такими комичными ушами. Две наушницы – Невежество и Подозрительность – нежно обнимаются и уже ничего не нашептывают, лишь заинтересованно наблюдают. Ложь с Коварством не приукрашивают Клевету, просто идут вместе с ней.
Андреа Мантенья «Клевета Апеллеса», эскиз, втор. пол. XV в., бумага, перо коричневым тоном, подсветка белым
Корнелис Корт «Клевета Апеллеса», реплика[1 - Реплика – более свободное, чем копия, воспроизведение оригинала.] картины Федерико Цуккаро, 1572, гравюра на слоновой кости
Истина предстает в образе коленопреклоненного нагого мужчины. Подпись под фигурой, место которой и у Лукиана, и у Боттичелли занимала Истина, гласит: «Caritas» – Милосердие, жертвенная любовь. Милосердием обнажается порочность зависти и обличается низость клеветы. Любовь смиряет гневные сердца и замыкает злоречивые уста. При этом Брейгель, как отмечают искусствоведы, придал античному сюжету одновременно универсальность и злободневность, учитывая политическую ситуацию в Нидерландах своей эпохи. Подписи под фигурами ассоциируются не с философскими трактатами, а с политическими карикатурами.
Заметно отличается от предшествующих сатирическая трактовка Апеллесовой клеветы итальянского художника Федерико Цуккаро. Зависть как наставница Клеветы изображена не то змееподобным человеком, не то человекоподобной змеей. Здесь вспоминается скорее не картина-первоисточник, а образ змея-клеветника у Демосфена. Афина (Минерва) с копьем берет на себя функцию Истины, останавливая за руку разгоряченного правителя-судью.
Аннибале Карраччи «Аллегория Правды и Времени», 1584–1585, холст, масло
Мартин де Вос «Клевета Апеллеса», 1594, дерево, масло
Другой итальянский мастер, Аннибале Карраччи, помещает образ Клеветы в иной контекст, аллегорически изображая ее незавидную перспективу. Спасенная Временем из колодца Правда попирает жалкую, распластанную на земле фигуру Клеветы. Стоящие друг против друга Эвентус и Фелицитас – персонификации успеха и счастья – словно живые подтверждения объективности такого положения вещей.
Фламандский живописец Мартин де Вос за основу своей версии «Клеветы Апеллеса» взял гравюру знаменитого мастера Джорджио Гизи. Здесь наиболее интересны два образа: Невинность в виде ребенка и держащая Клевету за локоть Зависть с маской на затылке, видимо, символизирующей двуличие и злонамеренность.
Летучая и ползучая
В отличие от художников, литераторы были менее оптимистичны в изображении клеветы.
Из памятников словесности нельзя не упомянуть «Балладу о ласточке-клеветнице» Эсташа Дешана. Написанное в XIV веке аллегорическое произведение французского поэта повествует о маленькой юркой птичке, что нападает «без пращи и снаряда», «щебечет от злорадства», «сеет раздоры», бесчестит и ранит «коварной речью». Сюжет баллады опирается на древнее поверье о существовании особого вида ласточек, чей укус ядовит, а взгляд приводит в трепет даже коршунов и орлов. Ласточку-клеветницу «осуждают по праву» – и в конце концов «зло падет на нее самое, придет ей конец».
В прозе той же эпохи вспомним сказку «Обличенный клеветник» из «Декамерона» Бокаччо. Легковерный купец велит убить оклеветанную жену, но она переодевается мужчиной, поступает на службу к египетскому султану, разоблачает очернителя и воссоединяется с супругом.
А в XVI столетии вряд ли кто-то писал о клевете красноречивее Шекспира. Развязка конфликта в «Отелло» – изобличение Яго как подлого клеветника. Сквозной мотив клеветы – в пьесе «Много шума из ничего». Сюжетная основа «Цимбелина» – упомянутая сказка Бокаччо. Шекспировская аллегория клеветы тоже птица, только не коварная ласточка, а зловещая ворона. «Не бойся клеветы – Она всегда в погоне за прекрасным, Придаток неизбежный красоты, Как черная ворона в небе ясном. <…> Когда б не эта кисея клевет, Твоими были б все сердца, весь свет» (сонет 70, пер. С. Степанова).
В XVII веке литературная кисея клевет продолжается Мольером. «Бессильна с клеветой бороться добродетель»; «На свете нет лекарств противу клеветы», – читаем в «Тартюфе». Здесь больше горького скепсиса, чем борцовского пафоса, и ни грамма светлой надежды. Клевета изображается как неизбывная спутница человека от юности до старости. В Новом времени все меньше однозначности, в искусстве все больше фантасмагории. Аллегории становятся причудливы, порою вычурны.
При неослабевающем интересе живописи разных эпох к античной легенде любопытно и показательно отождествление самих мастеров со знаменитым художником. Так, восхищенный современник Рубенса назвал его «Апеллесом нашего века». Надгробная надпись на могиле Мантеньи гласит: «Ты, лицезреющий здесь бронзовый облик Мантеньи, знай: Апеллесу он равен, если не выше него». Апеллесом своего времени величали затем и Дюрера.
В любом обличье – хоть летучая, хоть ползучая – клевета навязчиво преследует прежде всего людей выдающихся и талантливых. Как верно замечено Бальзаком, клевета «равнодушна к ничтожествам». За очернительством часто скрывается ненависть к чужому успеху.
Салон леди Снируэл
В суждениях о клевете европейских писателей XVIII века развиваются идеи греко-римских авторов. Античная риторика не только не утрачивает, но даже усиливает обличительный пафос, обретая высокие обертоны просветительства. Однако к уже ранее сказанному не приращиваются принципиально новые смыслы – скорее оттачиваются и шлифуются сложившиеся представления.
Эпоха Просвещения рационализирует клевету, срывая с нее мистические покровы. Конвертирует горький опыт всех невинно оговоренных из героико-романтического в социально-сатирический. Самый беспощадный и скальпирующе точный литературный приговор клевете – комедия Ричарда Шеридана «Школа злословия». Английский драматург препарирует коварство и лицемерие аристократии, но изображенный в пьесе салон леди Снируэл как средоточие клеветы – нагляднейшая иллюстрация всего человеческого сообщества.
Аналогично и XIX век эксплуатирует уже устоявшиеся идеи и образы. «Если клевета – это змея, то змея крылатая; она летает так же хорошо, как и ползает», – размышляет английский драматург Дуглас Джеррольд в духе Демосфена. Чем примечательно позапрошлое столетие, так это началом научного изучения и творческого отражения ранее бытовавших практик. Так, американский художник Томпкинс Харрисон Маттесон изобразил один из печально известных «салемских процессов», унесших жизни множества невиновных людей. Среди них обвиненный в колдовстве Джордж Якобс, повешенный по доносу внучки.
На полотне Эдварда Мэттью Уорда запечатлен обвинительный процесс пуританского проповедника и богослова Ричарда Бакстера в клевете на Церковь. Бакстер то и дело конфликтовал с власть имущими, так что главный судья лорд Джеффрис преисполнился ярости и приговорил его к штрафу в пятьсот марок и семи годам тюрьмы. Проповедник, в то время уже семидесятилетний, провел в заключении полтора года – затем правящим кругам понадобились его компетенции и публичный авторитет, и Бакстера освободили.
Томпкинс Харрисон Маттесон «Процесс Джорджа Якобса», 1855, холст, масло
Эдвард Мэттью Уорд «Судья Джеффрис угрожает Ричарду Бакстеру», XIX в., холст, масло
Что же до «Клеветы Апеллеса», то в XIX веке она интерпретируется уже преимущественно как застывший во времени мифологический сюжет, помещенный в изящную историческую рамку. На картине Джона Вандерлина персонажи графически условны, почти схематичны и больше напоминают мраморные скульптуры, чем живописные фигуры. Это скорее изящная стилизация и дань уважения классике, нежели попытка идейного переосмысления или реконструкции древнего сюжета в новых социокультурных декорациях.
Клевета окончательно утрачивает романтический ореол фатальности. Ее публичное восприятие смещается из философско-психологического в социально-юридический план. Распространение порочащих ложных сведений понимается прежде всего как нарушение общественных и правовых норм. Клевета как душевная травма существует преимущественно в личном, персональном восприятии.
Таким образом, клевета проходит долгую терминологическую верификацию и подвергается визуальным метаморфозам. Злобная змея, коварная ласточка, наглая ворона, быстроногая дева… Мотив неизбежности и неизбывности клеветы звучит все тише и тише, растворяясь в гуле приближающегося нового тысячелетия.
Джон Вандерлин «Клевета Апеллеса», 1849, холст, масло
К боярину с наветом
Ну а как обживалась госпожа Клевета в нашем отечестве?
Первым упоминанием о ней исследователи истории российского права считают «Русскую Правду» Ярослава Мудрого. В этом сборнике юридических норм XI века была статья «О поклепной вире» с описанием ложного обвинения в убийстве. Процедура опровержения состояла в том, что обвиняемого обязывали выставить не менее семи «послухов» – свидетелей его праведной жизни, которые могли «вывести виру», то бишь отвести обвинение. Специальный состав клеветы здесь еще отсутствует, говорится только об ответственности за ложь.
В Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных (XII век) впервые содержится указание на клевету как отдельное преступление, выделяется ее юридический состав. Наказанию подлежала клевета, связанная с отступлениями от православной веры (еретичеством) и изготовлением колдовских снадобий (зельеварением). Клевета именуется здесь «уреканием» и не отделяется от оскорбления.
В Кормчей Книге – византийском сборнике законов, с XIII века принятом в качестве руководства для управления русской Церковью, клевета каралась по принципу талиона (лат. talis – такой же), равного возмездия. Наказание воспроизводило вред, причиненный преступлением (ср. ветхозаветный принцип «око за око, зуб за зуб»). Устав князя Ярослава о церковных судах (XIV век) уже предусматривал ответственность за ложное обвинение в виде штрафа, размер которого определялся социальным положением и сословной принадлежностью клеветника.
В Судебнике 1497 года впервые появляется понятие ябедничество – обвинение невиновного, ложный донос. Бремя доказательства ложилось не на обвиняемого, а на обвинителя. Вина подтверждалась не предъявлением доказательств, а церковной присягой – целованием креста. Намек на презумпцию невиновности содержался разве что в статье по обвинению в татьбе – преступном хищении: оговор подлежал проверке пыткой или «обыском» (массовым опросом). Что и говорить, суровые были времена!
Непосредственно о клевете вплоть до первой половины XVI столетия в русскоязычных источниках говорится мало и очень размыто. Причинами этого были разрозненность текстов и утрата многих письменных памятников, а также сама форма судебных установлений – в виде грамот, которые князья давали своим наместникам и в которых регулировались в основном тяжкие преступления, а прочие разбирались на основании устоявшихся обычаев.
Судебник 1550 года упоминает клевету в составе другого деяния – бесчестья, то есть вновь соединяя ее с оскорблением. Наказание вершилось согласно принципу «смотря по человеку», то есть исходя из имущественного состояния – дохода, жалованья.
Общественное отношение к клевете в России, как и в других странах, последовательно демонстрирует расхождение закона и морали. На официальном уровне доносы поощрялись, даром что изрядная их часть была клеветнической. Причем множество ложных обвинений проходило по категориям чародейства и волшебства. Так, унесший около двух тысяч жизней пожар в Москве 1547 года приписали «бесовской волшбе» бояр Глинских, ненавидимых народом за беспримерную жестокость и чинимые беззакония. Собравшаяся у Кремля разъяренная толпа тысячью глоток прокричала о вине княгини Анны, которая якобы вынимала человечьи сердца, опускала в воду и тою водою кропила улицы – оттого-то город и выгорел.
Печально памятные жертвы клеветы – протопоп Сильвестр и воевода Алексей Адашев, приближенные Ивана Грозного, обвиненные боярами в смерти его жены Анастасии. Будто бы они «очаровали» и тем «извели» царицу. Дюже суеверный Иоанн Васильевич с глубочайшей серьезностью относился к наветам – и преданные царевы слуги попали в опалу.
Более незавидная участь постигла боярина Михаила Воротынского, которого Грозный, невзирая на все воинские доблести и верную службу, предал жесточайшим пыткам за ведьмовство. «Не научихся, о царю, и не навыкох от прародителей своих чаровать и в бесовство верить… Не подобает ти сему верить и ни свидетельства от такового приимати, яко от злодея и от предателя моего, лжеклеветущаго на мя», – истово оправдывался оговоренный боярин. Но государь не внял, велел привязать Воротынского к бревну и сжечь заживо. Самолично подбрасывал пылающие угли в огонь.
Клавдий Лебедев «К боярину с наветом», 1904, холст, масло
Европейцы подмечали особую национальную страсть русских к очернительным речам. Немецкий пленник Альберт Шлихтинг оставил в 1560-х годах воспоминание о том, что «московитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга пред тираном и пылать ненавистью один к другому, так что они убивают себя взаимной клеветой».
Итальянский путешественник Александр Гваньини в мемуарах писал: «Все московиты считают, что самой природой назначено обвинять друг друга право и неправо по любым поводам: они наносят друг другу разные бесчестия, один часто приходит в дом другого и тайно приносит свои вещи, а потом говорит, что они же унесены от него воровски. Великий же князь охотно слушает».
Ровно то же самое подмечали затем отечественные историки. «Страсть или привычка к доносам есть одна из самых выдающихся сторон характера наших предков. Донос существует в народных нравах и в законодательстве», – читаем в исследовании Петра Щебальского «Черты из народной жизни в XVIII веке» (1861).