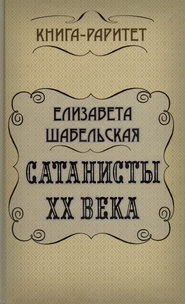
Полная версия:
Сатанисты ХХ века
– Я прошу не говорить за меня, – крикнул старый фанатик Ротенбург. – Я никогда не принадлежал к вашей адской секте и никогда не участвовал в жертвоприношениях Молоху – сатане…
Улыбка уродливого банкира приняла поистине дьявольское выражение злобной насмешки.
– Но зато вы участвовали, и неоднократно, в истязании назорейских младенцев, ради добывания из них пейсаховой крови… Скажите, мудрый равви, неужели вы думаете, что эта жертва приятна богу Израиля? Я же думаю, что она приносится тому же сатане, Люциферу.
– Наш Яхве приказал Аврааму принести ему в жертву первородного сына своего, – гневно крикнул старик.
– Но Бог не допустил исполнения этого убийства, заменив дитя животным.
– Дети назореев те же животные, имеющие человеческий облик только для того, чтобы евреям не противно было принимать от них услуги… Так говорит священный талмуд! – горячо возразил старый фанатик.
– Странного же мнения Яхве о нас, евреях, – с горькой усмешкой ответил петербургский банкир, – если предполагает, что нам приятней вытачивать кровь из человекообразного животного, могущего стонать и плакать, умоляя о пощаде, как наши собственные дети, чем из какого-нибудь петуха или козленка…
Глухой ропот раздался вокруг стола. Председатель поспешно поднялся.
– Предупреждаю почтенных ораторов, что отвлеченных, философски-религиозных споров следует, по возможности, избегать на заседаниях великого международного синедриона, ибо, увлекшись ими, легко можно позабыть практические цели собрания.
– Совершенно верно, – согласился банкир. – Я именно это и хотел ответить почтенному реббе Ротенбургу. К чему догматические споры?.. Кто прав, кто виноват – покажет время. До появления Мессии уже не далеко, ибо он должен родиться, по предсказанию каббалистов, в 1902 году, через какие-нибудь шесть лет. Тогда решатся все вопросы, ныне разъединяющие нас. До тех же пор предоставим каждому делать общее дело возвеличения еврейства, как ему угодно.
Раздались единодушные одобрительные восклицания. Даже старый фанатик слегка кивнул своей белой бородой.
– А теперь, – проговорил председатель, – вернемся к первоначальному вопросу, из-за которого разыгрался наш спор, и решим, следует ли строить храм Соломона в Париже, пока нам там не удалось еще добиться полного отделения церкви от государства, т. е. полного изгнания римского католичества с его служителями и упразднения монастырей, которые являются как бы крепостями назореев, рассадниками и источниками силы гоев и вражды к масонству и еврейству…
– Позвольте мне, досточтимые братья, сказать два слова, – начал один из французов, совсем еще молодой человек с бедным лицом и злобно горящими впалыми глазами. – Как вам может быть известно, я приехал сюда представителем французских колоний и поэтому знаю заокеанскую жизнь лучше всех присутствующих. Но я знаю также и Париж, в котором вырос и который посещаю почти ежегодно. И я могу сказать вам с полной уверенностью, что Париж все еще не достоин увидеть первый храм Соломона, созданный всемирным масонством.
Во Франции католицизм все еще тлеет под пеплом, все еще успешно борется с нами. Еврейство же слишком малочисленно в Париже, как и во всей Франции, для того, чтобы заставить народонаселение повиноваться. Наоборот, в колониях мы господа положения. В Алжире католицизм угасает с каждым днем. На Мартинике мы сделали великий шаг вперед для уничтожения назорейства, даровав гражданские права цветному населению голосами наших парламентских прислужников. Вся масса вчерашних рабов, черных, мулатов и метисов, сохранила память о служении сатане и ее нетрудно будет оживить и направить по желанной нам дороге. Кроме того, в колониях нашим соплеменникам удалось захватить не только богатство, но и влияние настолько, что мы смело можем распоряжаться всем и всеми. Во французской Африке люциферианство победоносно водворилось, захватывая даже и соседние немецкие и английские колонии. Не так давно одного из люцифериан-чиновников судили германским судом, смешно сказать, – за превышение власти и жестокое обращение с неграми. По счастью, никому из судей не пришло в голову доискиваться причин «странного» поведения подсудимого, которого наши ученые психиатры поспешили выставить невменяемым, красноречиво доказывая «пагубное» влияние тропического климата на белую расу… Мы много смеялись, читая этот процесс. Наш немецкий единомышленник отделался простым выговором, от которого мы, конечно, могли бы его предохранить, если бы он был «наш» – еврей. Но из-за гоя, хотя и принадлежащего к нашим единомышленникам, не стоило пускать в ход слишком сильные средства. Не так ли? Большинство присутствующих молча кивнули головой, только граф Вреде произнес спокойно:
– А вы уверены в том, что в этом человеке не было нашей крови?
– Совершенно уверен, – отвечал оратор, – так же, как и в том, что он ни в коем случае не выдал бы наших тайн, сохраняя данную клятву, хотя бы ценою жизни… Это странная, но полезная особенность немецкой скотины, которой мы особенно охотно пользуемся… Но возвращаюсь к моему предложению основать храм масонов, сатанистов, посвященный будущему «царю земному» – антихристу, в одной из французских заокеанских колоний. Это имеет две несомненные выгоды: обеспечивает нам поклонников, число которых в тех местах теперь уже превышает численность «назореев», и не привлечет внимания гоимов всего мира, с которыми пока еврейство еще не может справиться, особенно до уничтожения монархов, являющихся самыми опасными врагами нашими, так как вокруг них группируются все верующие в Иешуа Ганоцри и все патриотические животные различных государств.
В ответ оратору поднялся великий раввин Франции, Задок Кан, благообразный старик, не уступающий в наружной «почтенности» раввину Ротенбургу.
– Наш алжирский коллега прав, – подтвердил он. – Я должен признаться, что за последнее время в Париже замечается странное явление. Казавшееся иссохшим старое католическое дерево начало давать новые ростки. Вера в Назарея растет и ширится. Правда, наряду с ней разрастаются и враждебные католичеству секты, которые мы умножаем с мудрой осторожностью, подготовляя их на все вкусы. Секты и являются первой ступенью лестницы, ведущей в храм Люцифера. Однако, не скрою, что все эти секты пока еще не в силах победоносно бороться с католичеством. В настоящее время мы работаем с особенным рвением над уничтожением официальной религии. Добиться этого нам удастся через два, три года. До тех же пор, если масонство находит нужным постройку нового храма, то я согласен с мнением предыдущего оратора и советую выбрать для этого Алжир или Мартинику! Все другие колонии либо слишком отдаленны, либо слишком людны, а следовательно, и не могут своим значением оправдать крупных затрат на возведение здания, достойного величия всемирного масонства.
– Ставлю вопрос на голосование, – сказал председатель. – Прошу согласных с мнением последних ораторов насчет выбора подняться с места.
Из двадцати семи присутствующих поднялось двадцать четыре. Остались сидеть только Гольдман, граф Вреде и барон Ротенбург.
– Предложение принято… Выбор места, смета расходов, планы и т. п. предоставляется, по нашим статутам, исполнительному органу всемирного синедриона, т. е. «совету семи». Объявляю заседание закрытым, если кто-либо из членов не имеет особенных вопросов или замечаний…
Мрачно молчавший до сих пор лорд Дженнер внезапно поднялся:
– Прошу повременить одну минуту, барон Джевид… Прежде чем разъехаться, нам предстоит решить еще один вопрос: следует ли нам отказаться от избранных нами орудий, или продолжать работать для овладения ими?
Со всех сторон устремились вопросительные взгляды на говорящего. Очевидно, большинство не знало, о чем идет речь.
Председатель поморщился.
– Собственно говоря, вопрос, которого коснулся наш досточтимый собрат, представитель Шотландии, должен решаться в совете семи. Но раз он заговорил о нем здесь, то я не вижу причины скрывать наш план от верховного синедриона… Дело идет о двух актрисах. Одна из них еврейка, – это Гермина Розен…
– О ней нечего говорить, – поспешно перебил лорд Дженнер. – За ее полную покорность отвечаю я.
Насмешливый взгляд пронзительных глаз барона Джевида скользнул по невольно вспыхнувшему лицу своего приятеля. Но голос его сохранил подобающую председателю серьезность, когда он продолжал давать объяснения по неожиданно поднятому вопросу.
– Тем лучше… Значит, дело идет только об одной актрисе Бельской. Она русская по рождению, православная по религии и не поддается нашему влиянию, обладая недюжинной силой воли, которую я назвал бы невероятной в столь молодой женщине, если бы не убедился лично в присутствии в ней какой-то странной, очевидно вполне бессознательной, духовной энергии, предохраняющей ее вот уже три года от всех наших внушений, простых и гипнотических… Но, повторяю, вот уже три года, как мы наталкиваемся на сопротивление.
– Раз она русская, то это понятно, – холодно заметил Гольдман, прищуривая свои раскосые глазки. – Все эти православные носят на груди знак, получаемый при рождении, и он дает им силу сопротивляться… многому… Я бы посоветовал вам, друзья мои, не вступать в борьбу, могущую стать опасной, из-за такого пустяка, как женщина. Как бы красива и умна она ни была, но найти другую, еще красивей, не так уже трудно. Начинать же борьбу с символическим знаком, получаемым русскими при крещении, вещь рискованная. Подобная борьба может завести нас слишком далеко…
– Я присутствовал при дебюте этой актрисы и убедился в том, что она чрезвычайно понравилась не только «Кайзеру», но эта русская, к сожалению, очаровала императрицу чуть ли не больше, чем «Кайзера». Следовательно, помешать ее приглашению в императорский театр, по слухам уже подписанному, и увлечь ее из Берлина куда-нибудь, где мы могли бы распоряжаться, не опасаясь непрошеных вмешательств и любопытства, хотя бы прокурорского, вовсе не так легко.
– Что же, нам признать себя побежденными и оставить какую-то девчонку, назарейку, торжествовать над нами? – вспыльчиво крикнул один из представителей Италии. – Это было бы унижением для масонства столько же, как и для нашей всемогущей Алит.
Гольдман спокойно улыбнулся.
– Я не вижу никакого унижения в том, что мы добровольно отказываемся от плана, признанного неудобным или требующего слишком больших жертв. Раз избранное орудие ничего не подозревает, то его можно просто оставить в покое, ничем не рискуя.
– И, как знать, – подтвердил граф Вреде, – быть может, можно будет использовать ее влияние на императора без ее ведома? Если ей удастся заинтересовать «Кайзера» настолько, чтобы отвлечь его от некоторых «планов», слишком неудобных для нас, то это было бы чрезвычайно выгодно.
Барон Ротенбург заметил тоже в свою очередь:
– Я разделяю мнение графа Вреде и советовал бы оставить в покое эту актрису. Женщины, завербованные силой или хитростью, бывают слишком часто опасны. И раз эта ничего не подозревает о нашем существовании и о наших планах, то и мы можем спокойно позабыть о ней и о них… В женщинах у нас никогда недостатка не будет. В том порукой наши вербовщики, раскинувшие свои сети на всю Европу. Из бесчисленных «номеров», доставляемых в наш «центральный склад» из всех государств мира, всегда можно выбрать достаточное число красивых женщин, более подходящих для роли орудия, чем эта русская актриса, не покоряющаяся воле такого опытного и могучего «инспиратора» и гипнотизера, как Джевид Моор. Повторяю мой совет – забыть о существовании этой актрисы, благо она не подозревает правды.
– А если это не так… – медленно возразил председатель. – Если она подозревает слишком многое, а, пожалуй, даже и знает кое-что? Я вижу волнение на лицах ваших, досточтимые собратья, и спешу успокоить вас. Пока еще опасность не велика, хотя один из наших лучших агентов донес мне сегодня утром, что ученый историк, приват-доцент здешнего университета, бывший масоном первого посвящения, Рудольф Гроссе, позволил себе высказать артистке, очевидно приглянувшейся ему, кое-что, могущее раскрыть ей глаза на сущность масонства и его настоящие цели.
– Но позвольте, барон Джевид… Каким образом один из «учеников» масонов мог узнать что-либо из настоящих тайн ордена? – возразил Гольдман. – Это кажется мне совершенно невозможным, а потому и беспокойство ваше излишним.
Председатель покачал головой.
– Досточтимый Леон Давидович, поверьте, что я не стал бы беспокоиться из-за пустяков. Но в данном случае речь идет о вещах более чем серьезных: доктор философии и приват-доцент всемирной истории, Рудольф Гроссе, был необычайно даровитым юношей, привлекшим наше внимание уже в бытность свою в университете в Бонне. Заманить его в нашу Боннскую ложу было не трудно, но удержать его оказалось трудней. Пробыв года два «учеником», молодой человек попал на военную службу вольноопределяющимся и объявил открыто о несовместимости солдатской жизни с требованиями нашего ордена. Так как верховным Бет-Дином (судом нашим) была признана необходимость оставить братьям первого посвящения свободу выходить из ордена в случае желания, то и «ученика» Беньямина, Рудольфа Гроссе, было разрешено освободить от его клятвы ордену, вычеркнув его из списков всемирного союза. Но само собой разумеется, что за ним учрежден был негласный надзор, как за каждым, добровольно вышедшим из ордена.
Шепот одобрения раздался вокруг стола. Барон Литвяков громко выразил его. Гольдман поморщился, но ничего не сказал, ожидая дальнейших сообщений председателя, который продолжал своим холодным ровным голосом:
– Первые годы ничего подозрительного в поведении бывшего масона не было замечено. Он строго держал клятву молчания, и мы уже собирались перенести его имя из списка подозрительных в список неопасных, когда нашим наблюдателем замечено было особенное направление ученых трудов доктора Гроссе. Он, очевидно, занимался историей «свободных каменщиков», изучая по первоисточникам переходные этапы нашего союза… согласитесь, это было уже подозрительно… Когда же выяснилось, что бывший масон приготовляет обширную историю масонства при содействии знаменитого ученого, устраненного за измену ордену, то опасность стала несомненной…
– Позвольте, дорогой барон, – перебил Гольдман. – Мало ли подобных «историй» издается ежегодно то тут, то там. Значения они иметь не могут, так как успех их зависит от нас. Да, кроме того, быть может, эта история масонства и не содержит в себе ничего враждебного нам.
Насмешливая улыбка мелькнула на лице председателя.
– Неужели я бы стал затруднять верховный синедрион пустяками? – с оттенком раздражения спросил он. – В том-то и дело, что нашим «наблюдателям» удалось ознакомиться с основными взглядами молодого историка, и даже перелистать некоторые главы его будущей книги…
– И что ж?.. – раздалось сразу несколько голосов.
– Рудольф Гроссе принадлежит к школе Тэна и обладает несомненным талантом и громадным терпением в поисках за документами. Он уже нашел доказательства единства всех тайных обществ, бывших известными в средние века, и убедился в их решающем влиянии на распадение и гибель государств. И при этом он заметил аналогию между жизненными условиями народов и государств древности с такими же условиями нашего времени. Надеюсь, этого довольно, чтобы обеспокоить орден… Опасность же еще увеличивается от его увлечения этой актрисой, которую нельзя смешивать с «номерами» женского стада, ежегодно продаваемого нашими агентами на Восток. Бельская – образованная женщина! И, главное, она умеет мыслить… Вспомните Бокля: «Влияние женщин на успехи знания»… То, до чего мужчина доходит путем долгого, усидчивого труда и логическим исследованием фактов, женщина хватает на лету благодаря своей способности вносить в науку фантазию и группировать из незаметных мелочных признаков самую сложную картину ясно и точно. Вообразите теперь сближение мужского знания и женской фантазии, направленных на одно и то же? Припомните, что предметом размышлений для мужчины и женщины несомненно явится наш орден и повторите, что опасности нет… если посмеете…
Все молчали. Даже Гольдман не решился оспаривать председателя. Только, после минутного размышления, он произнес решительно:
– Я нахожу преждевременным принимать бесповоротные решения. Сближение молодых мужчины и женщины легко может ограничиться чувством, или чувственностью, не переходя в серьезную духовную связь, обуславливающую общее увлечение наукой. Поэтому я бы посоветовал прежде всего узнать правду о том, были ли сделаны какие-либо разоблачения, и тогда уже поступать сообразно степени и серьезности измены бывшего масона.
– Во всяком случае, оставить эту женщину здесь, вблизи императора, совершенно невозможно, ее надо убрать отсюда, так или иначе.
Почтенный старик, с лицом ветхозаветного патриарха, прибавил многозначительно:
– Так или иначе… быть может, сказано слишком поспешно… К крайним средствам прибегнуть всегда успеем. Я бы советовал даже избегать их, особенно в Германии. Не забудьте, как трудно здесь затушевать всякое уголовное дело. Припомните, чего нам стоило прекращение следствия по делу в Ксантене… А там речь шла о неизвестном гимназисте, погибшем на дороге к своей любовнице… (как установлено было судебным следствием), – насмешливо улыбаясь, подчеркнул барон Ротенбург, причем злобная усмешка скривила его тонкие губы и придала его благообразному лицу чисто дьявольское выражение, сразу раскрывшее всю злобу иудейской натуры. – Здесь же, – продолжал петербургский равви, – где замешана красавица актриса, лично известная императору и его супруге, привлечь внимание уголовной власти в десять раз опасней…
– Совершенно верно, дорогие собратья, – поспешно добавил представитель германских социалистов, доктор Бауэр, почтенный господин средних лет с солидным брюшком и золотыми очками на характерном жидовском носу. – Не только выгодней, но и осторожней будет устранить эту опасную актрису мирным или, по крайней мере, бескровным образом. Каким именно, – мы спокойно можем предоставить обсуждение комитету семи, мудрость которого, конечно, найдет способ согласовать нашу безопасность с необходимостью устранения личностей, вредных для ордена.
– Что же касается этого приват-доцента, которого мы имеем право считать минеем (доносчиком), то с ним церемониться нечего, – злобно сверкая глазами, крикнул молодой итальянский раввин, являющийся в то же время городским головой Неаполя.
– К какой ложе принадлежал он, когда принял посвящение? – осторожно спросил великий раввин Франции, – и можно ли действительно назвать его минеем?
Председатель перелистал толстую тетрадь в синей обложке, лежащую перед ним.
– Вот его страница… Рудольф Гроссе принят в ложу Тевтония в Бонне, десять лет назад. Два года усердно посещал собрания, был на лучшем счету. Его готовили к высшим степеням. Внезапно стал удаляться от братьев, познакомившись и сойдясь со знаменитым лириком Мозером. Шесть лет назад открыто объявил о своем выбытии из ложи и ордена, ссылаясь на необходимость отбывать воинскую повинность и невозможность согласовать присягу солдата с клятвой «свободного каменщика». Получил отпускную, согласно «явному» уставу. Записан в книгу подозрительных. Передан трем наблюдателям… Следуют имена их. С тех пор неоднократно писал против нашего союза, но всегда настолько осторожно, что мы закрывали глаза, избегая привлекать внимание. Только недавно узнали мы, что он подготовляет обширное сочинение по истории тайных обществ. Последнее донесение говорит: «весьма вероятно, что некоторые главы его сочинения были прочитаны вышеназванной актрисе, с которой он, наверное, уже говорил во враждебном союзу смысле»…
– Ого… – раздались гневные голоса… – Это меняет дело… Изменник и доносчик подлежит смерти по нашим статутам. Разногласия быть не может в подобном случае…
– Разве только в вопросе о том, какой приговор поставить и кому передать исполнение? – осторожно добавил германский социалист. Снова поднялся граф Вреде.
– Предоставим совету семи решить этот вопрос, дорогие собратья. Подобные «подробности» входят в компетенцию нашего исполнительного органа и нуждаются лишь в принципиальном одобрении великого синедриона.
– Ставлю на голосование вопрос об этом одобрении, – спокойно произнес председатель. – Согласных прошу встать с места.
На этот раз поднялись все присутствующие, за исключением петербургского банкира Гольдмана, оставшегося сидеть, «просто по рассеянности».
– Да ведь и без меня большинство было обеспечено! – объяснил он по окончании заседания окружавшим его знакомым.
Граф Вреде молча улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего «приятеля», чтобы поверить его «рассеянности». Что же помешало ему подняться, когда решался вопрос о жизни и смерти изменника и его сообщницы? Неужели ему жаль стало этих людей?
Русский сановник покачал неодобрительно головой.
– Наш Гольдман на дурной дороге, – шепнул он барону Ротенбургу, присоединившемуся к нему в маленьком палисаднике, разросшиеся кусты которого скрывали уходящих через узкую калитку, искусно проделанную в самой чаще уже зацветающей сирени. – Его знакомство с французской актрисой, на которой он собирается жениться, очевидно, дурно влияет на него, внушая ему слабость, недостойную еврея. Я боюсь, чтобы жена-гойка не завела нашего друга в непроходимые дебри душевных противоречий.
Старый фанатик ничего не ответил. Он молча пожал руку графа Вреде и, догнав великого раввина Франции, принялся горячо говорить с ним на древнееврейском языке, непонятном для большинства присутствующих.
Русский граф молча улыбнулся. В голове его мелькнула мысль: «И мы собираемся основывать всемирное государство, требующее полного единения всех евреев! Мы, не имеющие ни общего языка, ни общих верований, ни общих убеждений и идеалов… Все это было и прошло, забыто… сдано в архив вместе со «старыми ханаанскими штанами», по остроумному выражению 40 раввинов Германии. В конце концов, всемирное господство жидовства разобьется на куски, как разбилось столько всемирных империй. И тогда людям с умом и энергией, действительным избранникам судьбы, достанутся обломки мирового престола, из которых мы сумеем смастерить царский трон для нас и наших потомков!.. Так было после разрушения империи Александра Македонского, так будет и с всемирным владычеством евреев… Пожалуй, еще раньше – после падения полумирового владычества России… И тогда настанет твое время, Помпей Вреде… которое я вижу и подготовлю…
В Тиргартене
В конце мая, или начале июня, когда молодая зелень еще не сожжена солнцем, старый Тиргартен так дивно хорош, что, блуждая по его тенистым дорожкам, забываешь близость Берлина.
Особенно прекрасен роскошный парк, подаренный Вильгельмом I городу Берлину (с тем, однако, чтобы ни одно дерево не могло быть срублено без разрешения императора) – ранним утром, когда молчаливые аллеи еще не превращены в шумные бульвары бесчисленными колясками, каретами, велосипедами и извозчиками.
В эти часы «публику» встречаешь только изредка на усыпанных песком узких дорожках, предназначенных для всадников.
Берлинская аристократия, настоящая и поддельная, военная и штатская, избирает ранние часы утра, от 7 до 9, для кавалькад.
Число наездников и наездниц все увеличивается с каждым днем, вплоть до середины июля, когда вместе с окончанием скачек в Гоппер-гартене кончается и официальный весенний берлинский «сезон». Берлин пустеет, большинство театров закрывается и в столице остаются только те злосчастные люди, которым некуда или нельзя бежать из духоты каменных коридоров, именуемых городскими улицами.
Май только подходил к концу и прелестные аллеи древовидной жимолости, окружающие памятник «Победы» в Тиргартене, стояли облитые грандиозными гроздьями благоухающих розовых цветов. Берлинская аристократия была еще в сборе и тенистые аллеи Тиргартена были оживленней, чем когда-либо, в аристократические часы раннего утра.
Особенное внимание всех встречных в это утро привлекла кавалькада, состоящая из кавалеров и двух амазонок, позади которых держался на почтительном расстоянии маленький грум, мальчишка лет пятнадцати.
Амазонки были прелестны. Они дополняли своей молодой красотой прелесть дивного весеннего утра в зеленом оазисе парка, спрятавшегося за двойной оградой шестиэтажных зданий.
Наездницы сидели на великолепных чистокровных конях, а в углу синих чепраков дамских седел виднелась золотая корона над красиво переплетенными буквами: А.Ф.
Принц Арнульф-Фридрих афишировал себя в обществе своей протеже, известной всему Берлину звезды «Резиденц-театра». Для немецкого аристократа это была несказанная дерзость, но так как принц Арнульф был холост, в военной службе не числился и пользовался репутацией неисправимого ловеласа, то на его выходки берлинские аристократические кумушки обоего пола смотрели сквозь пальцы, тем более что император относился к нему снисходительно.
Рядом с принцем ехала, впрочем, не Гермина Розен, оставшаяся во второй паре, между двумя красивыми молодыми поручиками, бывшими однополчанами принца и его ближайшими друзьями, – а Бельская, так быстро ставшая популярнейшей артисткой прусской столицы, звездой первой величины на полотняном небе театрального Берлина.

