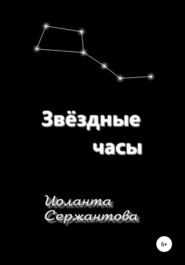 Полная версия
Полная версияЗвёздные часы
Переждать непогоду, прячутся под воду лягушата, сидят тихо, завернувшись по шею в мягкие пледы ила, а бутонам лилий, тем не деться никуда, – зажмурятся только накрепко и шепчут тихо: «Пронеси…» Листьям – и того хуже: иссечёт их нагайкой града без жалости, сколь хватит мочи, и изрезанные в лоскуты под самый стебель, как платок страдающей от коварной измены девицы, они уж не годны никуда. Не дожидаясь последней капли грозы, тонут бесславно и безвольно. Вскинувшееся облачко ила, как свидетельство последнего вздоха, взволнует реку, но мрачные её воды спешат, текут без остановки дольше, ибо не в силах: ни обернуться, ни остановиться насовсем.
Пройдёт немного времени, посветлеет и разгладится чело реки. Выпростав ладошки, из тины осторожно выглянут лягушата. Дожидаясь, пока лилия наберётся храбрости отпустить на воду иные листья, будут дышать часто и неглубоко, только чтобы удержаться на плаву.
Ибо тяжело одолеть в одиночку: то ли град, то ли реку, то ль жизнь.
О пошлом
36
Пухлый пыльный альбом с фотографиями. Частью они вправлены в бумажные уголки, частью в насквозь прорезанные листы, бывает, что и приклеены. На них – изображения дорогих людей, друзей, родных и случайных знакомых. Ставших недругами срезают со снимков, вымарывая из памяти, или прячут за спины тех, чей образ хочется трогать взглядом.
Когда-то фотографии назывались дагерротипом, карточками, но вернее всего считать их слепками былого. Листая альбом, вязнешь в липких, настывших37 глыбах воспоминаний. Выискиваешь некий тайный жест, взгляд, зацепившуюся за цепкую лапу алоэ портьеру, – да что угодно! – любой знак из прошлого, который может намекнуть, дать знать о том, как оно должно было бы быть, если бы… Если бы что?! Какое оно, несбывшееся, затерялось в нас, теперешних? Неясно то.
На снимках видно нечто, неведомое душе, лишнее ей. Исказившее нас мнением других. Ему неважно, как помнит сердце, невозможно мириться с мыслью о том, что всё, пропитанное соком чувства – правда, а любая капля яда домысла – ложь.
Мы смотрим на старые снимки, вздыхаем и пробуем разгадать подсказку о знании истины, смысла появления на свет по движению давно истлевших губ тех, кого застали едва, по невинным ещё своим. Но как напрасны эти попытки, так не дано познать вполне и себя, а уж исправить… так и вовсе.
Одни и те же из века в век ошибки ведут нас. И – всегда всего мало, но не хватает одного лишь, главного – к себе любви. Ведь по причине её одной мы должны дорожить теми и тем, без чего ущербны. Не как тот месяц в небе, ему сего не понять, но те, одинокие бездонно. Которые не умеют любить других, даже себя ради.
Мы черпаем из суповой тарелки ненависть, а для любви остаётся плоская вазочка для варенья, – ажурная, расписная и такая маленькая. Да за что ж мы… себя… так?!
Дотошность бытия, вкупе с отпечатком доброй памяти об себе, – исток чистого солёного ручья слёз, и ощущения того, что мы будем иными, когда-нибудь, и не станем вздыхать над прошлым. Мы полюбим настоящее, по-настоящему, – каждый миг, каждый взгляд, каждый вздох.
Прошлое не так безмятежно, как мы думаем о нём.
Среда обитания
– Кар! Кар! Кар! Кар! – раздельно, сипло, как из сплющенного от частых падений громкоговорителя, прокричала ворона, и я проснулся. Было ровно четыре утра.
Накануне поспать почти не удалось, дерево у окна качалось, словно навеселе, билось с размаху о мокрое стекло, умоляя пустить в тепло. Улица и впрямь была слишком просторна и пуста для одинокого повесы. – Где-то там, в ногах, поистрепались кружева васильков, облысели одуванчики; оставленные в траве гнёзда, чисто прибранные напоследок, понемногу наполнялись дождевой водой. Беспечно радуясь своему пёстрому холостяцкому, лишённому стороннего смысла уюту, я закутался плотнее в одеяло, намереваясь опять уснуть под соло ливня о подоконник, но вдруг… хлопнул себя по лбу, – эх я, дурак! – и стал собираться.
Дело в том, что неподалёку, на самом краю поймы реки, жил знакомый мне с некоторых пор лис, и плотный поток воды с небес мог лишить его не только пищи и крова над головой, но самой жизни.
Мы встретились во время одной из моих поздних прогулок к реке. Лис мышковал38, и, оказавшись неподалёку, я чуть было не помешал решающему моменту его охоты. Готовый к последнему броску, он стоял уж наизготове, подле запасного входа мышиной норы, как весьма некстати появился я. С изрядной долей досады скосив глаза, лис споро разобрался со степенью великодушия, имеющегося во мне, и без утайки продолжил начатое. Изумлённый ловкостью, расторопностью, сметкой и …брезгливостью, с которой шла добыча39, я замер на месте, и, кажется, даже забывал дышать. Едва лис склонился к земле, как уже мышиный хвост, задев ему усы, обвис безвольно. Как, когда, каким манером он успел схватить мышь, я так и не понял, хотя ни на мгновение не отводил взгляд в сторону. Верно расценив мою очевидную нервность, лис юркнул в кусты, и почти тотчас же вышел, морщась от неприятного запаха аммиака.
– И ты это ешь? – спросил я лиса. Тот, обежав пенёк, присел на землю и сочувственно, горестно, как-то чересчур рассудительно оглядел меня сверху вниз.
Обернувшись чуть менее пышным, чем на картинках детских книжек хвостом, он был, тем не менее, красив обыкновенной естественной красотой достойного жизни и любви существа. Всем видом своим он указывал на то, что ему самому претит подобный способ утолять голод, но… где ж ему столоваться, в таком разе?
– Ты прав, – согласился я и предложил, – а, хочешь, я, по мере возможности, буду помогать тебе?!
Он не казался хитрым или льстивым, этот лис40. Он-таки здорово разбирался в человеческой породе и.… с того дня я принялся откладывать во время обеда вкусные косточки, шкурочки и кусочки, которых было бы намного меньше, коли б не радость подкормить моего нового друга.
На первых порах он вызывал жалость к себе, как любой бездомный щенок. Но по мере того, как лис впускал меня в свою жизнь, становилось понятно, насколько он более устроен, чем любой, потерявший крышу над головой, человек.
Тёплое глубокое гнездо среди корней дуба было просторно и сухо даже в самый сильный дождь, так как вход в него был устроен через узкий, под углом, лаз. А та охота, во время которой я его застал при знакомстве, как оказалось, была вынужденной редкой мерой, на тот случай, если не удавалось раздобыть ничего кроме. Мыши для лиса явно были нелюбимым дежурным блюдом.
И вот, подбадривая себя воспоминанием об основательном устройстве лисьего дома, я, всё же, чуть ли не бежал к месту, которое тот считал своим:
– Ну, так чего ж? Ничего с ним не сделается! – шептал я, запыхавшись, но, чем ближе подходил, тем глубже осознавал, что шансов увидеть лиса живым и здоровым почти что нет. Ливни последних дней затопили и пойму, и дуб, ухватившийся корнями за землю, и убежище среди них. Во всё это время, по причине случайной хвори, я не мог бывать у лиса, и не представлял, – что с ним теперь.
Когда я добрался до дуба, вода доходила мне уже почти до колен. Не рассуждая о том, на что могу наткнуться в глубине, сунул руку так далеко в нору, как смог, и ухватился за… Я не знал, кого тяну на поверхность, просто надеялся, – лисий щенок ещё жив. Но оказалось, что, вцепившись прямо в колючую спину, достаю из воды ежа. Боли от игл я не почувствовал, так как очень спешил, и по всему было видно, что поспел вовремя: ёж чихал, брызгая мне в лицо водой, слезливо и часто моргая при этом. Бережно и осторожно я донёс его до сухого места, где опустил на землю. Обстоятельства представили нас друг другу, но напуганный зверёк всё же дрожал, хотя и не был в состоянии поднять игл мне навстречу. Выудив из кармана кулёк с угощением для лиса, я выбрал куриное сердечко и подложил прямо к пятачку носа ежа. Тот не сразу, но разлепил-таки сомкнувшиеся ноздри, несмело потянув на себя вкусный мясной запах.
– Успокойся, малыш. Это тебе гостинец, от Лиса, – вздохнул я и тут же услыхал, как откуда-то сверху, с ветки дерева над моей головой донеслось деликатное тявканье. То был мой лисёнок. Спасаясь от наводнения, он забрался повыше, и теперь никак не мог спуститься сам.
…Не знаю, прав я или нет, но когда кто-то рассуждает о звериных повадках, мне всегда представляются искажённые яростью лица людей, а, в противоположность им, – черты и поступки животных, в коих всё чаще угадываю я доброту, сострадание, сопричастность нашей, общей для всех, среде обитания.
…
– Гав! – послышалось с дерева у окна.
– Да что ж ей не спится! – заворочался я под тёплым одеялом, слушая, как ворона громко откашливается со сна, дабы прокричать своё обыкновенное «кар!» положенное число раз.
Я подсчитал, их оказалось ровно шесть. Но было всего лишь пять утра!
Манкируя укоризной, едва видимой через полукружия пыли на стёклах, птица вновь, чётко и ясно выразила собственное мнение о верном для нас времени.
– Вероятно, она живёт в каком-то другом часовом поясе, в ином измерении. – подумалось мне, – Впрочем, как и я.
Чужое
Полдень уже, а лист одуванчика всё ещё примят росой, будто просыпанным на землю жемчугом. Сам же дрожит от ветра, жмурит змеиные янтарные очи на то, как бьётся рында листа кувшинки, и кричит истошно рыбина, до ряби на воде.
Всего на один вечер и ночь дождик вдел аквамариновые серьги сосне в ушки, да позабыл взять обратно. Красуется теперь та, думает, – как бы оставить их себе, но чтоб без обид. Так дождь вовсе и не скуп, посмеётся лукавый, обмотав лоб шёлковым платком облака, да одарит ещё и бусами, и парой колец блестящих. И не тайком, всё в виду солнца, с поклоном и без отдачи, честь по чести.
Уж как рада сосна, играет подарками, светится вся, но зря это, напрасно. Через час всего, не дольше, растают украшения, как и не бывало. Пальчики станет саднить, покроются пятнами, пожелтеют, состарятся, и до того скоро, – меж двумя вздохами ветра всего.
А ведь чего бы ей, сосне, хотеть иного, коли у самой изумрудные до плеч подвески, да серьги драгоценные, старого кислого злата. Да не дорого оно, своё-то, не ценно так, как чужое.
Оглядывая поределый стан свой, да ржавый упругий ковёр у ног, вспоминает сосна случайную бабочку, что живёт единым днём, а кажется вечной, ибо – маленькими глотками отпивает либо трепет, либо взмах, либо жизнь.
Умей обернуться своим, не желай чужого, не проси. Как знать – чем обернётся оно. Иной от сердца, с добром отдаст, да не каждому хорошо так то, ибо не всякое добро благо41.42
Кажется
Дождь шёл почти без остановки уже третью неделю. Иногда он не мог выдавить из себя ни капли и, взбив перину туч, намеревался отдохнуть, но не тут-то было. Его будили, шумно роняя на пол стулья с высокой неудобной спинкой, и всё приходилось начинать заново: обрывать невесомые провода так, чтоб искрило, сбивать с пути столбы ветхих стволов и, неумеренно поощряя буйство дикорастущей зелени, угнетать любое вычурное, надуманное и неестественное. От обилия вод лес зарос так, что не было видно неба.
Вознамерившаяся не отстать кубышка43, шевеля рыбьим ртом, скрипела в такт, вырезывая усердно гигантские сердца из зелёного картона, и роняла тут же себе под ноги, не заботясь дольше об их судьбе. Через некоторое время листов сделалось так много, что даже чересчур. Они плыли недолго сами по себе, а после сбивались в тесные стаи, плотно закрывая собою всю поверхность воды, где мешали рыбам, лягушкам и даже птицам. Привольно было одним лишь ужам. Субтильные фигуры позволяли им без труда просачиваться меж страниц зачитанных томов листвы, и, появляясь неожиданно в разных местах водоёма, наводить непритворный ужас на его обитателей.
Иная монотонность столь навязчива, что изживает себя сама. Ветшая от времени или по сторонним причинам, слегка огрызенные с краю или разломанные на треть, – листья оседали на дно один за другим. Двух уцелевших хватило, дабы пруд отдышавшись, наконец, не казался лишённым привычного уюта. Стало где охолонуться44 птицам, лягушкам снова было где согреться, не опасаясь подвоха со стороны ужа, да и рыбы передумали взывать о глотке воздуха над водой, но мирно дремали в тени.
То, что произошло после, не случилось само по себе. Оно готовилось степенно, изо дня в день, а выдало себя, лишь когда карась, упёршись спиной в лист кубышки, приподнял его как мог высоко над водой и начал разбег. Как оказалось, листу весьма желалось почувствовать себя свободным, парящим, как те птицы, что взлетают с воды, не замочив крыл. Рыба вознамерилась помочь ему в этом, но совершенно позабыла о мощной руке корня, которая никак не желала отпускать поводок стебля от себя.
Но… карась был упрям. Глядя на его старания, часть рыб тщилась подсобить, а другая сама пыталась взлететь, часто загребая грудными плавниками. Впрочем, ни из того, не из другого, ничего не вышло, да и не могло б. Произошло то, чего было не миновать: не выдержав терзаний, стебель обломился.
Не готовый к такому повороту событий, без сил и без воли предпринять что-либо, лист удерживался на плаву ещё некоторое время. Измученный надеждами совершить то, на что не был годен, он всё больше молчал, мрачнел, пока не канул однажды ночью. Без следа…
Карась по сию пору уверяет всех, что лист кубышки всё же взлетел, и не без его в том участия, но злые языки утверждают, что он-таки утоп. А лягушка, на глазах которой, собственно, всё и произошло, сохранила втайне основанье случившегося. Уж, как ни стращал, так и не сумел выведать истины. Единственное, чего удалось ему добиться, так это слов о том, что «каждый должен заниматься своим делом»… Кажется, что это было именно так.
Умение ждать
Нисколько не стеснив трясогузку, спешащую «по хозяйству», заодно пустив по ветру суждение о себе, как об угрюмых затворниках, троица дубоносов45, шатенов со стриженым «под горшок» затылком, обследовала двор в поисках «чего бы покушать». А всё от того, что мошкара с прочими жучками, по причине холодной погоды, попряталась в укромных складках строений и коры, или плотно прикрыла вход в земляные норки створками дверей, наскоро сколоченных из неровно распиленных полотен листьев. Так что дубоносам, привыкшим пополнять запасы в полёте, совершенно некого было попридержать за щекой до привала.
Добираясь к своим уединённым местам и убежищам, им приходилось довольствоваться разве что кочаном-другим нераспустившихся почек. Но таких, запоздалых, было всё меньше, хлебосольной же родни46, – воробьёв, снегирей да канареек, в виду особого нерасположения, приходилось сторониться. Те осуждали дубоносов за леность к приземлённому труду, что, оправданное обстоятельствами иль прикрытое обстоятельностью, считалось весомым поводом нелишний раз попрекнуть их. Впрочем, семейство47 было согласно простить дубоносам нежелание полоть сообща огород, но отказ петь в терцию оскорблял двоюродных и расценивался не иначе, как высокомерие и небрежение узами родства. Отсылка ко скромным вокальным данным или застарелому катару горла не принималась в расчёт. Хотя, если по совести, дубонос брался зубрить гаммы сразу после наступления Рождества, и вполне мог быть простужен от того.
Итак, чинные и вечно голодные, как семинаристы, дубоносы держались вместе и соображали, как водится, на троих, чтобы похвастать хотя бы чем друг перед дружкой, поддержать разговор, не раздражаясь и не выслушивая противоречий и до дома дойти, тут же замерев на месте, просто так, без опаски быть осмеянным или обвинённым в вялом равнодушии даже к своим нуждам. (Спальня-то у дубоноса всегда на виду, ибо, благодаря пестрому халату, сходит за своего, где бы не присел.) Справедливости ради, если птицам и было кого страшится, так только себя, ибо пением, напоминающим скрежет металлических зубов, ряд об ряд, могли неосторожно навлечь ненужное внимание.
Посему, из осмотрительности, да дабы утвердить мнение об самих, как о философах, дубоносам приходилось по-большей части помалкивать, с умным видом. Но… и притворству приходит когда-либо конец!
Выдержки хватает не всем, – выждав время, дольше, чем кажется иным, получить свою награду. Отсиживаясь в уголке, прислушиваясь к шагам или небрежному перелистыванию веера крыл со стороны, дубоносам нет нужды обременять себя суетой и излишними порывами. Но стоит лишь вишням в саду улыбнуться, моргнуть солнечно, сбив на сторону сиятельную корону спелости48, тут -то и наступит время мудрых птиц. Обнесут в минуты!
Умение ждать своего часа… Непростая сноровка. Дана не каждому, всякому нужна.
Второе…
Кому-то слышится в лесу только вой комаров и треск мушиных крыл, а иным – одно лишь птичье пение. Первое обременяет душевное состояние, второе наполняет его беспричинной безответной радостью, что может обрушиться в любую минуту.
Чему верить? Потакать чему? Не впадая в крайности, найти ту грань, за которой будешь счастлив, насколько возможно. Постоянно поминая о том пределе, за которым то ли вечный свет, то ли бездонная тьма.
Вспоминает ли лягушка о том времени, как, чувствовала близость сестёр и братьев через плотную пелену икринки? Смеётся ли над тем, как головастиком пугалась исчезновению хвоста? Торопится ли выполнить своё предназначение в этой жизни? Да и в чём оно? Замереть и дождаться, пока муха подсядет на длину языка, да проделывать это многократно, не покладая изящных изумрудных рук, в тонких кружевных перчатках? Или выпустить в свет как можно больше аккуратных смешных и нежных лягушат, а после радоваться, глядя на них с берега ли или снизу вверх, со дна, засыпая, обернувшись в шерстяной платок болотного цвета…
Уж на ладони кувшинки, словно росчерк, запечатлённый жизнью, чёрной тушью на зелёном листе. Отдавая солнцу, что может, принимая от него то, что даётся, созерцает он ярко-жёлтый сочный бутон, не отрываясь. Сравнивает ли себя с цветком? Сомнительно. Позволяя кувшинке быть собой, любуется ею, как им она.
Бывает, крутишь шарманку времени назад, путая нити мелодий, всё больше грустишь, и становишься беспомощным более, но и сильнее от того ж, намного. Первое от невозможности вернуться туда, где любая малость горька и заслоняет собою жизнь, второе от всплеска той, с рождения, силы, что, как море, всегда у твоих ног. И стоит сделать лишь небольшой шаг, чтобы вновь войти в его воды. В каждом месте, в любой час.
Чичико
Чичико был хорошим другом. Из тех, которые сразу вызываются помочь, оставляя колебания для иных, ведомых ответственностью только за себя.
Мы встретились давным-давно, кажется, что в другой жизни. Когда он впервые переступил порог процедурного кабинета физкультурного диспансера, то показался милым и по-хорошему несуразным, нескладным. Как все привлекательные, красивые со всех сторон люди, он как бы стеснялся своей стати, прятал её, сам того не замечая.
Появление в обществе таких персонажей49 всегда сопровождается чем-то особенным, что выходит за грани мимолётного, шапочного знакомства. Вблизи их расположения и открытости, лозунг о братстве приобретает зримые формы и очертания.
В тот день я забежала в диспансер после тренировки, чтобы урвать очередную порцию мудрости у массажных дел мастера Льва Васильевича Разливанова. Получив задание, хлопотала над длинной тощей мышцей спины терпеливого пациента, пытаясь размять её, не травмируя кожу, и всё, что под нею. Это было непростым делом, так как сил в ту пору хватало и на то, чтобы ломать надвое яблоки, сворачивать в рулет стальные чайные ложки и медяки. А тут же нужна была сноровка, – отделить мышцу, проработать её одну, выжать усталость50. Чичико понаблюдал за процессом некоторое время, после чего спросил:
– Сложно так научиться?
– Да не особо, иди, мой руки, покажу.
Рукомойник был тут же, в углу кабинета, и мне сразу понравилось, – как подробно моет руки этот парень. Когда, в облаке лёгкого аромата мыла он вернулся к массажному столу, я принялась делиться секретом:
– Смотри, что у меня в руке! Монетка! Не думай, она чистая. Кладёшь её вот сюда… в центр ладони и, когда массируешь, надо, чтобы не выпала, и тогда ты будешь чувствовать не кожу, а саму мышцу… Давай, пробуй.
– Ого! Монета-то горячая! – удивился Чичико.
– А ты как думал! – смеюсь я в ответ.
Мне нравилось учить, Чичико любил учиться… В общем, мы тогда здорово сдружились, потея над этой спиной. Рассказывая о себе друг другу, находили всё больше и больше общего. Оказалось, что Чичико наш, цирковой, и управляется со студией в доме культуры, а я, в ту пору спецкор московского еженедельника «Советский цирк», считала себя чуть ли не циркачкой.
Годы спустя, когда один из наших друзей, Серёга Шереметов, взялся возродить серию книг о людях, небезразличных к судьбе страны, – "Край Воронежский, судьбы людские", он спросил, кто достоин быть упомянутым в ней, и имя Чичико оказалось в моём списке первым.
– Слушай, может не стоит? – он грустно посмотрел на меня и, по-обыкновению застенчиво, улыбнулся.
– Стоит, Чичико! Ну, ты же знаешь…
– Что ты не кисейная барышня, а подводник, знаю, – рассмеялся он тихо и добавил, – добро.
В принципе, одного этого слова было бы довольно, чтобы дать понять, каким он был. Как жил. О ком думал.
Символ чистоты и добра, пятая буква славянского алфавита. Именно так, единым знаком можно было бы и ограничиться, рассказывая о нём. Но… нечестно это. Весомую часть жизни, без лишних слов, он потратил на других, значит стоит израсходовать их хотя теперь. Ни слова неправды, никаких предположений и цифирей51, – только то, что задержалось в мелком сите человеческой памяти.
***
Сердце – как горящая свеча.
Звук молитвы отдаётся в чутких пальцах.
И светлеют лица стонущих страдальцев.
По молитвам православного врача.
Священник Сергей
матушка Ирина
(Из книги отзывов лечебно-оздоровительного центра «Панацея»
Чичико Ивлиановича Хачапуридзе
Материнское молоко. Тёплое, светлое, родное – как туман над рекой поутру. Воспоминания об этой, первой в жизни реке, бессвязны. Некоторые, доселе опиравшиеся на бестелесные плечи упоительного единения с мамой, способны, всё же, оттолкнуть их от себя, в угоду какой-либо безделице. Кем тогда ощущаешь ты себя, человече, срыгнувший на бумажную салфетку первый глоток жизни? Отпившей от материнской мудрости хоть один глоток, не ищет смысла бытия, он вЕдом ему, и им же ведОм.
Вспоминая Чичико, так и хочется сказать: хорошая у него была мама. Такого славного парня родила в далёкой грузинской Ошоре (Самцхе-Джавахетия). Для обозначения названия этого села, картографы, в своё время, пожалели каплю типографской краски. А ведь каждому хочется видеть на карте мира название того места на земле, воздух которого впервые напоил виноградник его лёгочных пузырьков.
Чичико был триннадцатым, – счастливым! – как говорил он, сыном знаменитой в горной Ошоре травницы Кристины. Она лечила бедных, как сама, людей, так как не умела, не желала наживаться на чужих несчастиях.
– Ты помнишь, как вы жили тогда?
Чичико улыбается одними уголками губ, и тянет за ручку тяжёлую дверь детства. Она приоткрывается ненадолго, но я успеваю заметить пьяного до расстёгнутых брюк Деда Мороза в центре хоровода озябших ребятишек, что перебирают худыми ножками подле ёлки, наряженной остатками рыбных консервов. Так и хочется, – сгрести их в кучу, обнять, согреть, покормить.
После окончания средней школы, Чичико переехал к брату Гиви в Нижний Кисляй Бутурлиновского района Воронежской области. И уже оттуда, сбрив свой русый(!) кудрявый чуб, Чичико уехал служить в Таманскую гвардейскую дивизию. Из-за нечастого в ту пору умения водить машину, пришлось пробыть в армии не два года, а целых три, как в морфлоте. Из Москвы его перевели в Ростов, оттуда в Оренбург, а дальше – целина… После демобилизации съездил обнять маму, а потом опять за баранку. Отучившись в Бутурлиновке на киномеханика, Чичико в одиночку развозил по удалённым уголкам области культуру, «крутил фильмы» жителям отдалённых сел и деревень. Всё свободное время между поездками проводил в цирковом кружке, упорно и с наслаждением занимался, интуитивно прорабатывая нужные группы мышц, доводя мощь и тело до совершенства. Пока директор очередного заезжего шапито не заметил самородный талант парня, и не забрал его к себе в труппу.
И всего через год Москва рукоплескала силовому жонглёру Чичико Хачапуридзе. Спустя ещё один, он женился на воронежской девушке Зое, а когда, через положенный срок, родилась дочь Ирина, Чичико ушёл… в декретный отпуск, чтобы помогать жене растить малышку. Но после того, как дочурке исполнилось полтора года, шпрехшталмейстер, сиплым балаганным тенором, объявил о выходе в манеж двух рыцарей – силовых жонглёров, рвущих животы ради сияющей горным снегом платка миниатюрной Зои.



