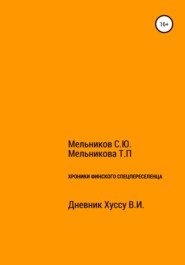 Полная версия
Полная версияХроники Финского спецпереселенца
С нами вместе были мужчины пожилого возраста из Кировской области. Первые дни по прибытию в часть у них были солидные бороды и по большому мешку сухарей из дому. На гарнизонном стрельбище они ни одной пули не послали в цель. Тогда их повторно заставляли стрелять – результат тот же. На второй день наших дедов не было в строю и ещё два дня отсутствовали, потом снова появились. Мы их окружили и давай спрашивать: «Где же, вы, изволите быть?» Оказывается, они проходили медкомиссию, где их тщательно обследовали, особое внимание обратили на зрение. Они теперь были героями дня, рассказывали о своих похождениях. Военный врач отходил от них на расстояние в пять метров и поднимал два пальца. Спрашивал: «Сколько пальцев я показываю?» Отвечали, что два. «О, милые мои, вы прекрасно видите палец, неужели вы на фронте не увидите человека, который гораздо больше пальца, так что зрение у вас нормальное!» Этим и закончилась двухдневная проверка. С них сняли эти бороды и надели пилотки со звёздочками, они теперь стали похожи на других бойцов и со всеми топали в строю с утра до вечера. Вечерами, после тактических занятий прикладывались к своим мешкам НЗ, которые тут же лежали на нижних нарах рядом с ними. Пока у них дело шло гораздо веселее, чем у остальных, ведь дневная норма хлеба в полку была 650г на день. (Отсюда, куда были эвакуированы мои родители, было недалеко. Поэтому я написал письмо, но ответа не было).
Жизнь наша проходила однообразно – с утра до вечера обрабатывали различные методы ведения боя. В последствии я совсем ослаб, так как после стройбатальона, утраченной энергии и истощения не были восстановлены, на это потребовалось бы длительный отдых и хорошее питание. Теперь были другие времена, на это рассчитывать не приходилось.
Однажды после занятий я обратился в санчасть, где получил освобождение от тактических занятий. По изучение материальная части стрелкового оружия у меня шло всё нормально, память пока не подводила. Я мог любой образец оружия разобрать и собрать гораздо быстрее некоторых штатских. Комвзвода, зная это, приказал мне проводить занятия по изучению стрелкового оружия с теми, которые не ходили на тактические занятия, а валялись на нарах. Это были разного рода шпана, мелкие воришки, хулиганы и прочие подонки из преступного мира, которые были освобождены по амнистии по указу Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калининым. Это был особый контингент бойцов, которые отрывали подошвы от своих ботинок и привязывали их проволокой, в таком виде становились в строй, после чего они были направлены в казарму, чего именно и надо было. Здесь что-то напоминает вышеописанное много про босяков стройбатальона. Но тем было далеко до этих, это были отпетые люди, которым было всё нипочем. Однажды повели в баню один из взводов. Это было поздно вечером, в землянке свет не горел, вокруг было темно, хоть глаз выколи. Пока они мылись в бане, за это время их вещевые мешки все были проверены – нет ли там чего-нибудь стоящего. Вот с такой шпаной под одной крышей оказались мы. Вятские мужики со своими мешками пока жили лучше всех, их никто не трогал, потому что я постоянно находился дома. Однажды днем я прогуливался по свежему воздуху и не имел представления о времени, потому что низко над самой землей висели серого цвета тучи, которые всё чаще навещали эти края с наступлением весны. Возвратился в расположение части и что же я вижу: вокруг наших нар, где спали вятские мужики, собрался весь блатной мир, который днями лежали на нарах и играли в карты. Они наметили другое мероприятие – эти мешки с сухарями им не давали покоя. В другом конце землянки они этим вопросом давно решили заняться, тут я для них была помехой. Только они расположились вокруг этих мешков, я крикнул на них: «Это ещё чего?» Один из них, который готовился делить сухари, сказал: «Пошли, это легавый». Я в это время блатной жаргон не понимал, но то, что им это было не по вкусу, сразу понял. Они тут же разошлись в разные стороны и мешки вятских мужиков остались невредимы. Так было несколько дней подряд. Но мои соседи ничего не знали сколько усилий мне приходилось прикладывать, чтобы сохранять их. В середине мая погода установилась теплая, с каждым днём всё жарче стало на улице, поэтому сидеть в сырой землянке вовсе не хотелось. Я стал каждый день больше времени проводить на воздухе, прогуливаться по лесу и дышать целебными запахами хвои смолы, это придавало бодрость и постепенно восстанавливаю утерянную энергию. Теперь у меня уже был определенный маршрут, рассчитан по времени, который в обязательном порядке старался выполнить. Однажды, возвращаясь со своих прогулок в казарму, направился на своё отведенное место. Я своим глазам не поверил – вся шпана стояла полукругом возле наших нар, и каждый держал в руках свой вещевой мешок. Один из них яростно орудовал солдатским котелком – насыпал каждому строго определенное количество сухарей. Дележка шла по всем правилам, все по очереди получали свою долю, по всем законам справедливости. Как я глянул на это мероприятие, то у меня голова закружилась, уже делили с последнего мешка. Что теперь будет? – подумал я, когда наши дяди придут с тактических занятий. Я сразу понял, что теперь поздно думать о них. «Ну, что смотришь, возьми себе сколько-нибудь, пока не поздно», – сказал тот, который орудовал котелком, – «Благодарю, не нуждаюсь», – ответил я, – «Тебе виднее, потом не обижайся». Так шпана закончила это мероприятие, которое им не давало покоя долгое время. Теперь они разошлись во все стороны, залезли на верхние нары и грызли сухари, поминая добрым словом тех, кто этот продукт выращивал. Я все продумал до мелочей, пока дедов не было. Скоро начнется формирование маршевой роты, так что мне с ними ехать на фронт. Они за это не простят, если я их заложу, в душе я сильно переживал т.к. кому-кому, а мне в первую очередь придется держать ответ перед дедами, потому-что находился в казарме. Им вполне можно было сдать свои мешки в каптёрку к старшине, так они лучше сохранились бы. Вдруг подумал – зачем мне за чужие грехи голову ломать, что я, сторожем что ли нанялся для них, пусть благодарят, что до сих пор их сохранил. С такими переживаниями меня застали ребята, возвращающиеся с занятий. Как только мои соседи увидели, что сухарей нет, тут же поднялся такой шум, хоть уши затыкай: «Где наши сухари?», – был первый вопрос ко мне, – «Не знаю, меня освободили от занятий по болезни, чтобы я больше находился на свежем воздухе, теперь я целыми днями хожу по лесу, а в казарму захожу только вечером». Вызвали старшину роты. Тот задал мне те же вопросы, я так же ответил. Шпана лежала на нарах и притворилась спящими, но они ловили своими локаторами каждое мое слово. Особенно они прислушивались к нашему разговору со старшиной, их интересовало – выдам я их или нет? Старшина заставил меня вывернуть на изнанку каждый карман, хоть одну крошку от сухарей обнаружили бы, гауптвахты не миновать мне. Ничего не найдя у меня, старшина ушел, а вятские мужики еще целый вечер гудели, может быть сами себя успокаивали.
Теперь шпана, находясь дома целыми днями, смотрели на меня другими глазами, даже предложили с ними в картишки поиграть. Один из них назвал меня кент, это на блатном жаргоне друг. Я подумал: Бог с вами, лучше кент, чем легавый. Так проходили дни за днями, все было однообразно, ничего нового в нашей жизни не предвиделось. В конце мая стали формировать маршевые роты, весь комплекс подготовки был отработан несколько раз на теоретических и тактических занятиях. Шпана, которая лежала на нарах целыми месяцами, первая вылезла и встала в строй за получением нового обмундирования, которое выдавалось тем, кто отправлялся на фронт. Меня в маршевую роту не включили, пока об этом ничего не объясняли. На второй день после отправления маршевых рот, нас собрали человек 15 у командира роты, где объявили, что мы поедем в город Горький. Так мы покинули эти летние лагеря под городом Киров.
Получив мое письмо, отец отложил свои дела и поехал ко мне. Наши летние лагеря были в 200км от Яранска. Собрав продуктов в вещевой мешок: хлеб, сухари, масло и бутылку водку взял с собой на всякий случай. Возможно он этим хотел доказать, что я теперь совершеннолетний. Я до армии никогда при отце не пил ни одного грамма, я бы со стыда пропал, если б кто-нибудь предложил мне выпить при отце. При том я его самого не разу не видел пьяным. Нас воспитывали в духе преклонения перед родителями, плохие поступки считались великим позором, стыд тому, кто их совершал. Таких людей в деревне обходили стороной. Такие вещи теперь многим кажутся утопией, кто не поверит пусть примет за сказку.
Отец добрался до летних лагерей, но в проходной стояла вооруженная охрана, туда и оттуда пропускали по специальным пропускам. Он подошел к ограде и вызвал солдат, которые прогуливались внутри лагеря. Там бесконечно проходили торги, кто махорку продавал, кто папиросы, а иногда меняли один товар на другой. И попросил отец солдат сходить и узнать на счет меня. Ребята сходили и сообщили ему: Его двое суток тому назад отправили в город Горький. Поблагодарив их, он отошел в сторону. Что делать дальше? Решил повторно убедиться, насколько это достоверно, попросил других ребят сходить еще – ответ тот же. Убедившись, что это действительно так, отдал бутылку водки и каравай белого хлеба ребятам за труды и отправился в обратный путь.
Мы приехали в город Горький на пересыльный пункт, там из разных частей собирали команду, нам предстоял далекий путь в Сибирь на угольные шахты Кузбасса. Нас демобилизовали на основании телефонограммы НКО СССР по национальным признакам. В этой телеграмме было сказано – снять с фронта те нации, какие государства воюют против нас. В основном были немцы и финны, один грек и т.д. Не имея ни малейшего представления, что нас ожидает впереди. Поезд повез нас на восток, навстречу неведомому. Как там будут складываться наши судьбы, рассказать никто не мог. Проехали станцию Котельнич, это теперь здесь проживают родители в эвакуации, и снова прибыли в город Киров, я уже третий раз в этом году.
Отец приехал в город Киров и хотел купить билеты на обратную дорогу, но билеты уже все были распроданы на поезд Киров-Вологда. На нем он через два часа был бы в Котельничах. На платформу никого не пропускали, там всё было переполнено войсками. На путях стояло несколько воинских эшелонов, и солдатня как муравьи расползлись по платформе. Соскакивали с вагонов, чтобы размяться, набрать запасы свежей воды, покурить на свежем воздухе, полюбоваться окружающим миром.
Наш отец, словно сердцем чувствовал, хотел во что бы то не встало попасть на платформу. Пройдя вдоль ограды, заметил потайной ход, люди отодвигали одну из тесин и залазили в это отверстие, эти воспользовался и он.
Наш эшелон остановился в город Киров на первом пути от вокзала, и мы все вылезли из вагонов и расположились кто как: сидя, полулежа, вдоль ограды, ожидая – какие новости нам принесет наш сопровождающий, который отправился к военному коменданту. Забот у нас не было никаких, все почти были холостые, переживать не приходилось – дождется или нет супруга.
Я смотрю и своим глазам не верю! Отец прохаживается по платформе. Откуда это? «Отец», -крикнул я. Он остановился, оглянулся вокруг, увидел меня и на глазах появились слезы. «Вот так встреча!» -сказал он. Посидели с ним минут 30, подробно рассказывал про свою жизнь, о своих похождениях, сожалел во многом что так получилось. Вдруг по радио объявили посадку на поезд Киров-Вологда. Он мне и говорит: «Вот этим поездом я мог бы доехать домой до станции Котельничи, а по кассе нет билетов» – «Это ещё не проблема, надо что-то предпринять, отдай мне свое пальто шапку мешок и возьми в руку бутылку с водой и раздетым проходи в вагон, скажи, что бегал за водой». Такой вариант был удачный, его никто не задержал. Благополучно пробравшись вагон, я в окно поезда ему передал вещи. Через считанные минуты поезд тронулся, и я попрощался с отцом.
Через некоторое время наш товарный поезд тронулся противоположную сторону – на восток. Он шел очень медленно, иногда целыми днями стоял на запасных путях, пока не пропустит все встречные поезда на запад. Подъехали к седому Уралу, с большим любопытством смотрели на старые горы, которые местами подходили вплотную к железнодорожному полотну. Подобное нам не приходилось видеть в наших равнинных краях. Июнь был в разгаре, погода была тёплая. Проехали Урал и скоро город Омск. Это бывшая столица Колчака жила в едином ритме военного времени – вокзал был переполнен военными, как и вокзалы остальных городов. Удостоверившись в том, что стоянка нашего поезда будет длительной, отправились на базар. Там мы впервые в жизни увидели ишаков и верблюдов. После Омска двигались по намеченному маршруту и 21-е сутки прибыли в город Сталинск (Новокузнецк). Со Сталинска пригородным поездом доехали до станции Кандалеп. Здесь начиналось отроги алтайских гор. Они нам показались такие высокие и очаровательные, что мы долгое время любовались ими. В это время все склоны гор были уже посажены, это нас особенно удивило, как тут только люди умудряются пахать на таких крутых склонах. Мы не имели представление, что вручную, при помощи лопаты, выполняется такой тяжёлый физический труд.
Это город Осинники, наш конечный пункт следования, так объяснили нам. Слава Богу, быстрее бы до места, все были измучены столь далекий дорогой. Скоро месяц, как мы в пути, хотя здесь ничего не напоминало города. Да, это была большая котловина между двух гор, на дне которого была одна Центральная улица, которая именовалось улица Ленина, от которой в разные стороны в гору поднимались переулки. Всё это, вместе взятое, если смотреть с высоты птичьего полёта, напоминала огромного паука. По склонам гор были в землянке, которые были расположены в плановом порядке. Улицы именовались: Весёлая гора, Зелёный Лог и т.д. А местами были построены как попало, разбросаны в хаотичном порядке, только одни крыши и печные трубы торчали из-под земли, напоминая о том, что здесь живут люди. От станции Кандалеп, через 3км пути был клуб Сталина. Это было по тем временам одно из лучших зданий города, построенное в 1936 году из лучшего кирпича и имело внушительной вид среди этих жалких лачуг. От клуба в сторону городской больницы Бис стояли двухэтажные здания по улице Куйбышева, построенные из глины и камыша. Здесь был лагерь заключённых 30х годов, иначе говорят Сиблаг, так его в народе называли. Теперь уже заключённых не было, эти дома занимали рабочие, в основном шахтеры. Забегая вперед скажу, что в 80-е годы только начали разваливать эти клоповники. Хотя еще в настоящее время там в некоторых бараках проживают люди, т.к. квартирный вопрос год за годом становится все острее.
В городе было несколько угольных шахт: Кап 1, Кап 2, №4, №9, которые были объединены в один угольный трест «Молотов уголь». По распределению нас направили на шахту №4.
Шахта №4.
Нам представили общежитие, недалеко от административно-бытового комбината в клубе шахты №4. Здание было деревянное, одноэтажное, где были установленные деревянные топчаны на козих ножках рядами по всей длине помещения. На первых порах нас направили работать на погрузку угля с поверхности ж.д. вагоны, так как к нашему приезду на угольном складе скопилось несколько сот тысяч тонн, которые будучи влажном состоянии и под большим давление начали загораться. Стоило открыть небольшую яму в угольном отвале, как изнутри чувствовалось выделение тепла. Наша задача состояла в том, чтобы как можно быстрее отгрузить этот уголь к потребителю – иначе могли быть плохие последствия. К погрузке угля мы приступили через два дня после приезда. Получили хлопчатобумажную спецодежду, лапти пеньковые, а некоторым ребятам достались ботинки на деревянном ходу, т.е. подошва была сделана из деревянной доски, а сверху натянутая брезентовая ткань. Эта обувь имела отрицательные ходовые качества, в них было тяжело ходить т.к. подошва не гнулась. Работа по погрузке шла круглые сутки, мы попали в ночную смену – с 8 часов вечера до 8 часов утра, на поверхности рабочий день был 12 часовой. Смена обычно начиналась так: Сюда направляли огромное количество людей: домохозяйки, школьники и прочие рабочие угольного склада. Повдоль угольного отвала были смонтированы ленточные транспортёры. Один из транспортёров перегружал уголь непосредственно в ж.д. вагон. С начала смены, как правило, приходила учетчица – Валя Чувилова и всех подряд записывала, кто сегодня на смене. С начала смены народу всегда было так много, что возле транспортной ленты грузчики чувствовали локоть рядом работающего. Через несколько часов все порожные ж.д. вагоны были заполнены, и сразу стало так тихо, словно чего-то оборвалось. Теперь эта огромная армада людей расползлась во все стороны, каждый искал себе теплее места, где бы вздремнуть. Когда рабочий класс отдыхал – одноглазый десятник погрузки тов. Овчинников крутил старый телефонный аппарат и до хрипоты доказывал кому-то, что у него 300 человек остались без работы, но эффекта никакого не было. Местные жители – домохозяйки, которые продолжительное время работали здесь и хорошо знали эти ночные сюрпризы в работе – незаметно уходили домой спать, особенно те, кто жил недалеко от погрузки. Утречком часов 6 незаметно вернулись назад и к этому времени, как правило, опять подали порожняк. Рядом работающие никто не спрашивал друг друга, кто, где ночь провел. Когда кругом стало совсем светло, то Валя Чувилова опять появилась возле угольных отвалов и делала перекличку, кто к этому времени успел вернуться получил полностью зарплату за смену. После первого месяца работы, мы пошли выписывать получку – нам причиталось ни много ни мало 60 рублей старыми деньгами, т.е. 2 рубля за 12часовую рабочую смену. Вот это ничего мы зарабатывали. Этих денег никак не хватало выкупать скудные столовские обеды, не говоря уже о чем-нибудь. Расценки остались до военного времени, а цены на черном рынке поднялись в несколько десятков раз. Ведро картошки стоило 300руб. на базаре, по простой арифметике выходит, что нам надо было пять месяцев работать, чтобы купить ведро картошки – вот тебе, радуйся, живи как можешь. Местные жители на эти заработки не обращали никакого внимания, это спец. переселенцы, раскулаченные во время коллективизации сельского хозяйства. Другой контингент людей это те, которые отбывали срок в сибирских лагерях и по многим причинам остались здесь навсегда, либо их не прописывали на родине после освобождения, либо они столько дров наломали во время Гражданской войны, что просто сами боялись туда вернуться. Они уже успели пустить корни, построили себе жилище, обзавелись семьями и хозяйством, им эти жалкие копейке никакой роли не играли, для них были другие статьи дохода – это базар. Продадут несколько мешков излишков картошки, вот тебе целый ворох денег. Горы здесь все пустовали, в этих местах раньше был Шорский улус. Они земледелием не занимались, они «скотоводы». Эта нация на предгорьях Алтайских гор по своей физиологии смахивают на монгольский лад, с таким же узким и косым разрезом глаз. С приходом русских в 30е годы, когда были начаты разработки угольных месторождений, шорцы откочевали со своими стадами дальше в глухомань, в тайгу. Земли были свежие плодоносные, разрабатывай себе участок, где тебе понравится, и сколько тебе душа желает. Кроме картофеля на этих горах сеяли овёс, пшеницу, гречку, просо, ячмень и т.д. Спец. переселенцы народ трудолюбивый, не жалели самого себя. Зато у них всего было вдоволь. Им завидовать грех, так как по таким горам, не имея во всём городе никакого вида транспорта, всю перевозку осуществляли на тележках двуколках. А некоторые приучили своих коров – запрягают в телегу и за десятки километров возили на них сено. Многие из местных жителей в эти трудные годы, когда на черном рынке цены на продукты питания были высокие нажили огромные состояния. Имели по несколько сот тысяч денег, при том держали их в сберкассе. Забегая вперед, хочу сказать, во время реформы они у них не пропали так и остался этот НЗ, некоторым их хватило до самой смерти. Как говорят французы се-ля-ви, такова жизнь.
Труднее всех досталось нам, у нас не было ни кола, ни двора, и не копейки денег в кармане. Вот в таких условиях человек быстро научиться трезво мыслить. Извилин в голове станет намного больше, так что мысль не проскакивал на прямую. Пришлось с первого дня приспосабливаться к жизни. Чтобы переработать перебороть зло тех лет – голод, мы нанимались копать огороды, возить сено и т.д. Самая тяжёлая работает тянуть по горам воз сена на себе на двуколке. По ровной дорожке ещё терпимо, а в гору тянуть все глаза на лоб вылезут. А под гору спускаешься, ещё хуже, всеми силами упираешься ногами, чтобы удержать воз, иначе раздавит тебя. Вот так у неё начали свою жизнь в Сибири: ночью работали на погрузке, а днём нанимались на заработки.
Через два месяца нам удалось эти угольные отвалы погрузить на железнодорожные вагоны и отправить потребителям. Кузнецкий уголь был нужен как воздух, его высокие качества марки П.Ж. для плавки чугуна и стали, ведь Донбасс в это время находился у немцев, и ряд других бассейнов. Отпала необходимость нас держать на поверхностных работах, здесь теперь без нас могли справиться, и нас отправили в шахту. Я попал на участок №2, которым руководил Александр Николаевич Лазарев. Это был крупного телосложения человек высокого роста, эвакуированный во время войны из Донбасса. Характер у него был спокойный, никогда он не повышал голос, со всеми обращался одинаково, справедливый до высшей степени – человек с большой буквы. Чем выше человек по умственному развитию, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. Кроме начальника нашего Александра Николаевича, еще два горных мастера на нашем участке были из Донбасса: тов. Савченко и тов. Коваленко. Первая смена моя под землей проходила в северной лаве. Здесь был пройден с поверхности уклон, по которому были смонтированы ленточные транспортёры, поднимающие уголь прямо на поверхность в бункер. Мощность угольного пласта была 0.9м, работать приходилось на коленках. Забойная группа рабочих была опытная, уже проработавшие на добыче угля несколько лет: Меркулов, Сарычев, Нестеренко, Кузьмин, Пивень и т.д.
Горный мастер тов. Савченко на наряде сказал бригадиру Спиридонову И.В.: «Поставишь новичка на очистку лавного транспортёра». Когда спустились в лаву, бригадир сказал мне: «Смотри сынок, как пойдет уголь по этим рештакам, то часть его будет ссыпаться на забойную дорожку в лаву, вот твоя обязанность и состоит в том, чтобы этот уголь снова погрузить на рештаки, чтобы по всей длине транспортёра было чисто и порядок. Понял?» – «Понял Вас, Иван Варфаломеевич» – «Ну добро, оставайся с Богом, я пошел». Через некоторое время все пришло в движение, заработали ленточные транспортёры по уклону и включили лавный качающий привод. Вот и первые угли появились на рештаках. Они ползли плавным ходом и по мере очередного толчка, качающего приводы – двигались по рештачному ставу вниз, ссыпаясь на ленточный транспортер. Кое-где некоторые комочки угля падали с рештаков, я тут же их убирал. Эта работа на первых порах мне понравилась, никакой особой натуги не требовалось и на протяжении всего лавного транспортера была чистота и порядок, что от меня и требовал бригадир. В течение смены несколько раз все транспортёры останавливались, а через некоторое время опять заработали. Уголь шел и шел, как принято говорить у шахтеров «чулком», т.е. угольный поток не прерывался. Под конец смены пролез по лаве горный мастер Савченко. Внимательно просветил своим ручным светильником по всей длине транспортера, проверяя мою работу. Такие аккумуляторы носили надзорные лица, а у рабочих они были прикреплены к каске. Подошел ко мне и спрашивает: «Как дела?» – «Нормально», – отвечаю, – «Ты молодец, я не думал, что так хорошо справишься со своей работой, завтра на наряде получишь стахановских талон №1 (на него давали 200г хлеба и 50г американского сала)». В эти годы специально назначенная девушка, ходила по всем участкам и по списку раздавала эти талоны тем, кому их выписывали за перевыполнение плана.
Угольный поток стал слабее, теперь по рештакам вместе с углем шли обрубки от стоек и деревянные щепки. Это чистили свои забои забойщики. Вскоре появились огни – один за другим стали спускаться вниз по лаве вся бригада. Подошел ко мне бригадир и спросил: «Ну как дела, сынок?» – «Нормально!» – «Забирай свою лопату и пошли домой». Выключили лавный привод и один за другим легли на ленточный транспортер и выехали вверх по уклону на поверхность. Я следовал их примеру, так закончилась моя первая смена под землей. По выходу на поверхность, по шахтерскому говорят «на-гора» никто не торопился бежать в мойку, у каждого была своя заначка, где перед спуском в шахту были оставлены табак и спички. Как только достали курево, завернули козьи ножки, и дым повалил коромыслом. Дымили все, жадно затягивая во все легкие самосад, и потчевая один другого – попробуй мой табачок. У всех был свой, который выращивали возле дома, в огороде, ведь на черном рынке стакан табака стоил 50 руб. С собой под землю спички и табак никто не брал, курить в шахте строго запрещалось, за это отдавали под суд, если кого заметят. Т.к. шахта была свехкатегорийная по выделению газа метана и опасная по взрыву угольной пыли. Подобный урок уже однажды испытали на себе на этой шахте в 1936г. При взрыве газа метана были человеческие жертвы. Под землей, во время работы разговаривать между собою некогда, все торопятся, как можно быстрее выкинуть уголь со своего пая и закрепит ее. Работала вся забойная группа, в одних рубашках, которые на них не высыхала в течение всей смены, от пота была мокрая, хоть выжми. Теперь, сидя на вольном воздухе, покуривая свои козьи ножки, можно кое – о чем поговорить. Все были черные, словно негры, одни зубы и глаза блестели. Я с трудом узнавал их в таком виде – кто есть, кто. Накурившись досыта, поднялись и пошагали через гору в мойку, здесь расстояние было всего около 1км. В летнее время идти через гору одно удовольствие, по штольне ходили тогда, когда погода была ненастная и в зимнее время. После мойки забойщики отправлялись по домам, а мы одинокие в столовую, которая была расположена недалеко от комбината. В летнее время, резкий запах колбы (черемши) можно было учуять на приличное расстояние, т.к. ее жарили и парили, и чего только с ней не делали. Варили первое с колбой и на вторые блюда гарнир был с колбой. Это тяжелое время, продуктов выдавали в столовой мизерную долю, основной продукт была колба. Если бы не она милая, то многие гораздо раньше отправились бы на вечный покой. На заготовку её была направлена в тайгу специальная бригада, которая этим только и занималась. Её даже солили, заготавливали на зиму.



