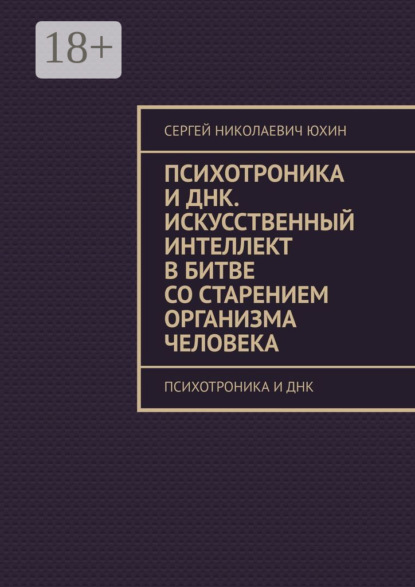
Полная версия:
Психотроника и днк. Искусственный интеллект в битве со старением организма человека. Психотроника и днк
Экспериментальные исследования показали, что кратковременное воздействие зрительного стимула приводит к сенсорным эффектам, достаточным для распознавания его значения. Информация о стимуле после его исчезновения сохраняется в первоначальной форме в течении от двухсот до четырёхсот мили секунд и может быть использована для выборочной обработки тех или иных ее частей. Это свойство центральной нервной системы было названо ультра кратковременной памятью. Зафиксированные в устройстве сенсорные эффекты образуют исходные данные для семантического кодирования. Процесс распознавания значений, занимает, по-видимому, больше времени, чем требуется для простой регистрации сенсорных воздействий, и его ресурсов хватает не более чем, на четыре – пять букв. Важно подчеркнуть, что критерии ориентирующие на распознавание семантики, в этом временном промежутке не работают.
Проанализируем, что же из этого следует?
Наличие информации о стимуле в первоначальной форме в течении двухсот – четырёхсот мили секунд говорит о наличии в бессознательном зрительного программного буфера для восприятия текстовой информации, емкость которого четыре – пять букв.
Сохранность информации говорит об осуществлении процедуры создания ее копии, с той целью, чтобы в процессе обработки ее исключить какое-либо повреждение (разрушение данных). В случае разрушения данных всегда есть возможность сделать еще одну копию.
Существующие возможности современных программных средств позволяют хранить в буфере несравненно больший объем текста. В этом компьютеры превосходят человека. Итак, согласно имеющимися и только частично рассмотренным данным, можно сделать следующие выводы:
Сенсорные воздействия зрительных стимулов в течение нескольких сот миллисекунд хранятся в центральной нервной системе в относительно неизмененной форме и могут быть подвергнуты дальнейшей обработке.
В процессе такой обработки последовательно выделяются сначала глобальные, а затем все более специфические, локальные признаки стимулов, что делает возможным обращение к хранимой в памяти информации, соответствующей воспринятому стимулу. С этого момента начинается собственно процесс кодирования в смысле распознавания значений.
Процесс кодирования может быть автоматическим или произвольно управляемым. Автоматические процессы имеют место в тех случаях, когда один и тот же стимул прочно связан с определенными реакциями. В противном случае выделение признаков может осуществляться в режиме управляемого поиска, который требует произвольно направленного внимания и может вызывать снижение эффективности кодирования при кратковременном предъявлении стимулов.
Автоматические процессы кодирования протекают параллельно и независимо друг от друга, управляемые же могут осуществляться параллельно только в рамках указанного ограничения и, следовательно, ведут к взаимному ослаблению.
Установленные зависимости кодирования зрительных стимулов справедливы и для кодирование звуковых стимулов: звуковой стимул также хранится в сенсорном регистре, элементы стимуляции могут оказывать свое воздействие еще до полного опознания и др.
Любой зрительный стимул, идет ли речь о рисунке, букве, слове, здании или фотографии, является в некотором смысле конфигурацией. С этой позиции поставлена задача выявления особенностей зрительного кодирования конфигураций. Под конфигурацией будем понимать статистический зрительный стимул рисунок, фотография, неподвижный трехмерный ландшафт, букву, плакат и т. д. Рассматривая кодирование таких стимулов, мы будем искать ответ на вопрос об особенностях признаков, обработка которых обеспечивает узнавание конфигураций. Подведем итоги: Распознавание зрительного стимула, а очевидно и стимулов других модальностей, происходит в бессознательном и лишь затем, уже в готовом, виде передается в соответствующий объект среды сознания.
Процессы распознавания осуществляются автоматически за счет технических возможностей нейронных сетей и отчасти, за счет вводимых поправок, вырабатываемых на основе логико-семантических связей, возникновение которых опять таки обусловлено нейронными сетями. То есть поправки являются вторичными.
Память, в той дефенции, как ее трактует психология, не соответствует действительности. Экспериментально показано наличие сенсорных буферов (регистров), выполняющих функции памяти. Логические необходимым является наличие буферной функции у различных модулей бессознательного для целей временного хранения данных, то есть на период их текущей обработки.
Целесообразно произвести моделирование процесса распознавания зрительных стимулов с использованием кодирования процесса распознавания.
Установленные зависимости кодирования зрительных стимулов справедливы и для кодирование звуковых стимулов: звуковой стимул также хранится в сенсорном регистре, элементы стимуляции могут оказывать свое воздействие еще до полного опознания и другое.
В эксперименте, при воспроизведении заученных предложений изменения в первоначальную форму предложений вносились тем чаще, чем больше была длительность хранения. При этом изменялась не только синтаксическая структура предложений, но и между элементами передаваемой ими информации устанавливались такие связи, которые отсутствовали в исходных предложениях. Очевидно, что в памяти репрезентируется не формальная структура воспринятого предложения, а его содержание. Это важный момент для понимания работы памяти. Анализируя его можно создать алгоритм стратегии семантического кодирования информации. На структуру субъективной реальности могут оказывать влияние самые различные особенности источника информация. Один из них – это формулировка вопроса. Формулировка вопроса оказывает влияние на последующее узнавание наглядного примера. Испытуемые вначале смотрели фильм о транспортно-дорожном происшествии, а затем отвечали на вопрос о скорости автомобилей, когда они врезались друг в друга, или когда они столкнулись. Использование экспериментатором при описании происшествия глаголов врезались или столкнулись, приводит к отчетливому изменению воспроизводимой информации. Испытуемые, для которых машины врезались друг в друга, при опросе через неделю чаще говорили, что они видели разбитое стекло, чем те, для кого машины только столкнулись, хотя в фильме не было никакого разбитого стекла.
И снова можно предположить, что реальная информация фильма и дополнительная информация, содержащаяся в вопросе, объединяются в памяти в семантическую единицу таким образом, что вербально индуцированное разбитое стекло ошибочно воспроизводится как увиденное. По-видимому, система (рабочее наименование психики) ожидает ввода информации с определенной логико-семантической основой. Это напоминает формат файлов конкретного программного приложения. Какой формат такая и реакция приложения. То же и здесь. Аберрация ожидаемой нормальной реакции системы (индивида) результат неправильного формата вводимых данных. Если такая ситуация реальна, что должны показать специально поставленные эксперименты, то тогда следует два нюанса: В эксперименте, при воспроизведении заученных предложений изменения в первоначальную форму предложений вносились тем чаще, чем больше была длительность хранения. При этом изменялась не только синтаксическая структура предложений, но и между элементами передаваемой ими информации устанавливались такие связи, которые отсутствовали в исходных предложениях. Очевидно, что в памяти репрезентируется не формальная структура воспринятого предложения, а его содержание. Это важный момент для понимания работы памяти. Анализируя его можно создать алгоритм стратегии семантического кодирования информации. На структуру субъективной реальности могут оказывать влияние самые различные особенности источника информация. Один из них – это формулировка вопроса. Формулировка вопроса оказывает влияние на последующее узнавание наглядного примера. Испытуемые вначале смотрели фильм о транспортно-дорожном происшествии, а затем отвечали на вопрос о скорости автомобилей, когда они врезались друг в друга, или когда они столкнулись.
Использование экспериментатором при описании происшествия глаголов врезались или столкнулись, приводит к отчетливому изменению воспроизводимой информации. Испытуемые, для которых машины врезались друг в друга, при опросе через неделю чаще говорили, что они видели разбитое стекло, чем те, для кого машины только столкнулись, хотя в фильме не было никакого разбитого стекла. И снова можно предположить, что реальная информация фильма и дополнительная информация, содержащаяся в вопросе, объединяются в памяти в семантическую единицу таким образом, что вербально индуцированное разбитое стекло ошибочно воспроизводится как увиденное. По-видимому, система (рабочее наименование психики) ожидает ввода информации с определенной логико-семантической основой. Это напоминает формат файлов конкретного программного приложения. Какой формат такая и реакция приложения. То же и здесь. Аберрация ожидаемой нормальной реакции системы (индивида) результат неправильного формата вводимых данных. Если такая ситуация реальна, что должны показать специально поставленные эксперименты, то тогда следует два нюанса: Способно ли сознание исследовать само себя? И если да, то, каким образом? Очевидно, что сама постановка этого вопроса говорит о возможности самопознания. Вероятно, что существует возможность абсолютного познания сознания своего источника бессознательного. Что для этого нужно сделать? Какие средства необходимы в решении этой задачи? Для того, чтобы ответить на эти вопросы важно понимать как эволюционировало общественное психическое. Сложный обмен данными между множеством локальных сознаний, создание новой информации группами совместно мыслящих субъектов и ряд других гносеологических процессов социального характера дают возможность эволюционировать общественному психическому.
Базовый уровень информационного роста цивилизации заключен в механизмах бессознательного конкретных людей. Безусловно, что только в деятельности субъект организует потребность в информации и насыщении себя ею. Вне деятельности информация для нейроструктуры субъекта просто не существует. Так уж мы устроены. Именно в деятельности субъект становится способным ставить различные задачи, одна из которых ориентирована на самопознание. Практически внешняя среда служит отражением внутренней среды индивида. Свое отражение во вне воспринимается индивидом как истинное знание о себе. Незыблемая повторяемость явлений становится закономерностью, постоянное подтверждение закономерности есть закон, закон есть реальность объективного мира, способ отражений отношений между материальными объектами. Это внешний способ самопознания человека. И он удачен. Иначе современной цивилизации не существовало бы вовсе. Анализ имеющейся литературы по проблеме искусственного интеллекта показал, что основные научные силы сконцентрированы в разработке биомашинного интерфейса и анализу естественного языка для его формализации с последующим применением в базах знаний и поисковых системах. Создание собственно искусственной психики является или слишком сложной задачей, или все же решаемой задачей в определенных научных кругах. В любом из этих случаев никаких сведений о построении именно искусственного интеллекта, как машинной психики, найдено не было. В доступной для изучения отечественной литературе по психологии работ направленных на выявление структуры сознания и его базиса бессознательного, как объектов имеющих структурную информационную организацию, функционирующих по сути как программный комплекс (операционная система) выявлено не было.
Нейрофизиологические данные экспериментов над животными по изучению памяти показали существование молекулярной основы хранения данных в цитоплазме клетки, в том числе с участием ДНК и РНК. Таким образом прежнее представление о обособленной роли невролеммы в поддержании информационных процессов оказывается поверхностным. Сложность нейрохимических исследований и невозможность использовать человека в эксперименте значительно ограничивают перспективу решения проблемы обработки информации в головном мозге. Тем не менее, становится понятно, что каждому структурному объекту среды сознания или бессознательного соответствует конкретная нейросеть. Бессознательное человека, образно говоря, есть тайна за семью печатями. Бессознательное является основой не только социального онтогенеза личности, но стимулирующим фактором эволюции общественного психического. Генетически детерминированные параметры нейросреды, достаточны для функционирования в ней личности как информационного образования. История человечества говорит прежде всего о факте эволюции общественного психического именно за счет вычислительных ресурсов бессознательного. Человек, как сознательное существо, стал способен поставить вопрос об истоках собственного Я. Достигнутый уровень исследования психики показывает наличие ее сложной организации. Социализация личности приводит к оторванности ее от ее физического носителя тела.
Душа – это ненаучное слово обозначает способность к ощущениям, которую обнаруживает у себя первая персона. Душа или сознание – это то, что отличает субъекта от «бездушной» вещи. Какое отношение эти понятия имеют к железу? Если это бездушная машина (что ещё требуется доказать или опровергнуть), а если это чувствующая машина (например, человек), то эти и другие атрибуты первой персоны могут характеризовать её переживания. Небольшая проблема состоит в том, что такие слова как «память», «интеллект», «чувствительность», и даже «желания» применяются в качестве технических терминов в отношении достаточно продвинутой техники. Ничего страшного в этом нет. Слова часто имеют несколько значений. Вы считаете эмоции объективным параметром управления?. Да. Эмоции – это чувства, которые испытывает ощущающее (т.е. обладающее сознанием) существо. Эмоции являются внутренними побудительными мотивами для того или другого поведения. Внешние (объективные) проявления эмоций – это уже фрагменты поведения, по которым мы судим
о наличии эмоций у субъекта. Источником эмоций могут быть состояние организма, химический состав, механические нагрузки и прочие объективные (измеряемые) вещи. Источниками эмоций могут быть и субъективные переживания, идеи. В обоих случаях – это некоторые «источники», причины, а не сами эмоции. Сами испытываемые эмоции не являются объективными «параметрами». Осознавание поступивших данных у человека наступает примерно через 0.2 ноль целых две сотых секунды, когда эти данные технически уже перешли в разряд «прошлого опыта» и глаз уже воспринимает новую информацию. У животных с менее развитым сознанием это время меньше, так как сигнал проходит через меньшее количество «ассоциативно важных» зон мозга прежде, чем будет выработана реакция или хотя бы осознавание этого сигнала.
Время реагирования самих колбочек 0.001 ноль целых одна тысячная секунды. Зрительное восприятие очень не похоже на анализ массива точек. Техническое качество сетчатки заметно уступает обычной видеокамере. Природа придумала саккадирование не для того, чтобы следить за «объектами» или за «отличиями от предыдущего кадра», а для того, чтобы повысить детальность восприятия при использовании ограниченного разрешения сетчатки. Эволюционно, зрение развилось, как дополнительное средство выживания.
Технически глаз тоже очень отличается от видеокамеры или фотоаппарата. Он скорее похож на сканирующий локатор. Поэтому традиционное распознавание изображения на «битмапе» не имеет ничего общего с нейробиологическим механизмом «узнавания». Сравните хотя бы число фоточувствительных элементов сто миллионов и число волокон глазного нерва один миллион у человека. Самая большая плотность колбочек и палочек имеется в области «глазной ямки» размером несколько миллиметров. Здесь расположено примерно триста на триста чувствительных элементов на один квадратный миллиметр. Это меньше, чем у обычных дисплеев. Но именно эта область сетчатки обеспечивает максимально резкое зрение на гораздо большей угловой площади, так как глаз совершает быстрые колебания (саккадирование) с углом около десяти градусов. Вот самые заметные отличия субъективного зрения от механического фиксирования изображения
Мы не видим «слепое пятно», но если бы на фотографии появилось «слепое пятно» площадью в тридцать процентов изображения, то оно воспринималось бы как явный дефект «зрения».
Глаз постоянно и очень быстро движется, так что перемещение головы при ходьбе или беге – это медленные движения по сравнению с собственным движением глазного яблока. Когда мы бежим нам всё же кажется, что здания и деревья вокруг нас остаются неподвижными. А попробуйте снимать эти здания быстро трясущейся видеокамерой!
Закройте глаза, и некоторое время вы будете помнить расположение предметов в общих чертах. А что будет помнить видеокамера, если закрыть объектив?
В обоих случаях окончательный смысл данным придаёт один и тот же человек. Отсюда следует, что конкретное устройство компьютера или мозга имеет довольно таки второстепенное значение. Важно только, чтобы эти устройства без особых искажений хранили и воспроизводили свои внутренние коды. А периферия (принтеры, руки, язык) должны однозначно преобразовывать внутренние коды в материальные символы. По моему мнению, ни в RAM, ни в мозге не требуется иерархическое хранение данных. Иерархия возникает на уровне интерфейса, а не на уровне памяти. Мозгу не требуется анализировать и классифицировать окружающий мир, сравнивать предметы или ориентироваться в пространстве. Его пространственное расположение относительно соседних частей человека никогда не меняется. А вот положение человека изменяется, и ему приходится ориентироваться в пространстве. Для этого в первую очередь используются свойства пространства, во вторую очередь – свойства органов восприятия и движения, и в третью очередь используется свойство мозга запоминать и воспроизводить нужные коды, для управления мышцами. Мозг, как и память компьютера, не имеет средств для распознавания физической природы источника данных. Этим он тоже похож на центральный процессор. Он принимает, перерабатывает, и выдаёт данные. Что является носителем мыслей? Носителем мысли у человека является ментальная составляющая бессознательного, которая в свою очередь соединена с мозгом. Считается, что тел в бессознательном восемь на самом деле их тринадцать. У каждого тела свой разум. Это большой раздел сознания, поэтому ограничимся этим. Мир стоит на пороге второго компьютерного века.
Новая технология, выходящая сейчас из лаборатории, начинает превращать компьютер из фантастически быстрой вычислительной машины в устройство, которое подражает человеческому процессу мышления, давая машинам способность рассуждать, производить суждения, и даже учиться. Уже этот «искусственный интеллект» выполняет задачи, которые когда-то думали, что под силу только человеческому интеллекту… КОМПЬЮТЕРЫ появились из глубин лабораторий, чтобы помочь писать, считать и играть дома и в офисе. Эти машины выполняют простые, повторяющиеся задачи, но машины, которые пока еще в лабораториях, делают намного больше. Исследователи искусственного интеллекта говорят, что компьютеры могут быть умными и с этим не соглашается все меньшее и меньшее количество людей. Чтобы понять наше будущее, мы должны понять, также ли невозможен искусственный интеллект, как полет на Луну. Думающие машины не обязаны походить на людей по форме, назначению, или умственным умениям. Действительно, некоторые системы искусственного интеллекта покажут немного черт умного дипломированного специалиста- гуманитария, но зато будут служить только как мощные машины для проектирования. Тем не менее, понимание как человеческий разум эволюционировал из бессознательной материи, прольет свет на то, как можно заставить машины думать. Разум, подобно другим формам порядка, эволюционировал путем вариации и отбора. Разум действует. Не нужно изучать скиннеровский бихевиоризм, чтобы понять важность поведения, включая внутреннее поведение, называемое мышлением. А как устроено мышление в целом и в чём заключается ошибка использования лучшего корреляционного приёмника Зигерта – Котельникова. Я хочу доказать, что этого недостаточно для моего проекта, начнём.
Способность мозга узнавать
Для случая передачи изображений, в теории информации развито представление об идеальном приемнике сигналов, который способен с наименьшими среднеквадратическими ошибками выделять сообщение на фоне шумов (здесь используется критерий минимума среднего риска). Такой наилучший приемник назван приемником Зигерта – Котельникова. Сходный подход заключен в идее корреляционного приемника, работа которого основана на вычислении интеграла функции корреляции входного и эталонного изображений и сравнении его с порогом. Разработано также теоретическое представление об оптимальном или согласованном фильтре или иначе – о фильтровом приемнике. В этом случае оказалось, что наилучший результат имеет место, когда частотная характеристика фильтра комплексно сопряжена со спектром входного изображения. Исследования показали [Красильников, тысяча девятьсот семьдесят шестой год], что все три приемника (Зигерта – Котельникова, корреляционный и фильтровой) при выделении изображений на фоне шумов дают принципиально одни и те же результаты, так как реализуют, в конце концов, одно и то же правило принятия решений.
Свойства идеальных приемников изображений были сопоставлены со свойствами всех потенциально применимых типов технических устройств. Выяснилось, что если сигналом является топологически упорядоченный двумерный массив информации (изображение или образ), то может быть назван только один класс устройств, позволяющий, в принципе, достичь идеала.
Таким устройством оказался голографический коррелятор, когда его частотная характеристика комплексно сопряжена со спектром принимаемого изображения. Именно такую частотную характеристику приобретает прибор в результате прямого Фурье-преобразования входного изображения, перемножения полученного Фурье-образа на Фурье-образ эталонного массива и обратного Фурье-преобразования. с учетом Фазовых соотношений. Другими словами, при передаче образов оптимальным фильтром, корреляционным приемником или приемником Зигерта – Котельникова теоретически наилучшим является устройство. Превысить его – невозможно. А какие свойства проявляет мозг человека? Специалисты по распознаванию образов исследовали человека так, как если бы он был автоматическим распознающим устройством. Результат оказался потрясающим! Опыты показали, что человек-наблюдатель проявляет свойства оптимального Фильтра и полностью реализует параметры идеальной распознающей системы. С точностью до погрешности эксперимента, свойства человека совпали с параметрами единственной в своем роде, теоретически наилучшей распознающей системы, каким способен быть только голографический коррелятор!
«При белом шуме человек-наблюдатель обеспечивает вероятности правильного опознавания зашумленных изображений, близкие к тем, которые обеспечивает приемник Зигерта – Котельникова… Человек- наблюдатель практически полностью реализует потенциальную разрешающую способность системы…» [Красильников, 1986] Какое-то время между специалистами не было единодушия в вопросе о том, какую роль в оптимальной фильтрации играет сетчатка глаза и какую – более высокие отделы мозга.
Чтобы ответить на этот вопрос, было исследовано восприятие изображений разного масштаба, построенных из небольшого числа дискретных элементов. Шум вводился путем хаотической замены некоторого числа черных элементов белыми и наоборот. При постоянных размерах зон суммации в сетчатке глаза (что обеспечивалось стабильностью освещения, расстояния до изображения и т.п.), вопреки изменению масштаба в 15 пятнадцать раз, неизменно наблюдалось усреднение шума по поверхности изображения (т.е. фильтрация помех), что указывало на фильтрацию не сетчаткой глаза, а более высокими отделами зрительной системы мозга. Об этом же говорила хорошая различимость шумовых пятен как на крупномасштабных, так и на мелкомасштабных изображениях, откуда следовало, что в данном эксперименте сетчаткой глаза шумовые пятна не усреднялись. Эти опыты дали еще один важный результат. Оказалось, что в зрительной системе человека компенсаторно происходит обмен между уровнем шума и площадью изображения [Красильников. 1986]. Это важно потому, что такой обмен возможен только в системах, осуществляющих оптимальную Фильтрацию! Примечание: Обмен заключается в том, что если одновременно увеличивать (или уменьшать) спектральную интенсивность шума и площадь изображения (соответственно, и число растровых элементов), то вероятность правильного опознавания его наблюдателем не изменится. Все эти данные могут интерпретироваться лишь одним способом – в мозге существует, по крайней мере, одна система, выполняющая преобразование Фурье, перемножающая Фурье-образ входного изображения на Фурье-образ эталонного сигнала и производящая обратное Фурье-преобразование с учетом фазовых соотношений. Сразу оговоримся, что из-за хаотичности нейронной структуры мозга невозможно представить себе вычисление двумерных преобразований Фурье по принципу «ассоциативной сети».



