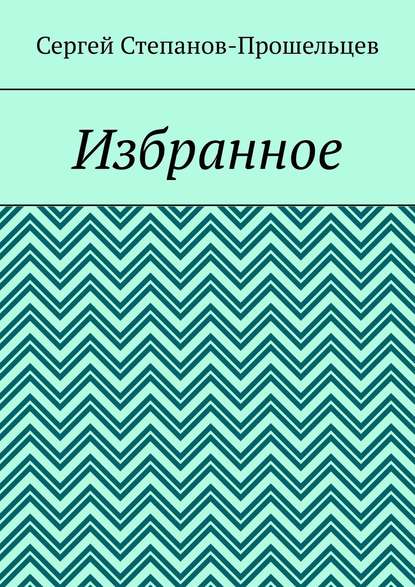
Полная версия:
Избранное
менялась у времени внешность.
Как будто бы мчало
оно меня в прошлую вечность.
Но всё! Не губи мой
остаток надежд на иное.
Прощай, нелюбимый,
ты будешь моею виною.
Забыть обещаю
я жизнь эту, как наважденье.
Тебя я прощаю,
а мне — мне не будет прощенья.
* * *
Журавли подают сигнал. Завтра, видно, дождик польёт.
Навсегда, прошу, навсегда ты запомни этот полёт!
Этот сумрак, что загустел, по уступам сырым скользя,
эту грусть расставанья с тем, что уже повторить нельзя.
Будет тихая смена дней, будет мир все так же велик,
но становится он бедней
на один журавлиный крик.
* * *
Молчанье призрачных высот…
В нём столько горького укора.
И сердце холод обдаёт
непостижимого простора.
Желтком яичницы – закат,
но с ним не радует свиданье:
как будто в том я виноват,
что ждёт Земля похолоданья,
что ветер выстудил жильё,
перечеркнув все краски тушью.
Не равнодушие ль моё
в ответ рождает равнодушье?
* * *
Всё смешалось, всё давно смешалось,
всё я в кучу общую свалил —
даже эту мелочную жалость
по словам несказанным своим.
Поменяю шило я на мыло,
будет жизнь — один сплошной вокзал.
Отчего, когда ты говорила,
я тебе ни слова не сказал?
Может, всё б не кончилось разладом?
А теперь ты, в общем-то, права:
ничего жалеть уже не надо,
только эти хмурые слова.
* * *
Пожилая, вся в чёрном, актриса,
ты теперь уже трижды вдова.
Балериною в день бенефиса
отрешённо порхает листва.
Жёлтый день. Чья-то скучная жалость.
Ручеек обесцвеченных слов.
Что теперь? Никого не осталось —
ни детей, ни друзей, ни врагов.
.
* * *
Ночь, как агат, черна, нет ни огня.
Ты у меня одна, ты у меня.
Сколько прощала мне горьких обид…
Вижу, как ты в окне плачешь навзрыд.
Вижу сквозь гущу лет твой силуэт,
но возвращенья нет
в то, чего нет.
* * *
Кресалом поздних туч октябрь зарницу высек,
равнины и холмы струей дождя омыв.
И ветер, как орган, звучит в погасших высях
посланником снегов, предвестником зимы.
И этот тихий звук – слабеющий, покорный,
как лист последний, вниз, из сумрака времен
планирует впотьмах на мягкий мох, на корни.
Крик раненой звезды.
Сиротский тихий стон.
* * *
В большой пустой квартире,
за спинки стульев взявшись
(не топятся котельные, все батареи — лёд),
произнесём вдруг страшные, беззвучные, озябшие
слова, и их значение до сердца не дойдёт.
Как быстро все меняется! Во все души излучины
слова втекали радостью, и каждый верил им.
Стоим. Слегка растерянно. Но, вероятно, к лучшему,
что всё не так случается, как мы того хотим.
Так холодно на улице! Весна – вот удивительно.
Откуда-то из Арктики пришел антициклон.
Но не питай иллюзии: закончен отопительный,
да вот теперь закончился и наш с тобой сезон.
И не ищи тут логики. Осмысливать — излишнее.
С бедой мы расквитаемся, но вот какой ценой?
Разгадка в том, что знали мы, что знали только личное,
увы, местоимение из буквы из одной.
Почувствуем, наверное, как время это тянется,
и пусть порой по-первости не обойтись без слёз,
давай хоть для приличия с достоинством расстанемся,
давай с тобой придумаем, что виноват мороз.
* * *
Пора эта скоро нагрянет,
надежно прилепит она
дождя языками багрянец,
как марку, к конверту окна.
Осенняя авиапочта
расскажет, что лес поредел,
но надо ль грустить оттого, что
все в мире имеет предел?
Природа не просит прощенья
у листьев, что мчатся гурьбой.
Не в том ли секрет обновленья,
что жертвовать надо собой?
* * *
Вспыхнет яркий фонарь над пролетом моста,
и опять темнота обнимает восток.
Бестолковая жизнь. Суета. Маета.
Только время шумит, словно горный поток.
Только время… Его непонятен нам ход:
зазевался – уже никогда не настичь.
Так охотник в засаде, невидимый, ждёт,
но прицелится – с места срывается дичь.
А вокруг – тишины голубое сукно.
Спит в берданке клубочком свернувшийся гром.
И уже не догнать, и уже всё равно,
если ты опоздал, что случится потом.
.
* * *
В сарае пахло кизяком,
а всё вокруг цвело и пело.
Не в силах шевельнуть хвостом,
он помирал — пора приспела.
Гудела в жёлобе вода.
Мир шумно жил, вращался плавно.
И словно лилия, на плавни
спускалась белая звезда.
И было страшно помирать,
и было уходить нелепо,
когда вокруг такое лето,
когда такая благодать.
Лермонтов в Пятигорске
Мохнатою тучей сокрыт Эльборус,
сливаются дождь и целебные воды.
Да здравствует этот священный союз —
союз вдохновения и непогоды!
Блаженство и муку, любовь и тоску
вбирает тот миг, что сомкнется, как омут,
когда не вмещается слово в строку
и тут же становится голосом грома.
Обнять бы весь мир, что безбрежно велик,
рожденный из пламени, ветра и хмари,
когда открывается истины лик
в лиловом мерцании пляшущих марев!
Обнять бы все эти деревья в цвету,
все молнии мая, все весны и зимы,
чтоб выразить дивную ту красоту,
которая, в общем-то, невыразима!
И — всё. Нет желаний других. Лишь одно.
Лишь только тумана цветастые шали,
да крупные капли, что моют окно,
как слёзы утраты, как слёзы печали.
.
* * *
Мчат трамваи с горочки, огибая сад…
Обжигает горечью твой нездешний взгляд.
Постоим под вербами. В общем, ты права:
раньше мы не верили в горькие слова.
Раньше и не думали мы о них всерьез,
а теперь их сдунуло, как листву с берез.
Поздно. Воскресение. Развели мосты…
Горькие, осенние, желтые цветы.
Какая логика нужна, чтоб сердцу объяснить всё это?..
* * *
Треугольник. Как в дешёвой драме.
Я в ней просто некий аноним.
Тот, другой, спешит к тебе с цветами,
ну а ты спешишь расстаться с ним.
Но пойми: он – вовсе не обманщик.
Без тебя не проживет и дня.
Отчего не выбрала ты раньше?
Отчего ты выбрала меня?
Тот, другой… Он выглядит неплохо —
до него мне словно до луны:
точно пень, я обрастаю мохом
с северной холодной стороны.
Не считай, что это чьи-то козни —
будущее скрыто пеленой.
С каждым днем я становлюсь несносней,
как старик, капризный и больной.
Будет без меня совсем вольготно,
увезет тебя к нему трамвай…
Ты его не знаешь подноготной,
лучше никогда не узнавай.
* * *
Я соврал, что к тебе заглянул по пути —
битый час под дождем сиротливо я мок,
и к тебе я прощаться пришел, ты прости,
не сердись, но иначе я просто не мог.
Я, остриженный наголо, кепочку снял
(парикмахер меня округлил в аккурат),
но смотрела ты в сторону, мимо меня,
и спокойным был твой
невнимательный взгляд.
Твои губы…
Зачем они так холодны?
На лице твоем бледность от частых ангин…
И, наверно, ты знала давно, что должны
мы расстаться вот так – ни друзья, ни враги.
Я молчал. Да и ты промолчала в ответ,
отвернувшись. Я хмур был, обижен и зол.
А когда уходил, ты смотрела мне вслед,
удивляясь тому, что к тебе я пришёл.
* * *
Вот скажи теперь: на шута,
в то мгновенье, когда не ждешь,
мне слова твои нашептал
шифровальщик-дождь?
И проник сюда без помех,
я его совсем не искал —
твой далекий несмелый смех,
льдинка так звенит о бокал.
И твой голос – он вдруг поник,
точно мак, – ему не ожить.
И сменяется смех на крик,
на обиды твоей ножи.
А теперь и обид тех нет,
память высохла, как горбыль.
И не дождь уже – только снег,
только ветер несёт судьбы.
Ждал тебя на свою беду,
будто лучик звезды, но лишь
ты похожа тем на звезду,
что ночью горишь.
Мария Стюарт
1.
Дабы исполнить царственный каприз,
придворный плотник ночью портил зренье.
Как кость собака, он мундштук изгрыз
над чертежами странного строенья.
Он подмастерью метил в зубы, лют,
кряхтел, обильным потом обливался
не для того, чтоб всякий темный люд
работою его полюбовался.
Неласковый морщинистый старик,
сменивший аркебузу на рубанок,
он эшафот как памятник воздвиг —
во славу сановитых интриганок.
Он, как другие, в эту ночь не ждал,
что до утра погаснет пламя гнева:
нет ничего ужасней, чем вражда
завистниц, если обе — королевы!
2.
И час настал. И вздрогнула земля.
Заря взошла над замком и пекарней.
Нет месяца промозглей февраля
в Британии, нет месяца коварней.
Ещё листва не облетела с лип,
и узница стояла в платье чёрном
и слушала ступеней грузный скрип,
что умножался эхом коридорным.
Крутнулся ключ в заржавленном замке,
и, счет шагов заканчивая краткий,
она брела, зажав в своей руке
багряный лист, подобранный украдкой.
И этот ветром сорванный листок,
что, дымом став, с Путем сольется Млечным,
ей озлобленье побороть помог
и жаркий страх перед безмолвьем вечным.
И в ту секунду, позабыв про гнев,
как забывают о природе риска,
одна из всех на свете королев,
она народу поклонилась низко.
И так прекрасен был души порыв,
и чувство это было так безбрежно,
что, голову на плаху опустив,
она внезапно улыбнулась нежно.
А для другой, не отводившей взор,
похожей на старушку-белошвею,
была улыбка эта, как топор,
который рубит собственную шею.
* * *
Откуда я всё это знал? Ведь был я не пророк.
Откуда, из какого сна я это всё извлёк?
А это и не сон уже, а так – сплошной обман,
и сверху белое драже швыряет в нас зима.
Обман надёжно скрыт в словах, он – мутная вода…
Я что-то навсегда сломал, не верилось когда.
Обман – как душный сеновал, а явь – простор мечтам,
когда, как речка, синева в глаза впадала нам.
Но всё пошло вперекувыр, всё стало вдруг не то,
ведь в чём был тот обман, увы, не знал из нас никто.
Нет, я нисколько не позёр, но тут такой загиб,
что лучше пережить позор, ведь мы теперь – враги.
Враги… Я этому не рад, но это не сказал.
Враги, когда отводим взгляд, чтоб не глядеть в глаза.
Враги – когда прощенья ждешь, но мир недостижим.
Враги – когда мы верим в ложь, а правду говорим.
* * *
У разрушенного здания,
где крапивы урожай,
я промямлил: «До свидания»,
не сказал тогда: «Прощай!».
Паренек смазливой внешности,
я не знал, что не смогу
стать заложником у вечности,
быть всегда у ней в долгу.
* * *
Увезу тебя в лето, но это сосем не блицкриг.
Время – опытный лекарь, оно тебя вылечит вмиг.
Здесь колючие ости беды, что махрово цвела,
здесь январь расчехвостил остатки былого тепла.
Здесь коростою лепры покрыты сугробы души…
Увезу тебя в лето от лютых морозов-душил.
Здесь противно и тошно и вольная жизнь на кону.
Увезу тебя в то, что не снилось еще никому.
Я хвалиться не стану, и ты не одобришь меня:
тут звучит беспрестанно мелодия летнего дня.
Это вовсе не лишне, не сон это вовсе, а явь…
Ну, а если не слышно, в наушниках громкость прибавь.
* * *
Конечно, мы её не ждём, и пояс не затянем туже.
Когда беда приходит в дом, то это наводненья хуже.
И что-то схватывает грудь, радикулит какой-то шейный…
И невозможно обмануть себя словами утешенья.
Какого же теперь рожна опять не сплю я до рассвета?
Какая логика нужна,
чтоб сердцу объяснить всё это?
Эта степь ровна, как доска…
Осенний призыв
Этот поезд летит, словно крик, что сорвался с откоса
вместе с гаснущим эхом, и вовсе неведомо нам,
что с ликующим лязгом его проезжают колёса
по клубничной душе, оставляя уродливый шрам.
Будет время, которым не надо, наверно, гордиться
и не надо ссылаться на этот неправильный год,
потому что свободны лишь облако в небе, да птицы,
если только стихия парение их не прервёт.
Не спасут ордена и наличие царственных лысин,
седина на висках — вряд ли что-нибудь выручит нас
от ухабов судьбы каждый в степени равной зависим:
есть закон тяготенья, закон притяжения масс.
За окном тополя оскелетил прожорливый хищник,
что зовут ноябрём, полузимник морозит уже,
и последний привет от тепла так коварно похищен,
что уже всё равно, что случится на том вираже.
* * *
Зелёные, в охру ныряют вагоны,
слегка на пригорке замедлив свой гон.
Ну, вот и отлично. Уже не догонишь,
хоть сел я – ты знаешь – в последний вагон.
Но ты не простила. Любовь пролетела.
Навряд ли себя понимали самих
в ту осень с тобой мы. И нет тебе дела
до тамбурных этих бессонниц моих.
И только тревога над кронами сосен,
срываясь последним промокшим листом,
преследует поезд. Как ветер. Как осень.
И кто его знает, что будет потом.
* * *
На гражданке еще продолжается лето,
на цветах стынут капли прозрачных росинок.
Здесь песок да такыры. И, кажется, нету
ощущенья того, что ты связан с Россией.
Дни – тяжелые камни, что бухают оземь.
Служба в армии – жесть, врут Кобзон и Ошанин.
Принесло это лето холодную осень, —
невеселую осень коротких прощаний.
Мы искали друг друга, расстались нелепо,
в подворотнях булыжных извилистых улиц…
Ну да ладно, пускай не вернётся то лето,
пусть вернется не к нам – к нам надежды вернулись.
* * *
Четвёртый месяц, четвёртый месяц
скучаем мы без осин и липок.
Четвёртый месяц подошвы месят
суглинок – он, как замазка, липок,
Как знамя, ветер над степью реет.
Мы вспоминаем гораздо реже
про откровенья друзей-деревьев,
про шелест трав и калитки скрежет.
Взвод засыпает. Спокойны лица,
а завтра – стрельбы и марши снова.
Пусть душной ночью опять приснится
целебный сумрак лесов сосновых.
Письмо домой
Я понял: мы повзрослели ровно на эту степь,
на вьюжный ее порядок и майский ее бедлам,
на этот тяжелый ветер,
что бьет сильней, чем кастет,
на эти луны ладони, что гладят нас по ночам.
Песок проникает всюду, как марганцовка бур.
Его обнимает вечность —
серей, чем расплав свинца.
И времени не хватает посетовать на судьбу.
Спасибо, что было трудно.
Мы выдержим. До конца.
* * *
Я от зноя звенящего слеп,
от безводья, как дерево, чах.
Как в духовке поджаренный хлеб,
под ногами хрустел солончак.
Солнца свет краски яркие стёр:
видел я только облачный дым,
да немыслимый желтый простор,
охраняемым ветром одним.
Я ложился, безмерно устав,
к саксаулу, что медленно сох,
и учился терпенью у трав,
пробивающих ржавый песок.
То терпенье я долго копил,
чтоб пройти буераки и рвы —
ведь у всех нас немеряно сил,
как у той безымянной травы.
Запевала
Меня ничуть не забавляло —
я интервал держал в строю, —
когда наш ротный запевала
работу начинал свою.
Рязанский парень здоровенный,
во цвете сил, во цвете лет,
он гаркал так проникновенно,
что зябко вздрагивал сосед.
Серьёзнее не зная дела,
он был, мелодией влеком,
сосредоточен до предела,
как рекордсмен перед прыжком.
Во власти этого порыва
не замечал наш первый взвод,
как открывался некрасиво
его широкогубый рот.
И как-то не хватало духу
признать, хотя и был резон,
что, в общем, абсолютным слухом
он был, увы, не наделён.
Взлетала песня в поднебесье
и заглушала в сердце грусть.
И эту строевую песню
вся рота знала наизусть.
Наказ дембелям
Кому – чемодан, а кому… Наше время кемарит.
Ещё нам три года носить сапоги и шинели.
– Привет передайте деревьям, траве и… Тамаре —
девчонке, глаза у которой апрелем синели.
Что скажет она? Ну, об этом, наверно, отдельно.
Забот у неё… Надо зонтик забрать из починки,
поскольку дожди… А здесь так не хватает дождей нам,
в пустыне, где ветер никак не сочтет все песчинки!
Мы тоже уедем. И пусть это будет нескоро,
тем радостней встреча. Собаки охрипнут от лая.
И девочка эта посмотрит и скажет с укором:
«Ну, знаешь, так долго еще никого не ждала я».
* * *
Это ночь летит над тобой, звезды дымом опеленав.
Это ветер пахнул травой, что, как рысий глаз, зелена.
Слушай птичью робкую трель. Листья первым дождем омыв,
вновь неистовствует апрель, как в большом бурдюке кумыс.
Будут ветки хлестать лицо, ветер встретишь в пути своём —
самым быстрым из жеребцов не догнать его нипочём.
Лишь одна голубая стынь, лишь простор неземных высот…
Ароматнее спелых дынь
будет ветер полынный тот.
Колыбельная рядовому запаса
Ты дома. Всё чин по чину.
Ложишься в постель. Отбой!
Спи, мальчик! Ты был мужчиной,
побудь же теперь собой.
Пускай тебе реже снится,
как месяц тому назад
огромной хвостатой птицей
летел над тобой закат.
Там день наполнялся зноем,
сражающим наповал,
который ещё весною
все травы испепелял.
Но в местности той пустынной
растут теперь деревца…
Спи, мальчик! Ты был мужчиной,
останься им до конца.
* * *
Эта степь ровна, как доска:
ни юрты, ни кустика, ни леска,
лишь только на спинах горячих скал
ветер покачивает облака.
Мы в крае ином родились, росли,
и вот по пустыне идём, пыля.
Нету страшнее этой земли,
но это всё-таки наша земля.
Вся в шрамах, вся в трещинах рваных ран,
такыры, колючки и ковыли…
Призывно свистит на юру варан —
всесильный хозяин этой земли.
И мы охраняем её покой,
и эта земля, как приёмная мать,
тянется к нам саксаульей рукой,
словно пытаясь обнять…
У каждого есть свой собственный дом, а у него – степь…
* * *
Тот барак именовался: «Баня»,
но обман всё это на обмане:
нечем вовсе отмывать салаг —
мы ещё тогда совсем не знали,
что вода здесь только привозная,
что она – любых дороже благ.
Мы не знали то, что с нею тяжко,
что её положено полфляжки
и что пахнет хлоркою она,
что мы будем жить зимой в палатке,
а с зимы, известно, взятки гладки:
нет тепла – то не её вина.
Нам не отогреться до июля,
когда мухи носятся, как пули,
когда пот стекает в сапоги,
но тогда внезапно станет ясно,
почему так в мире всё контрастно:
потому, что мы ему – враги.
Но враги ли? По большому счёту,
мы его не посылали к чёрту,
и совсем не замышляли месть.
Да, он запрещает самостийность,
но, проверив нас на совместимость
он признал: она как будто есть.
Я ему признателен за это:
за испепеляющее лето,
что в буран не видно ничего,
что в степном и вьюжном Казахстане
мы однажды все, наверно, станем,
пусть слегка – похожи на него.
* * *
Здесь в мае еще зелена трава,
парят над ней высоко орлы.
Как будто мельничьи жернова,
крылья их тяжелы.
Древние русла высохших рек.
Сокровищ любых здесь дороже вода…
Но однажды сюда пришёл человек
и остался здесь навсегда.
Он землю пахал и скот свой пас,
задумывал тысячу тысяч дел.
И был у него слегка узок глаз
оттого, что на солнце, щурясь, глядел.
Он шел, как будто кем-то ведом,
следов на песке оставалась цепь.
У каждого есть свой собственный дом,
а у него – степь.
Она для него – сестра и мать,
и он, даря ей тепло своё,
с полуслова может её понимать,
с полуветра – голос её.
* * *
Тот край давно рассадник ишемий —
вмиг захвораешь, если ты неловок.
Застыла степь в объятьях тишины
лисою, что в охоте на полёвок.
Открыт ветрам чернеющий угор,
простор ошеломительный, бескрайный.
Пусть этот мир, как нищий, рван и гол —
не в этом ли естественность и тайна?
Здесь столько дней расплющено зазря,
на времени безумной наковальне.
Окраина. Бесплодная земля,
а вместе с тем загадка вековая.
Здесь выцвела небес голубизна
и, говорят, недалеко от ада.
Я здесь, признаться, даже и не знал,
что выжить можно, если очень надо.
* * *
Во все стороны разлеглась
степь – вместить её взгляд не мог, —
и такая густая грязь,
что нельзя отодрать сапог.
И такая в ней скрыта грусть,
что она, сердца бередя,
маринуется, словно груздь,
в маринаде крутом дождя.
Ни фундамента нет, ни стен,
но постройки здесь не нужны,
словно эта пустая степь —
исправление кривизны.
Жажда
Привозная вода – по полфляжки на брата,
отдаёт керосином… Дела здесь такие.
Ключевую – её хоть в пригоршню набрать бы,
только нет здесь ключей — солончак да такыры.
Солнце вытопит сок из колючки верблюжьей,
как ковыль, от палящего зноя шатает.
Вроде некуда дальше. Что может быть хуже?
Но похуже — песчаные ветры-шайтаны.
Замотаю лицо. Я нисколько не струшу,
если воздуха нет, если я умираю,
когда словно гвоздями царапает душу
этот жёлтый песок без конца и без края.
Сколько пройдено тут – в свой расчёт не бери ты:
я вернуться живым совершенно не чаял.
Сколько надо ещё мне плутать лабиринтом,
лабиринтом судьбы, возвращаясь в начало?
Но мне верится: счастья найду я подкову,
хоть и мучаюсь я, как без вылета птица,
этой вечною жаждой чего-то такого,
что должно обязательно в жизни случиться.
И растает тревога расплывами воска,
и в цивильную койку однажды я лягу…
Где же ты задержалась в пути, водовозка,
с исцеляющей душу живительной влагой?
* * *
Раздвину времени я поля,
чтоб вновь испытать восторг.
Ромашковой головой полян
уткнётся мне в грудь простор.
Ковыль, типчак и гусиный лук —
я это всё постигал.
Летит, чагравая*, как тузлук,
ленивая пустельга.
И этот воздух — упругий, как
сайгачий большой прыжок,
и толстый вылинявший байбак
чего-то ждёт, напряжён…
Чего хочу я? Да лишь того,
чтобы не видеть крыш,
чтобы со всех четырех сторон
мир был, словно степь, открыт.
Чтобы я музыкой той дышал,
где не слыхать гудки,
чтобы летела моя душа
с ветром вперегонки.
* Чагравая – бурая.
Саксаул
Не верилось мне, что была изощрённая месть —
нелепый расклад обернулся совсем не прогулкой.
Я спички жевал, потому что хотелось мне есть,
хотелось курить, да вот не было даже окурка.
Я шёл за водой, только я заблудился в степи,
глазел не туда, а смотреть было нужно мне в оба.
И вот я сижу, непослушные руки сцепив,
провялен на солнце как будто туркменская вобла.
Чуток отдохну и продолжу безумный загул.
Я выжить хочу – цель теперь я свою обозначу.
Но что это? Чудо! Здесь чёрный растёт саксаул,



