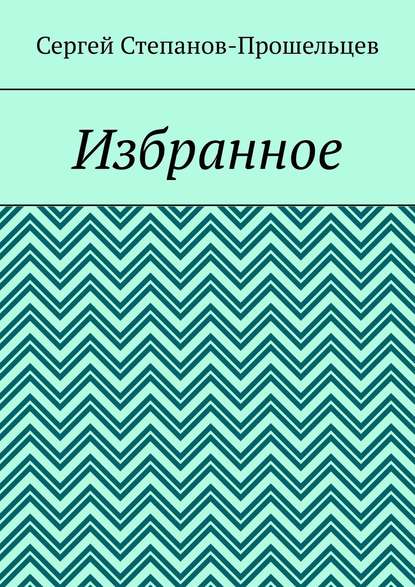
Полная версия:
Избранное

Избранное
Сергей Степанов-Прошельцев
© Сергей Степанов-Прошельцев, 2019
ISBN 978-5-0050-7401-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СТРАНА БОЛЬШИХ ПОЛЯН
Наша жизнь далека от схемы
* * *
Пробежит проныра-ветер, предвещая снова грозы.
Проплывёт по дюнам вечер и застынет тёплой бронзой.
И закроет солнце туча, гневом летних молний пыша…
У меня такая участь – прочитать, что небо пишет.
У него душа не злая, дождик мучит одинокость.
Он на землю посылает свою искреннюю мокрость.
Эти тоненькие струи говорят о чём-то важном…
Знаю я, что расшифрую эту клинопись однажды.
Дорожники
Я работаю и не ною – так велела моя душа.
И покряхтывает от зноя повидавший виды большак.
Самосвалы ссыпают гравий, оглашённо мотор ревёт…
Не укладывается в график запланированный ремонт.
Перебои в поставках часто – они были до нас давно,
и мы кроем вовсю начальство, хоть виной всему не оно.
Кроем дружно мы всю систему, и теперь понимаю я:
наша жизнь далека от схемы планомерного бытия.
Я по фене ещё не ботал, да вот ботаю в унисон.
И от этой тупой работы, как мешки, мы валимся в сон.
Над бытовкой блажит синица, разлетаются облака,
и асфальт почему-то снится, непросохший ещё слегка.
* * *
Земля – это маленький остров,
но манит нас звездный причал.
Найти во Вселенной не просто
каких-то разумных начал.
Но мы, позабыв о насущном,
уверены: в логове тьмы
есть кто-то, какая-то сущность,
что думает так же, как мы.
И так же вздыхает ночами,
и видит, как прежде, одно:
лишь ровное зыбкое пламя
миров, что остыли давно.
* * *
Любовь нельзя измерить, коль в ней наплыв огня…
Разлука – не измена, не осуждай меня.
Что мне с собой поделать? Я в небо рвусь опять.
К небесному приделу не надо ревновать.
Лечу в пространстве полом, чтоб, нагостившись всласть,
в траву на летном поле росистую упасть.
Нежнее нет свиданья, дозволь тебя обнять…
Так после расставанья приходит к сыну мать.
* * *
Свет утра расплывчат и жидок,
он льётся по белым холмам.
Холодные губы снежинок
к моим прикоснутся губам.
Мы так же всё время рискуем
растаять в редеющей мгле,
прощальным скрепив поцелуем
любовь нашу к этой земле.
* * *
Был чист тот вечер, как родник,
в осинность рощицы опущенный:
листва нависла над опушкою,
как рыжий лисий воротник.
Был чист тот вечер, как родник.
И мягок был зелёный мох.
И что-то мы вдыхали с ветром.
И шляпой старою из фетра
туман на землю рядом лёг.
Я это выдумать не мог.
Он плыл, стекая, как гуашь,
и обнимал листвой летящею.
Совсем уже по-настоящему
входил октябрь, как видно, в раж.
Такой нечаянный витраж.
* * *
Мы все усложнили. Мы любим – и то на бегу.
Враждуем, взрослеем – и всё это так торопливо.
А время несётся – сквозь радость и нашу беду,
и, может быть, только мгновенье осталось до взрыва.
И мысли ещё в поднебесье порою парят.
Устойчиво всё. И не рушатся мифы и стены.
Как поезд курьерский, на всех своих мчится парах
неведомый гость из какой-то враждебной системы.
Материя смертна. Вселенная мрака полна,
и разум бессилен измерить её протяженье.
Начала ей нет – ведь у бездны не может быть дна:
в ней царствует хаос, в ней вечно лишь только движенье.
Но кто-то пророчит: минуют века и века,
и все повторится, и к атому сложится атом,
и вновь мы родимся – из трав и тычинок цветка,
из пламени плазмы – такими, как были когда-то.
Так верить заманчиво в этот далёкий повтор,
в рожденье из пекла сверхновых, из ядерной топки,
в бессмертье Земли, её рек, водопадов и гор
и в нашу вторичность, что нам обеспечат потомки.
Мы будем другими. Мы будем умнее в сто крат.
Мы штурмом возьмем запредельно-секретные зоны.
Но память… Наверное, гены её сохранят —
так помнят о рыбах и птицах людей эмбрионы.
Но кажется мне, что иллюзия этот прогноз.
Стреляет ружье, что на вешалке пыль собирало.
На кнопку нажал – и эпоха летит под откос,
как поезд, который корёжит заряд аммонала.
Слова единственные, те
* * *
В нашей жизни много спорного,
не понять порой всего,
не достиг я, видно, полного
пониманья твоего.
Стало тошно – впору вешаться,
я до крайности был зол
и ушёл в тайгу медвежиться
и берложиться ушёл.
На поляне спела ягода,
был цветенья карнавал…
Вместе с сойкой, птичьей ябедой,
я и вправду горевал.
Там, у счастья за обочиной,
где мы с ней совсем одни,
вспоминал я озабоченно
все потерянные дни.
Забывал, что ты – попутчица,
что сошла на вираже…
Забывал, да не получится,
не получится уже.
* * *
Было ли это? Похоже, было:
это случается лишь весной,
и девочка, что не меня любила,
сидела в беседке рядом со мной.
Она смотрела с такой досадой:
никто такого совсем не ждал!
Только вот голос ночного сада
в чем-то обратном нас убеждал.
Впрочем, признаюсь: на самом деле
в этом весеннем саду вдвоём
просто на звезды мы вместе глядели,
просто думали о своём.
Просто дурманяще пахла вишня,
я отвечал, как всегда, невпопад.
Просто всё это нечаянно вышло —
вряд ли тут кто-нибудь виноват.
Надо ль винить те глаза, что шире
неба и синие, как финифть?
Можно ли эти глаза большие
в чём-то когда-нибудь обвинить?
* * *
Бурлит вокруг людской поток —
режим обычный выходных…
Все объяснения потом,
нам совершенно не до них.
Зачем гадать, что впереди?
От мыслей пухнет голова.
Сегодня, видно, не найти
ненарушимые слова.
Прости меня, что я бегу
и ты, пожалуйста, не мсти
за то, что больше не могу
меня с покоем совместить.
И вот – обшарпанный вокзал,
и вот – на полке мой рюкзак…
Я, что не сказано, сказал,
ты это видела в глазах.
Разгонит ветер чесучу
туч над щербатою горой,
и то, о чём я промолчу,
осенней вспомнится порой.
Когда придавит нас мешком
мечта несбывшегося сна,
когда покажется смешной
воздушных замков крутизна.
Пусть это будет дань мечте,
шепни в ушедшие года
слова – единственные, те,
что не услышать никогда.
Батый в Рязани
Как дождь, копыта коней стучат,
закрыла солнце густая хмарь.
Протяжно охнув, умолк набат —
стрелой калёной сражен звонарь.
В руинах церковь, в глубоком рву
собаки трупы зубами рвут.
Как снега хлопья, — беззвучно, без-
участно — пепел летит с небес…
О Русь! Ты стрелы из сердца вынь!
Не скоро этот забыть охул:
виски полей серебрит ковыль —
совсем забыли они соху.
Смолистым ветром шумят костры,
в котле дымится бараний плов.
Под гребень копий мечом отстриг
хан много русых лихих голов.
Кривит улыбка надменный рот:
«Детей в огонь! Истребить весь род!
Оставить угли да пепел лишь…».
Но Русь восстанет из пепелищ!
Великий воин, батыр Бату,
развеет время твою мечту.
Среди развалин сквозь тлен и прах
пробьются острые пики трав,
и встанет город на трёх холмах —
прекрасен, строен и величав.
Скорей рассейся, ночная мгла,
чтоб мир услышал (он так озяб),
как дружно грянут колокола —
ликуя, плача, ещё грозя.
Бессмертна храбрость. Бессильна смерть,
когда, не зная других забот,
победно льется густая медь
потоком шалым весенних вод.
* * *
Огней и бликов чехарда, стоянка – пять минут.
Но есть такие поезда, которые не ждут.
Они идут все дни в году, их график напряжён.
Чуть зазевался – на ходу уже не сесть в вагон.
Большой привет! Гремит состав, и остаёшься ты,
ещё совсем не осознав своей большой беды.
Беда! Пусть дни забот полны, ты проигрался в дым:
в тебе засел синдром вины перед собой самим.
Но эту жизнь ты выбрал сам, себе назначив суд.
Как будто жил ты по часам,
что вечно отстают.
* * *
— Останься!
Но поезд трогает, перроны бегут назад.
Не надо смотреть так строго: тебя выдают глаза.
Читаю я в них: «Ну что же уставился, как баран?
Еще не поздно, Сережа, в вагоне сорвать стоп-кран.
Ещё твой путь неопознан, он пройден всего на треть.
Ещё ничего не поздно — даже и умереть…».
А я, на подножке стоя, от смерти не жду вестей,
раздавленный пустотою бессмысленных скоростей.
* * *
В этом городе старом не сыщешь ты отчего дома —
там приём стеклотары, тебе не окажут приёма.
Всё здесь напрочь забыто, раздолье лишь ветру да веткам.
И крест-накрест забито окошко с наличником ветхим.
Не шумят домочадцы – лишь вкрадчивость осени лисья.
И на крышу садятся, как письма из прошлого, листья.
Но печали не нужно. Ты знаешь: не сбыться надежде,
в этом городе южном все будет иначе, чем прежде.
Ветер бронзой и медью посыплет по строгим аллеям.
В этот город мы едем,
чтоб стало понятно: взрослеем…
* * *
– Как имя твое, скажи мне?
– Но тут ни при чём слова —
тут голос задиры-грома,
апрельская синева,
капель, что дырявит вёдра,
оживший от спячки дом
и радостная собака,
виляющая хвостом.
И ночь. И вздыхают клёны,
друг друга нежно обвив…
Наречье лесов и ветра,
горячий язык любви.
* * *
Цвет измены жёлтый. Мальвы у порога.
Ты меня не встретишь? Не суди так строго.
Жил я, как придется, не имея дома, —
от аэродрома до аэродрома.
А теперь умчалась шалых дней орава…
Нет дурманней зелья, слаще нет отравы,
ничего нет лучше этой светлой доли —
быть с тобою вместе до последней боли.
* * *
Стрелял ты, но промазал — ты был плохой стрелок.
Ты целил в свою память, но получил счета.
Ты их вдвойне окупишь бессонницей тревог,
и все твои потери – тем первым не чета.
Тогда с откоса в речку ты камешки пулял,
лежал среди ромашек, вдыхал их аромат.
Теперь ты забываешь страну больших полян
среди полян асфальта у каменных громад.
Будь проклята разлука! И не поёт рожок.
Здесь магазин какой-то, торгующий бельём.
Зачем же эту память так сердце бережёт?
Зачем она? Всё было и поросло быльём.
И ночью от кошмара ты закричишь опять.
Преследует, как прежде, тебя твоя судьба.
И разве это можно — спокойно ночью спать?
И разве это можно, когда всему труба?
.
Волшебство
***
Он все на свете сделать мог —
заезжий фокусник из цирка.
Он превращал часы в цветок,
в бумаге исчезала дырка.
Конферансье бледнел, как мел,
в кармане находя касторку.
И я ладоней не жалел,
изнемогая от восторга.
Но меркли эти чудеса
на улице, где небо ало,
где, как тугие паруса,
афиши ветром раздувало.
Там, белой дымкой скрыв дома,
на клумбы и на кучи щебня
неслышно падала зима,
и не было её волшебней.
* * *
Шустрые ветры сдуют белую благодать…
Заново молодую дай мне тебя узнать!
Видеть сакрально-синий свет, когда в час весны
солнечной звонкой силой стебли опять полны.
Видеть, что вновь лазорев близкого неба край…
Слышишь: играет зорю юный сигнальщик май?!
Стань же опять другою, морем без берегов,
мир захлестнув пургою яблоневых снегов.
* * *
Бродил по городу чудак с посеребрённым чубом,
шел не спеша, любой пустяк ему казался чудом.
Глядел тот парень на закат, на леса гребень редкий,
где красногрудый музыкант усердствовал на ветке.
Боясь разбить, он в руки брал зимы стеклопосуду,
и проявление добра он чувствовал повсюду:
в карасьем профиле моста, в реке, пристывшей малость.
Как сахар в чае, доброта
в природе растворялась.
Девочка детства
Как случайный джекпот не моей лотереи,
как прилёт марсианина к нам на чаи.
Я не верил глазам: постаревшая фея
вдруг возникла среди городской толчеи.
Мы стояли молчком. Ни к чему оправданья.
Да и что тут сказать, если столько мы врозь?!
Даже первопоследнее это свиданье
ожидать нам едва ли не вечность пришлось.
Мы взрослели. Вселенная делалась шире.
Как-то путалось всё. Нету ясности — дым.
Мы спешили взрослеть. Мы так долго спешили,
что уже по инерции дальше спешим.
Суетимся, живём рядом с трепетной тайной,
и, не зная о ней, длим впотьмах бытиё,
но совсем не случайно, совсем не случайно
мы встречаем далекое детство своё.
Воскрешая мгновенье из мрака забвенья,
просигналит оно на дороге большой,
что мечта твоя стала бесплотною тенью
той мечты, что когда-то владела душой.
* * *
Конус часовни. Слева – спутанных веток гривы.
Кладбище. Запах тлена. Склепы. Кресты. Могилы.
В этом покое вечном девочка в платье белом
весело и беспечно «классики» чертит мелом.
Ржавчина в прутьях сквера. Глупых синиц усердье…
Как ты наивна, вера в собственное бессмертье!
Нам никуда не деться: обречены с рожденья.
Боже, продли нам детства сладкое наважденье!
Мир, когда в плеске ночи, необъяснимо светел,
счастье тебе пророчит
звёздный зелёный ветер.
* * *
Так же птицы осанну пели
изо всей своей птичьей силы.
Мир был молод, ещё Помпеи
мёртвым пеплом не заносило.
Ты спускалась лианой гибкой
в бездне времени – тихим всплеском…
Но доверчивую улыбку
навсегда сохранила фреска.
Платье — словно вчера надела,
та же легкая хмарь на небе…
Как ошибся я! Что наделал!
Двадцать с лишним веков здесь не был.
Юный ветер над миром реет,
он в музейные рвётся холлы…
Между нами, как пропасть, время,
беспредельный, безбрежный холод.
Словно я услыхал случайно,
забывая, что жить мне мало,
эхо тысячелетней тайны,
что так долго не умирало.
* * *
Борису Полякову
Коммунальный оазис в пустыне асфальта…
Здесь в прохладе, сменившей полуденный зной,
извлекала игла из пластинки контральто
безнадёжно забытой певицы одной.
Молодела мелодия, и на паркете,
сняв обувку, стараясь из всех своих сил,
танцевали прилежно серьезные дети,
и товарищ мой гулко о чем-то басил.
Я смотрел на детей, на их робкий румянец,
позабыв, что совсем от жары изнемог,
и пленял меня их зажигательный танец,
что балетным канонам ответить не мог.
А певица все пела. И было мне жалко,
я боялся: неужто случится вот-вот —
скажет властно папаша, довольно, мол, жарко,
и священное действо навеки прервёт.
молил про себя: «Ну, еще хоть десяток,
только десять коротких секунд волшебства!»,
и планировал с неба весёлый десантник —
первый лист, и робела другая листва.
…Мы — как листья. Летим мы без автопилота.
Всех нас прочно забудут, настанет наш час.
Лишь бы танец листвы, лишь бы счастье полёта
повторились еще — это память о нас.
* * *
Птичий бесконечный полонез,
небеса с рассвета голубы…
Жил я неприкаянно, как лес,
не страшась превратностей судьбы.
А теперь, забыв, что одинок,
я давлю слезливый серый снег.
Отчего же раньше я не мог
радоваться ветру и весне?
Вот стою, гляжу на призрак-сад,
в плен попав его костлявых рук.
В этом март, как видно, виноват —
взбаламутит вечно всё вокруг…
Светлая песня эта…
* * *
Это — снова первосанье, это — древний город Псков.
Это — лёгкое касанье снежно-белых лепестков.
Это – вечное круженье ослепляющих снегов.
Это – словно постиженье главной истины. Всего.
И такая радость всюду, что улыбка — в пол-лица,
словно кто-то выдал ссуду
мне на счастье без конца.
* * *
Вновь в бревенчатый накат
бьют дождинки вразнокап.
Точно плотничья артель,
заработала капель.
Тюк да тюк, тюк да тюк —
так стучат наперестук,
грациозны и легки,
молодые молотки.
Тюк да тюк — травам в рост.
Скоро май — месяц гроз.
.
* * *
Ветер выл всю ночь несыто,
и проснулся город утром,
будто леденец засыпан
белой сахарною пудрой.
Как легко теперь на свете!
Сколько ласки в каждом жесте!
День прозрачен, тих и светел,
по-особому торжествен.
Кружева вокруг, вязанье.
И звучит, как шум прибоя,
это древнее сказанье —
песнопенье снеговое.
* * *
Сентябрь ещё не отлучал тепло.
Он слух ласкал привычным птичьим гамом.
Но в полночь листья начисто смело
внезапно налетевшим ураганом.
Я утром вышел. Удивленья крик
сдавил мне грудь среди деревьев сада,
поскольку мир был весело открыт
для моего и для любого взгляда.
Я брёл, не узнавая ничего.
Мир стал другим. Тот, прежний, вмиг растаял.
Таилась неразгаданность его
за многоточьем журавлиной стаи.
Письмо из Пятигорска
Снег. Январский воздух горный, свет луны прозрачно-бел.
Вновь Бештау пятигорбый шапку белую надел.
Я везу тебе гостинец – образцы тревожных снов,
одиночество гостиниц, тусклый отсвет ночников,
серебро замерзшей рощи и костра холодный дым…
Дирижирую порошей и безмолвием ночным.
Пусть звучит светло, как прежде, из продутой стужей тьмы
тихий гимн моей надежде
в исполнении зимы.
Александр Грин
Он худ, глаза его запали.
Они – как фитилёк в запале:
миг — и рванёт. Всего лишь миг.
«Гриневский Александр Степаныч?
Случайно ль вы не польский паныч?»
«Ха-ха! Ну, вахмистр, ну шутник!»
Жандармы ржут. Дрожат монокли.
От напряженья шеи взмокли.
«Дозвольте вас предупредить:
нельзя играть с законом в прятки.
Вы, вроде, проживали в Вятке?
Теперь где думаете жить?»
Молчит…
В тюрьме сырой и тесной,
неудержим, как дух протеста,
бессвязный, как тифозный бред,
витает призрак бестелесный —
давным-давно уже известный
один-единственный ответ.
Над морем и над леса гущей
корветом, по волнам бегущим,
скользит он гладью голубой.
И ясно вновь: всего дороже
быть непохожим, непохожим,
а это значит, быть собой!
Вот дерево напротив окон.
Оно безмерно одиноко,
и, одинок, горит фонарь.
И ты один себе хозяин,
и совершенно осязаем
свет звёзд, прозрачный, как янтарь.
* * *
Вот и угасло лето, только грустить не надо:
слушайте песни леса, музыку листопада.
Пусть застывают смолы, пусть зазвучит на вербах
звонкое птичье соло в сопровожденье ветра.
Звонкая песня эта. Лес, как турецкий рынок.
Слышишь, поют кларнеты, флейты и окарины?
Лист приземлится грузно, шишки ударят оземь…
Это совсем не грустно, если настала осень.
Эй, трубачи, за дело, чтоб, догоняя лето,
вновь над землей летела
светлая песня эта!
* * *
Белый квадрат стены,
эхо минувших снов.
Желтым серпом луны
скошен недели сноп.
Ходиков мерен ход,
спит опустевший дом.
Самый несчастный тот,
кто одинок вдвоем.
* * *
Осень, осень, жёлтые глаза.
Занавес опустит листопад.
Лето пролетело, словно дым,
но такая в небе бирюза,
но такой прозрачный этот сад,
что нельзя не любоваться им.
Посмотри. Не надо уходить.
Помни это летом и весной:
желтые от листьев небеса,
паутины вьющаяся нить
и леса в накидке расписной.
Осень, осень, жёлтые глаза.
* * *
Зима готовится к броску.
Чернеет поредевший сад.
Ты погаси мою тоску,
маэстро неба, снегопад!
Чтоб эта музыка без слов,
небес безгрешное дитя,
плыла из белых облаков,
как шёлк, прохладно шелестя.
* * *
Куда же вы, птицы? Зачем вы срываетесь с крыши
и с веток иссохших осеннего зябкого сада,
когда уже поздно, и мягко крадется по-рысьи
по листьям опавшим вечерняя мгла и прохлада?
Куда же вы, птицы? Какая такая забота
вас гонит из дупел, из гнезд под высоким карнизом?
Вы ходите плохо. Вы созданы лишь для полёта,
для горнего ветра, что светом и волей пронизан.
Мы тоже такие. Такое же общее свойство
мы с вами имеем: не надо нам тесного рая —
в путь снова зовет нестареющий дух беспокойства.
Ты нас излечи, ощущенье простора без края!
.
* * *
На колпаке шута звенели бубенцы.
Кривлялся он и пел — уродство не помеха.
И, как кули с мукой, вельможи и купцы
валились под столы и корчились от смеха.
А шут торжествовал. Он знал прекрасно роль.
Смотрел, разинув рот, слуга, не поняв толком,
кто шут, а кто король. Не знал и сам король.
Смеялся он — и всё. Смеялся он — и только.
* * *
Не чувствуя с миром разлада,
ты жил, никогда не скуля,
но мир вдруг становится адом —
и всё начинаешь с нуля.
И день тот обрадует летний,
и не возмущает, когда
шуршат по-мышиному сплетни —
теперь от них мало вреда.
И вовсе не надо разборок.
Ты лишь бескорыстия ждёшь
от той, нет дороже которой,
совсем не способной на ложь.
* * *
Возможно, это – только давний сон…
Мы день на полуслове обрываем.
Наш дом – как остров. Он необитаем,
поскольку был давно уже снесён.
Но мы придём сюда, устав от слов,
от спешки, жизнью вызванной шальною,
чтоб надышаться тёплой тишиною,
что притаилась, словно птицелов.
Тот год ещё не предвещал потерь,
не думалось, что рушатся стропила.
И всё тогда куда понятней было,
и всё открыто, как входная дверь.
Не знали мы, что станет всё чужим,
что нас настигнет камнепад печалей,
и мы молчали, мы тогда молчали,
поскольку мир молчаньем постижим.
И тишина не пряталась ничуть,
утопленная в то сырое лето,
хоть дождь шумел… Но значит ли все это,
что в шуме скрыта истинная суть?
Нет, сути нам с тобой не миновать:
уже давно преследует нас тенью
молчанье, что несёт нам облегченье, —
молчанье, не умеющее лгать.
Горькие, осенние, жёлтые цветы…
* * *
Готический город,
минор в моей жизненной гамме,
твой воздух был горек,
как хлеб, разделенный с врагами.
Ты мне опостылел,
как постные завтраки в школе.
Меня твои шпили
к досье на меня подкололи.
Я жил как вслепую,
а ты блефовал, как мошенник,
и сплетни, как пули,
искали меня для мишени.
Здесь были чужими
дома, даже клумбы с цветами.
Здесь в странном режиме
будильники время считали.
Кого не касалось,
те всё понимали превратно.
А мне всё казалось:
часы повернули обратно.
Изгибом лекала



