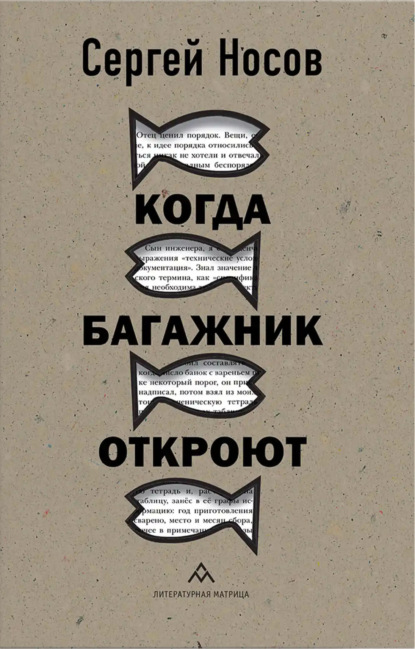
Полная версия:
Когда багажник откроют
«Захожий»! Господи… Слово-то какое… Все мы на этой земле захожие…
Но ты нашу сторонку любил…Сторонку любил… Нашу сторонку любил… Жалость я такую почувствовал… ко всему на нашей сторонке… ко всему на земле этой сущему… и к не совсем сущему тоже… и к тому застрелившемуся… и к тем глупым старухам… шестерым… из окна вывалившимся… вследствие чрезмерного любопытства… до которых нет никому из нас горя… и к самому Хармсу, к Даниилу Ивановичу… сгинувшему в тюремной больнице блокадным дистрофиком… и к Некрасову, к Николаю Алексеевичу… как он умирал тяжело… пиша «Последние песни»… и ко всем, кого обыграл он в карты… греша… греша и пиша… и к памятнику, под которым стою, обосранному голубями… и к этим, что стоят и слушают мои… то есть его, «Похороны»… к этим, на которых смотреть не решаюсь… такой эксцесс… но знаю, что как минимум каждый четвёртый, так же, как я, плачет, плачет почти что навзрыд, ибо мне хорошо известна мощь моего актёрского дара!
Только минут морозы упорныеИ весенних гостей налетит…Опять, опять о птицах. О грачах, наверное… Я и обращался к вершинам деревьев… Но всё же скользнул взглядом по публике… Трое из бара стояли… мгновения мне хватило запечатлеть их в памяти… У седобородого борода сдвинулась набок, в квадратных очках с открытым ртом меня слушал, а сомневающийся… тот просто – глазам и ушам не верил…
«Чу! – кричат наши детки проворные. —Прошлогодний охотник палит!»Про гром, кому не понятно, – детям он напоминал о роковом выстреле.
Ты ласкал их, гостинцу им нашивал,Ты на спрос отвечать не скучал.У тебя порошку я попрашивал,И всегда ты нескупо давал.И про порошок – рискованно. Мне самому детям – в смысле десятиклассникам – приходилось объяснять, что порошок здесь не то, о чём они подумали, а уменьшительное от «пороха»; дети не верили, смеялись… А чего смеяться-то? Он же охотник. Чего смешного? Он и застрелился с помощью порошка этого…
А как хорошо, как задушевно – со звукописью: «У тебя порошку я попрашивал…»
Почивай же, дружок! Память вечная!Не жива ль твоя бедная мать?Всё! Глаза, не стесняясь, рукавом вытер (носового платка у меня при себе не было).
Или, может, зазноба сердечнаяБудет таять, дружка поджидать?Сказал:
– Простите.
И замолчал. Не мог больше, не мог.
Все молчали. И мне даже показалось (показалось только), что на улице Некрасова остановился транспорт.
Нельзя было долго молчать. Не минута же это молчания.
Я собрался. Мне так показалось. Я собрался продолжить. И тут же услышал тихий, жалобный вой.
Это я подвывал детишкам у гроба незнакомого самоубийцы.
И взрослым – убитым горем бабам и мужикам.
Горе было – ничьё персонально, не чьё-нибудь личное и точно уже – не моё. Но я понимал его – не мозгами – душой. Это было чистейшее, дистиллированное горе, ничем не замутнённое, как боль червяка, насаженного на крючок. Оно было чужим, чужим и всеобщим, ничьим и моим, горе горькое, абсолютное горе, оно пришло.
Ноги меня не держали – согнулись в коленях. Я пустился на землю, на холодный грунт. Схватив голову руками, раскачивался и выл. Моё я-со-стороны-третье мне кричало во мне, что не надо стесняться, поздно крепиться, делай что хочешь – вой и рыдай, вой и рыдай.
А другое моё я-со-стороны-не-знаю-какое-по-счету тихо вздыхало: ну вот… «скорую» вызовут… или милицию.
Но встал я не поэтому. Силы меня покинувшие, внезапно – совершенно внезапно вернулись. Я вскочил на ноги и только сейчас понял, что в эту минуту слабости не переставал декламировать. Что они поняли сквозь мои завывания и рыдания, трудно сказать, но по тексту должно было быть это:
Мы дойдём, повестим твою милую:Может быть, и приедет любя,И поплачет она над могилою,И расскажем мы ей про тебя.Сейчас, когда я снова стоял на ногах, голосу моему возвращалась твёрдость. Я снова овладевал собою. Да, я спешил – теперь без пауз, – лишь бы скорее, скорее всё это кончилось:
Почивай себе с миром, с любовию!Почивай! Бог тебе судия,Что обрызгал ты грешною кровиюНеповинные наши поля!Кто дознает, какою кручиноюНадрывалося сердце твоёПеред вольной твоею кончиною,Перед тем, как спустил ты ружьё?..Там было ещё восемь строк, но я не стал дочитывать. Хватит. Отошёл от микрофона, обогнул зрителей, встал сбоку от них по левую сторону. На них не смотрел, и они на меня, кажется, тоже. Аплодисментов не было.
– Друзья, – сказал ведущий, подойдя к микрофону, – трудно продолжать после такого выступления… но я должен пригласить… директора… музея…
Директор музея тоже начала с того, что трудно говорить после такого проникновенного выступления, но я уже её не слушал. Отступил назад, спиной, спиной и в сторону. Повернулся и, обойдя их всех со спины, пошел скорёхонько по саду – к выходу на улицу Некрасова. Мне казалось, я ухожу по-английски. Не совсем так: я уже выходил из Некрасовского сада, когда меня окликнула Виктория. Оглянулся. Она торопилась ко мне.
– Куда же вы? А это? – Протянула конверт.
Я быстро сложил его пополам и засунул в карман куртки.
– Знаете, – сказала Вика, – я потрясена… Никогда не слышала, чтобы…
Мне захотелось как-нибудь соврать, сказать, что у меня был трудный день, умерла любимая тёща, завтра усыплять собаку… Но вместо этого сказал:
– Ненавижу, – и повторил, – ненавижу, ненавижу Некрасова.
Вика хотела, наверное, возразить, а может, согласиться – не знаю.
– Пять тысяч, – сказала она, – пять тысяч шли за гробом поэта.
Я молчал. Она напомнила про фуршет.
Повернулся и пошёл прочь. Какой фуршет? Какой, к чёрту, фуршет? Один! И только один.
Сам и один – за всех отпетых и неотпетых.
Братья Коньковы
Сергею Коровину —
с грустной улыбкой
Когда вышел роман братьев Коньковых с причудливым названием «Рудокоп прислал поздравление», старшему брату Конькову исполнилось уже тридцать пять, а младшему брату Конькову – тридцать три года. У старшего брата Конькова было (и есть) имя Денис, Денис Александрович, а младшего брата зовут (и звали) Антон – Антон, соответственно, Александрович Коньков, но по именам (не говоря уже об отчествах) братья Коньковы известны только в самых узких, почти семейных кругах, а в обычных узких кругах их так называют: братья Коньковы.
«Братья Коньковы» – это бренд. Или просто – «бр. Коньковы»; это когда они попадают в обзорные перечисления, например: «…Иванов, Кувалдин, бр. Коньковы, Жуковский…»
Братьям Коньковым решительно повезло. Господь наделил их талантом. Более того: сколько бы ни говорили у нас, что нет у нас литературы, и сколько бы ни писали у нас, что у нас перестают издавать художественное, оба романа братьев Коньковых («Рудокоп…» – второй) вышли в престижном столичном издательстве.
Но и этого мало. Сколько бы у нас ни сокрушались, что умерла критика, оба романа братьев Коньковых были замечены и отмечены. Правда, замечены и отмечены, опять же, в узких кругах, но не настолько всё-таки узких, чтобы к лицу было братьям Коньковым жаловаться на игнорирование. Как-то сразу про братьев Коньковых решили, что попали в обойму… Иванов, Кувалдин, бр. Коньковы, Жуковский…
Строгий критик Юрий Кисловодский, один из немногих, кто подавал ещё голос по отдельным эксцессам родимой словесности, похвалил уже первый роман братьев Коньковых. От Кисловодского ждать были готовы, скорее, другого: у него репутация грозного правдолюбца, склонного к поножовщине, он никого не щадит, и надо же, понравился ему их первый роман – критик отмечал стилистику, образность, остроумие, смелость. Он был первый, кто компетентно писал о братьях Коньковых, да и последний почти (если исключить простые обзоры) – не потому что сказать о братьях Коньковых нечего было другим, а потому что других уже не находилось: литературная критика, как ни крутите, господа, действительно сходила на нет.
Второй роман братьев Коньковых Кисловодский тоже хвалил, но сдержанно, своеобразно. Читатели его статьи, стремительно распространённой по социальным сетям (назвать её рецензией было бы, пожалуй, неверно), могли заключить, что критик с прозаиками на короткой ноге и что дружат они едва ль не домами и что именно поэтому он не может скрывать правду: бр. Коньковы – не гении, и никогда ими не будут.
Кисловодский и братья Коньковы в самом деле приятельствовали. Познакомились они после публикации дебютного романа братьев Коньковых, за три года до «Рудокопа», причём сближению, помимо взаимного признания, способствовало то удивительное обстоятельство, что Кисловодский и Коньков-старший живут на одной улице. У Кисловодского дом номер три, а у Конькова-старшего – тридцать четыре. Прямо напротив дома старшего Конькова ирландский паб, закрывающийся в два ночи, там (ещё до формального знакомства – состоявшего в реальности из двух полузнакомств) критик и братья-соавторы могли сидеть за соседними столиками. Первым телефонным полузнакомством (старший Коньков) история отношений обязана лично Кисловодскому: позвонил он; второе полузнакомство (младший Коньков) было очным. Кисловодский не однажды принимал обоих Коньковых у себя в захламленной квартире, где они втроём пили холодную водку у него на кухне, заедая чем-нибудь нехитрым и беседуя обо всём на свете. Бывал Кисловодский и у старшего из Коньковых, но мимоходом (без водки) – Коньков-старший жил в двухкомнатной квартире с женой (беременной на момент первой встречи), двухлетним сыном и тёщей, увлечённой чем-то тибетским. Коньков-младший обитал в другой части города, Кисловодский у него не бывал, но знал, что у младшего брата двойня, а жена работает менеджером по обучению в аутсорсинговой компании и что есть у него кот-любимец, фотографии которого Коньков-младший, не боясь комментариев продвинутых блогеров, регулярно вывешивает в интернете.
Феномен братьев Коньковых интересовал Кисловодского. Хотел бы он знать, как братья пишут – вместе или порознь; как делят обязанности, кто из них генератор идей; как им, наконец, удается обходить бытовые препятствия. Здесь не было тайны, но сколько бы ни употребляли братья Коньковы красивое слово «резонанс», вразумительно рассказать о своей творческой кухне они способностей не имели – похоже, никаких правил на этот счёт у них не было и работалось им как работалось. Одно можно сказать – братья Коньковы встречались почти каждый день, по крайней мере, когда им писалось. Но вот что не понимал Кисловодский: ни у старшего, ни у младшего брата не было письменного стола; конечно, современные компьютерные технологии позволяют обходиться не только без письменного стола, но и вообще без бумаги, но всё равно Кисловодский не понимал этого – как это быть писателем и не иметь письменного стола, тем более, если вы сочиняете в соавторстве, да ещё ежедневно встречаясь. Наличие или отсутствие письменного стола – фактор отнюдь не технический. Это аспект авторского самоуважения. Покажи мне твой письменный стол, и я скажу тебе, какой ты писатель.
У самого Кисловодского письменный стол был, хотя и был вечно завален бумагой, всякими тетрадями, журналами, книгами, так что работать за ним было физически невозможно. Кисловодский, когда ему требовалось воспользоваться чем-нибудь потерянным, был готов скорее смириться с исчезновением важных бумаг, чем потревожить культурный слой, их погребающий, – он никогда не разгребал эту кучу, потому что прекрасно понимал всю бесперспективность поисков. Но культурный слой на столе был в самом деле культурным. А стол – письменным. И пускай за письменным столом он не работал, а работал на кухне, за обеденным, письменный стол у него стоял – был, стоял, был письменный стол у него в комнате!
Алевтина Михайловна, когда у него ночевала, бралась иногда наводить в квартире порядок, но только не на письменном столе: письменный стол был неприкосновенным.
Братья Коньковы знавали Алевтину Михайловну по застолью – на кухне; раз или два она участвовала. Рюмку-другую выпить могла, но не более. В её присутствии Кисловодский становился циничным и особенно разговорчивым, но разговор о литературе уже не клеился, шутки его грубели, что, впрочем, она переносила невозмутимо и даже показывала глазами кому-нибудь из братьев Коньковых: «Пусть» – если тот решался Кисловодского урезонивать. Но когда доходило совсем уж до крайности, Алевтина Михайловна закатывала глаза, тяжело вздыхала и с лукавым укором произносила: «Ну ты и циклопище!» – на лице хозяина квартиры застывала плотоядная улыбка, и они глядели друг на друга влюблёнными глазами: она – двумя глазами, а он – одним (он был одноглазым); братья Коньковы понимали, что пора по домам.
Левого глаза Кисловодский лишился в детстве – бросали в костёр патроны, найденные на полях боёв. По другой, менее правдоподобной версии, он потерял глаз в жестокой схватке с каким-то вепрем, спущенным на него директором зоопарка, у которого он будто бы увел женщину. Похоже, молодость Кисловодского действительно была буйной. С возрастом он всё больше опасался глазных болезней: катаракты, ещё более – глаукомы, тем более что был у него диабет, потомственный, но не запущенный. Он себя не считал алкоголиком, но выпивал охотно – он считал, что это не мешает его работе, – куда важнее было следить за глазом. К моменту выхода первого романа братьев Коньковых он уже перессорился со всеми прежними собутыльниками, большинство из которых были писателями. Он был значительно старше братьев Коньковых – старше старшего на двадцать лет. Несмотря на возраст, отсутствие глаза и следов привлекательности на суровом челе, он пользовался успехом у женщин, что сам объяснял природной харизмой. Природная ли, благоприобретенная ли, обусловленная ли как раз одноглазостью, как у Габриэле д’Аннунцио, с которым однажды себя сравнил, харизма у него, безусловно, была, здесь братья Коньковы не спорили. Они не могли согласиться с другим – с некоторыми воззрениями Кисловодского на писательский труд и вообще природу творчества.
Письменный стол по сравнению с этой проблемой – сущая ерунда. Тут уж целая философия у Кисловодского намечалась. И главное в ней представляло следующее. По глубокому убеждению критика Кисловодского, любой хороший писатель обязан быть мерзавцем. Только мерзавцы способны писать хорошую прозу (ну и стихи, тут требования ещё сильнее). Если ты не мерзавец, ничего дельного не напишешь. Для настоящей литературы необходим авторский надрыв, писательская червоточина, понимание мерзости, которую ты совершил, и память о ней в момент письма.
Все великие писатели, по Кисловодскому, были мерзавцами. Если мы не знаем о мерзостях, которые они совершили, это ещё не значит, что таковых не было. Было! Не могло не быть!.. Педофилы, кровосмесители, извращенцы всех мастей, воры, патологические завистники, изменники, убийцы. Даже если ты никого не убил в буквальном смысле, а ты при этом великий, можно быть спокойным за тебя: ты убивал невольно, ты хотел чьей-то смерти или мечтаешь о смерти сейчас – близкого тебе человека, и жив он только по одной причине: ты трус. Трус – потому что мерзавец.
Быть настоящим писателем – это значит уметь погружать душу в ад или хотя бы уметь беспокоить её близостью ада, создаваемого для неё преступным гением своеволия.
Кисловодский, загибая пальцы, перечислял классиков – по школьной программе, и не было среди них, по его убеждению, ни одного порядочного человека.
При этом он нисколько не осуждал их за мерзости, якобы сотворенные ими. Он любил литературу и не мог не мириться с тем, что, на его просвещённый взгляд, составляло суть её и основу.
Братья Коньковы не знали, в какой мере взгляды Кисловодского были оригинальными. Может быть, эти идеи носились в воздухе, да братья Коньковы их не улавливали. Вот, кажется, в Петербурге кто-то уже высказывался в похожем ключе. Но кто бы ни исповедовал подобные взгляды, именно Кисловодский довел представления эти до их логического предела.
«Слишком вы, друзья, порядочные, я давно наблюдаю за вами, не быть вам, увы, великими. Так, выше среднего, вот ваш предел». На это младший Коньков возражал: «Послушайте, Юрий Викентьевич, вы же не знаете нас, может, мы тихие маньяки какие-нибудь, а скрываем». – «Ну, конечно, конечно. А то я не вижу».
В другой раз говорил Кисловодский, что всем хорош их роман (первый, второй не вышел ещё), но пресный. «Позвольте, – начинали нервничать братья, – чем же пресный? Вы сами написали в рецензии: смелая яркая проза». Кисловодский улыбался с видом «ну мы ведь с вами всё понимаем» и перечислял: «Мастеровитость, приёмы, расчёт…» Потом добавлял: «Видно же: хорошие люди писали. Кого обмануть хотите?» Братья не понимали: «Хорошо, хорошо. Допустим, хорошие люди. Но чем же это плохо, Юрий Викентьевич?» – «В том-то и дело, что не плохо. Но настоящее пишут не так. И не такие, как вы. У вашей прозы много достоинств, но есть недостаток – она написана порядочными людьми, и в этом её роковая ущербность». – «Интересные рассуждения. А если бы мы негодяями были, у нас бы настоящее получилось?» – «Не факт, далеко не факт. Но, по крайней мере, можно было бы связывать с вами ожидания большего».
Обычно такие разговоры велись под конец застолья. «А вот, – сказал однажды старший Коньков, – мы с вами водку пьём. Это хорошо?» – «А что – плохо? Подумаешь, водка. Вы даже не курите. Как можно пить и не курить? Это всё равно что не пить». Апелляция к водке его раззадорила, он повторял слово «водка», посмеиваясь. «Водка… Вы братья-соавторы… Если бы между вами кровосмесительная связь была, это было бы что-то, я бы подумал тогда… А то водка – смешно!..» – «Но вы же не знаете, Юрий Викентьевич, какие у нас братские связи?» – «Я вас насквозь вижу», – отвечал одноглазый критик.
И поскольку не было между братьями кровосмесительной связи, и жёнам они, по наблюдениям Кисловодского, не изменяли, и никого не обокрали на этом свете, не замучили, не убили, и никому, кажется, не завидуют и не желают плохого, а у одного из них ещё есть ко всему кот любимый, тогда как другой терпит дуру-тёщу и ладить с нею готов, что взять с таких? «Значительного вам не написать».
Братья Коньковы сначала посмеивались над взглядами Кисловодского, а потом как-то от них устали. А тут ещё «Рудокопом» увлеклись, работа их захватила. Солидное издательство, не забыв об успехе дебютного, проявило интерес ко второму роману, ещё не написанному. Братья Коньковы легко перешли с тяжёлых напитков на пиво, а потом и вовсе на сок, потому что выпивки были у них «исключительно ситуативной природы», как однажды не очень удачно выразился Кисловодский, раскусив, тем не менее, братьев Коньковых. Встречи с критиком Кисловодским сами собой прекратились.
«Рудокоп прислал поздравление» вышел во второй половине апреля, а в конце мая критик Кисловодский разразился статьей, в которой он излагал свою философию литературы, хорошо известную братьям Коньковым. Сразу же обратило внимание в этой статье, только внешне маскирующейся под рецензию, потребительское, по мнению братьев Коньковых, отношение автора к их роману. Выход в свет новой книги был для Кисловодского всего лишь поводом для умозаключений самого общего плана, и вообще, не о братьях Коньковых шла речь, а о «великих»: доставалось и Достоевскому, и Толстому, и Булгакову, и даже Анне Ахматовой, а что до той части статьи, которая касалась непосредственно произведения братьев Коньковых, посвящена она была не столько роману («добротному, но пресноватому»), сколько порядочности его авторов, о чём Кисловодский уверенно судил на правах их конфидента. «Бр. Коньковы прекрасные люди, это бесспорно, они патологически не способны на дурной, нехороший поступок. С позиций обывательской логики, это, конечно, похвально. Для литературы, однако, тут смерть. Впрочем, не будем сгущать краски. Добротный, но пресноватый роман многим понравится. Мы же знаем правду. Бр. Коньковы никогда не напишут ничего гениального».
Братья Коньковы были уязвлены в самое сердце (в их общее сердце).
Первого июня, в День защиты детей, поздним вечером братья-соавторы сидели за стойкой ирландского паба на высоких деревянных стульях с низкими спинками, пробавляясь красным ирландским элем. Детей и жён они ещё вчера отправили на дачу – на общую дачу (и тёщу-тибетку тоже); вчера же прочитали статью Кисловодского, содержащую упреки в порядочности.
Играла музыка, гоняли на телеэкране мяч; бармен в чёрной футболке, с многосложным тату на руке, с короткой золотистой бородой, всегда готовый к общению, покалякав с кем-то за стойкой, медленно возвращался к братьям Коньковым, уныло глядевшим на панельный экран: там били пенальти – в быстрой записи, один за другим.
– Классики пригорюнились? – Он был осведомлен, что братья Коньковы писатели, причем хорошие. – Помочь?
– Ответь, Макс, ты психолог, – сказал старший Коньков. – Откуда у человека потребность в дерьме такая? Ищет во всём. Когда не находит, переживает, тревожится – всё не так ему, всё не по его представлениям…
– Кто-то из копрофилов? – прищурился Макс; он словно пытался вычислить среди общих знакомых кого-то конкретного.
– Да я не о натуральном дерьме. Я в метафорическом смысле.
– Есть книга, не помню автора, «Метафизика дерьма» называется, погуглите. Может, утешит.
– Что-то читать не хочется, – отозвался младший Коньков.
– А писать хочется? – мгновенно отреагировал Макс, человек начитанный и многознающий; он патетически повел татуированной рукой, кого-то пародируя. – О чём поёте, мастера культуры? Над кем смеетесь вы, народные витии?
– Ни о чём. Ни над кем, – отвечал без тени улыбки младший Коньков. – Ничего не хочется. Давно собирался спросить, – младший Коньков приподнял бокал и потрогал плоский картонный предмет, о котором спрашивал, – как называется эта подставка для пива?
– Мы говорим «бирмат».
– Как говорите?
– «Бирмат». Ещё – «бирдекель».
– Запиши, – сказал старший Коньков.
Младший Коньков записал.
Бармен Макс, довольный тем, что помог хорошим писателям, отошёл к другим посетителям, предпочитающим барную стойку отдельным столикам.
Так, тихо и скромно, в ирландском баре под фоновую ирландскую музыку с пинтой ирландского эля на брата начинался первый вечер нового лета, ставший в жизни братьев Коньковых некоторым образом рубежом.
– Ладно, когда на кухне бла-бла-бла, ну забавно, ну пусть, но зачем же, – кипятился младший Коньков, – на публику выносить? Откуда он знает, на какие мы поступки способны?
– Это всё потому, что мы с ним всегда по-хорошему, – отвечал Коньков-старший. – Поступили бы с ним как-нибудь подло, он бы оценил.
– Надо было взять денег в долг и не отдавать, – подхватил младший Коньков, резко повеселев.
– А что ты смеешься? Он бы это действительно оценил. Зауважал бы нас. Поверил бы в творческие возможности.
– Чем больше взяли бы, тем бы сильнее поверил.
– Нет. Он бы по-настоящему оценил, если бы его нажгли с особым цинизмом. Не просто взяли бы в долг, а на будто бы лечение ребенка. Или тёщи моей. Или на похороны несуществующего дедушки. Ему надо, чтобы подлость была.
– Много хочет. На такое мы не способны.
– Значит, он в чём-то прав, – сказал старший Коньков.
– В чём прав?
– Что не способны.
– Не способны – что? Написать блестящую прозу? При чём здесь порядочность? Это же бред! Пойми.
– Не надо меня убеждать, я не хуже тебя понимаю.
– Но это же бред. При чём здесь порядочность?
Они решили перейти на ром, или вискарь, или коньяк и больше не говорить о Кисловодском – всё-таки книга вышла, а это праздник. Он бы, конечно, сказал, что и этот переход «ситуативен» и что нет в их жестах непринужденности, но хватит, довольно – больше ни слова о Кисловодском. Рассматривали ряды красивых бутылок, над которыми висели гирлянды купюр иных государств, эмблемы спортивных клубов, флажки, футболки с номерами легендарных форвардов. Старший Коньков подозвал Макса.
Бармен Макс изрекал, наливая водку:
– «Бирдекель» – по-немецки. Я – «бирмат» предпочитаю, по-аглицки. Ещё «декели» есть. Некоторые так называют.
Показал подставку официантке:
– Алёна, это что?
– Подставка.
– И так тоже.
Выпили, переглянулись: не подарить ли Максу книгу? Простые решения они принимали без обсуждений, молчаливо, только обменом взглядами. Бармен Макс наливал пиво новому посетителю, когда старший Коньков молча достал «Рудокопа» и, положив на стойку, раскрыл на титуле. Младший Коньков обернулся – не смотрит ли кто?
Две девушки – за столом под фотографией старого Дублина.
Одна поглядывала на то, как старший Коньков готовился написать что-то в книге, а другая, хотя и смотрела с показной нарочитостью на бокал перед собой, говорила подруге, несомненно, о них, сидящих за этой стойкой. «За нами девчонки следят», – тихо пробормотал младший Коньков. «Вижу», – отозвался старший Коньков, выводя надпись на титуле (его потянуло на развернутый текст). «Ничего ты не видишь, – сказал младший Коньков. – Глазищи – мама не горюй, на Эльгу похожа». (Эльга была героиней их второго романа.) Старший Коньков подвинул книгу младшему брату, чтобы и он приложил руку, и только после этого обернулся. «Которая?» – «Сказал же, с глазами». – «Они обе с глазами». – «Черненькая», – сказал младший Коньков. «Тогда уж беленькая, – возразил Коньков-старший. – Ладно, надписывай. Сейчас познакомимся, разберемся». Девушки давно заметили, что их заметили, и теперь изображали смущение и весёлость, что вместе считывалось как приветливость. Обе были глазастые-преглазастые, вторая к тому же губастая, и притом с тем подкупающим эффектом от клубного макияжа, который иногда называют «роскошной естественностью». «Удостоверяю. Коньков-мл.», – быстро нацарапал младший Коньков, и тут его рука дрогнула: «Число какое?» – «Пиши: первый день лета». – «Точно! Я и забыл», – сказал младший Коньков и дату поставил: «первый день лета високосного года».



