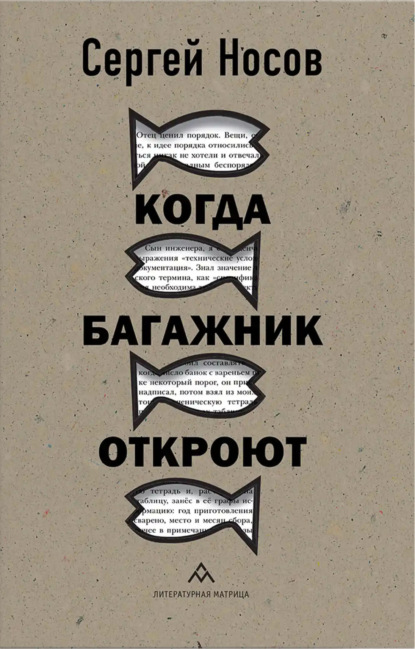
Полная версия:
Когда багажник откроют
В дальносрочной перспективе итоги реформы оказались печальными. Через год после смещения Хрущёва, уже при Брежневе, снова восстановили отраслевые министерства, включая ММП. Я был второклассником. Не помню, чтобы управленческие катаклизмы как-то отражались на нас, школьниках. Вроде бы в школьно-пишущих принадлежностях недостатка не было. Вспоминаю, как всем классом собирали посылку для детей Вьетнама, скрывавшихся в джунглях от американской военщины, – тетрадки, пеналы, карандаши, ручки, стирательные резинки… К тому времени я уже сменил несколько автоматических ручек – была у моих, говорю, манера ломаться и теряться… А что касается этой ручки, конкретно отцовской, чей паспорт передо мной, она служила владельцу, не противореча инструкции, образцово надёжно, никуда не пропадая и не ломаясь, чему я удивлялся искренне. Да, это была она. Помню в лицо.
МашинкаВообще-то достойный образец филькиной грамоты. Год 1989-й, перестройка. Будто бы «паспорт», так документ себя обозначает. На вид – бяка. Буквы едва различимы – отпечатаны кустарным способом на машинке. По форме – несколько листиков на двух скрепках.
Некий «кооператив» при некоем «производственном государственно-кооперативном объединении». Изделие называется «Машинка швейная ручная МШР-1».
На последней странице от руки написаны телефоны «представительства».
Судя по прилагаемым двум чертежам, отксерокопированным, очевидно, с постороннего источника, это есть миниатюрная дорожная машинка, известная под другим названием, да что теперь вспоминать?.. Ладно, «государственное» тогда легко становилось «кооперативным» и уходило «по кооперативной цене» в прибыль «кооператива». Перестройке длиться ещё и длиться, а слово «кооператив» уже стало синонимом жульничества.
В общем, невзрачный «паспорт» этот сам по себе памятник эпохе.
А что же сама машинка швейная ручная? Это такое маленькое устройство для выполнения простых работ в походных условиях. А ещё можно бирки пришивать в прачечной. Откуда в доме у нас появилась, прочно забыто, но исход её мне памятен. В 91-м, перед женским днём – тогда он ещё был Международным, – пошёл я на Сенную площадь и, по благословлению жены, продал предмет на барахолке. Толкучка была на Сенной грандиозная (мною описана в «Голодном времени»): можно было что угодно на ней купить – от кривого гвоздя до, ей-ей, автомата Калашникова (знай только с кем договариваться…). Сам я здесь регулярно менял сигаретные талоны на продуктовые – у нас в семье никто не курил.
Вот и машинка швейная ручная… А что делать? Деньги были нужны.
Указания-наставленияЯ всё говорю «инструкции», это правильно по отношению к документам из папки – ну разве что с незначительными оговорками. И всё же достойно восхищения жанровое разнообразие определений всех этих единиц нежданной коллекции, без всяких оговорок уже.
Есть в этом своя поэзия, на мой прозаический взгляд.
«ПРАВИЛА пользования сумочками из бестканевой плёнки»
«ГАРАНТИЙНЫЙ ЯРЛЫК. Сапожки девичьи с утеплённой стелькой»
«ПАМЯТКА по уходу за кофейником алюминиевым полированным с гейзером»
«ОБЪЯСНЕНИЯ к набору головоломок»
«НАСТАВЛЕНИЕ к охотничьему бездымному пороху “Сокол”»
«ИНСТРУКЦИЯ по пользованию в быту алюминиевыми полированными кастрюлями»
«Часы-будильник. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ»
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. Универсальная кухонная машина»
«ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ по пользованию снаряжением пловца-ныряльщика»
«ПАСПОРТ велосипеда»
«ТАЛОН ПАСПОРТА велосипеда»
«ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ на огнетушитель порошковый типа ОП-1 “Спутник”» [Тёзка, к слову сказать, велосипеда.]
«РУКОВОДСТВО к пользованию механическим карандашом комплекта “Ленинград”»
«РУКОВОДСТВО К СТИРКЕ»
«Ингалятор карманный пластмассовый. ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ»
«УКАЗАНИЯ по обработке фотографической бумаги “Бромпортрет”»
«Электронасос бытовой “Малыш”. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
«СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ карбофоса – средства для уничтожения бытовых насекомых в жилых помещениях»
«ЭТИКЕТКА. Термометр сувенирный “Крокодильчик”»
Только не надо думать, что «Этикетка» здесь – это этикетка в нашем обычном понимании, тут заглавие – ЭТИКЕТКА, так обозначен изготовителями «Крокодильчика» листок, по сути, талон с перечнем характеристик этого «Крокодильчика» и условий его эксплуатации.
А ещё интересно, что у каждого подобного талона, у каждого вкладыша (со списком опечаток, например, или иного какого), не говоря уже о многостраничных инструкциях и описаниях, самое последнее, что различить можно, – мелко набранное «Зак.» и какие-то цифры. Это номер заказа, допущенного цензурой, которая называлась Горлит. Свидетельство, что инстанция пропустила. Любой текст, предназначенный для распространения, перед отправкой в набор должен был пройти проверку в Горлите. Даже гарантийный талон на часы «Победа»!
Это вам не самиздат какой-нибудь!
В иной инструкции деловой стиль резко возвышается до лозунга, близкого по духу партийным призывам своего времени, – об этом сигнализирует восклицательный знак. «РАБОТАЯ ТРЯПКОДЕРЖАТЕЛЕМ, ВЫ ОБЛЕГЧАЕТЕ ТРУД ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЯ!»
Отметим сакраментальное слово ТРУД, характерное именно для партийных лозунгов.
Там же:
«Тряпкодержатель удобен при мытье автомашин, колясок и других видов личного транспорта!»
Нет ни тряпкодержателя, ни шахматных часов, ни электрического проигрывателя, похожего на патефон. Ни носового зажима из комплекта пловца-ныряльщика.
Лишь печатные тени покоятся в папке – бедном Элизиуме ушедших вещей.
2
Эксцесс
Рассказ декламатора
Вот и думаю теперь: а может, я правда великий актёр – масштаба Сары Бернар и Мочалова, или меня просто заклинило, заклинило, и это признак непрофессионализма?
А заклинило меня на улице Некрасова, напротив Некрасовского рынка, который сейчас опять Мальцевский, в Некрасовском саду, у ног самого Некрасова.
Была дата. Со дня ли рождения или смерти, я и сам не знал точно, когда соглашался. Подрядился за скромное вознаграждение прочитать что-нибудь из классика задушевное. Я и на Деда Мороза при иных обстоятельствах и для иного зрителя всегда соглашаюсь с радостью. Вот и до благословенных ёлок оставалось тогда менее трёх недель. Правда, про эту зиму с начала осени говорили так: зимы не будет – и первые зимние дни не обещали ни морозов, ни снега.
Пришёл я пораньше, с тем чтобы хватило времени привести широту своего сознания в соответствие с погодой и настроением. Как того требует великая традиция русской школы актёрского мастерства. А если кто скажет, что великая традиция русской школы актёрского мастерства не требует этого, я спорить не буду, только назову святые имена, говорящие за себя, и сошлюсь на личный опыт, а более на чутьё: вам же, начинающие актёры, Фортинбраса я бы рекомендовал играть исключительно на трезвую голову, а если вы готовитесь предъявиться публике в образе Мармеладова или продекламировать энергозатратное стихотворение Некрасова «Похороны», всё зависит от вас – некоторым чуть-чуть не помешало бы, но только чуть-чуть.
У входа в сад встретил Викторию, администратора, это она меня пригласила на мероприятие у памятника. Вика мне дала бейджик участника некрасовской конференции и позвала после церемонии на фуршет, хотя я никакого отношения к литературоведам не имел, не участвовал в их вчерашних и сегодняшних семинарах и всё, что собирался сделать, – прочесть у памятника стихотворение «Похороны», отвечающее пожеланиям приглашающей стороны. С этими трогательными стихами я выступал уже раз двести, возможно, пятьсот, возможно, тысячу. Просто один из моих номеров. Как бы концертных.
Сказал Вике «скоро приду» и поспешил вдоль по улице Некрасова в сторону Литейного, чтобы найти искомое. К сожалению, рюмочных поблизости не было, а хотелось попроще. Формату потребления с минимальными моими потребностями навороченные бары здесь отвечали неидеально. Поначалу я их игнорировал, а когда подумал, что такими темпами добегу до гранитной головы Маяковского, велел себе тормознуть; случилось это на углу Некрасова и Радищева. Зашёл.
Не совсем то, но выбирать некогда.
Там уже трое этих сидели, узнал их по бейджикам, повешенным на шею. А они по тому же признаку узнали меня: увидели сразу, что свой. Один из них, с длинной седой бородой, пригласил жестом руки подсесть; у них графинчик стоял на столе, лежали бутерброды на блюдечках. До фуршета дотерпеть сил у них не было; я их понимаю. Взял себе у стойки нелепые восемьдесят, подсел к ним, представился. Почему «нелепые»? Потому что нелепые. Потому что ни то ни сё. И это называется «двойная»? Если одинарная меньше пятидесяти, это то же самое, что вообще ничего. А два раза этого ничего – и не пятьдесят, и не сто в итоге, а какие-то нелепые восемьдесят. В этом отношении я принципиальный антизападник.
Литературоведы, узнав, что я актёр и что намерен прочесть на их торжественном мероприятии стихотворение «Похороны», очень обрадовались и похвалили меня за выбор, правда, один сначала засомневался, правильно ли читать про похороны, если тут день рождения, но я ответил ему, что, во-первых, спасибо, я и не знал, что он родился, знал, что родился и умер зимой, но не помнил, что сначала – умер или родился, а во-вторых, какая разница – не самого же Некрасова хоронят в его «Похоронах», там ведь погребают самоубийцу, чужака, застрелившего себя из ружья на чужой сторонушке, – так? – и те двое меня поддержали, сказали, что да, всё так, это очень некрасовское стихотворение, одно из лучших, и что, конечно, уместнее будет про это, чем про Музу, которую бьют кнутом.
На самом деле, когда я пришёл, они говорили о Хармсе. Вспоминали «Случаи», вернее, как я понял из дальнейшего разговора, один случай – известный под названием «Вываливающиеся старухи». Там старухи, как всем, конечно, известно, выпадали из окон от чрезмерного любопытства одна за другой; седобородый утверждал, что этот дом должен быть где-то поблизости, потому что в тексте упомянут Мальцевский рынок. Сомневающийся опять засомневался: а не Сенной ли? Ему его же коллеги говорили: «Мальцевский», – а он, даром что некрасовед, упрямился: «Говорю вам, Сенной!» Тут уже я не выдержал: «Конечно, Мальцевский», – и прочёл им этот короткий «случай» наизусть, менее семидесяти слов в общей сложности, а я когда-то играл моноспектакль по Хармсу. Финал там такой: «Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль». Литературоведы ещё больше обрадовались знакомству со мной, тут-то мы вместе и выпили, а который был в квадратных очках, сказал, что в отношении слепого этот «случай» вполне правдоподобен – действительно могли подарить какому-нибудь нищему слепому вязаную шаль, что должно было бы запомниться обитателям и посетителям рынка, а до Хармса, жившего неподалёку, на улице Маяковского, просто дошёл слух. Отсюда и безличное «говорят», отражающее реальный бытовой случай, зафиксированный Хармсом: о том действительно говорили. Седобородый согласился, подтвердив, что по воспоминаниям современников Мальцевский рынок просто кишел карманниками и нищими. Некрасоведы стали фантазировать. Один предположил, что потомок того нищего, сам уже дед, мог бы и сейчас жить в каком-нибудь из этих домов, и вот было бы здорово, если бы у него сохранилась та вязаная шаль, да пусть хотя бы остатки её, недоеденные молью («вот бы пригласить его на нашу конференцию по Некрасову!»). Другой предположил, что раз потомок живёт в квартире, принадлежащей тому слепцу, значит, тот нищий слепец был не просто нищ и слеп, но сильно отличался от прочих нищих. А не работал ли он в НКВД? Тут они все ухватились за эту идею. Получить в дар ценную вещь – молоток, мухобойку, вязаную шаль – у него было возможностей больше, чем у других, потому что этот слепой не стоял у входа, как все, а постоянно бродил вдоль прилавков, к этому его обязывала служба: он смотрел, нет ли здесь японских шпионов. Так он не был слепым, он только прикидывался!.. Он был мнимослепым!.. Договорились до того, что и вязаная шаль была неспроста – тайным знаком была, вещественным паролем… А слепой, мнимый он или не мнимый, сам был шпионом. Английским.
«Постойте, – воскликнул я, – но раз шаль существовала в реальности и этот человек тоже, почему мы решили, что нереальна история с выпадающими из окон старухами? Не случилось ли здесь…»
«Коллективного самоубийства? – подхватил седобородый. – А что? Может быть!»
«Ну ладно!.. Чтобы выпрыгнули из окна одна за другой сразу шесть старух?» – недоверчиво спросил сомневающийся.
«Почему бы и нет?»
«Но для этого необходимо изучить милицейские архивы. Боюсь, это технически невыполнимо».
«Игра стоит свеч, – сказал в квадратных очках. – Если всё окажется правдой, это будет означать, что мы вообще не так понимаем Хармса».
«Да уж, – сказал седобородый, – всё, что мы считали абсурдом, окажется правдой».
«И наоборот», – сказал в квадратных очках.
Мне было интересно, как относился Хармс к Некрасову. «Так же, как Некрасов к Хармсу», – сказал в квадратных очках. «То есть никак», – пояснил мне сомневающийся, как если бы я был тупым и не понял, что сказал мне в квадратных очках. Это восхитительно, литературовед, не знающий хрестоматийного Хармса, будет меня учить, родился или умер Некрасов и были ли они современники с Хармсом!.. «В лучшем случае с иронией», – почтительно добавил седобородый.
В целом мне показалось, что специалисты по Некрасову знатоками Хармса были поверхностными.
С Даниила Ивановича они перепрыгнули на Самуила Яковлевича – вспомнили, что улица Некрасова прежде называлась улица Бассейная, и закономерно перешли к личности Человека Рассеянного с улицы Бассейной, но мне уже было не до маршаковских мотивов, я сказал: «Мне пора». Литературоведы, похоже, нацеливались сразу на фуршет и собирались прогулять сходбище с возложением, но теперь им было неловко не послушать, как я буду читать «Похороны» у памятника Некрасову, и они обещали прийти, хотя я и не приглашал их вовсе.
Я немного опаздывал, пришлось поспешить – 80 г доза смешная, но слишком быстрому шагу способствует плохо. Я запыхался.
Церемония уже началась.
Народу было человек двадцать пять – тридцать, на мой взгляд, порядком: кроме участников некрасовской конференции да ещё нескольких бабушек от себя, было сколько-то от районной администрации – мероприятие явно шло в зачёт не по одному ведомственному направлению. Цветы уже у ног поэта лежали, их до меня возложили, перед речами.
Когда я подошёл, выступала чиновница в зимнем шерстяном берете и долгополом сером пальто; она говорила о том, как ценят Некрасова в этом поистине некрасовском районе города. За плечом её стоял ведущий в куртке и красном галстуке, кричащем об отсутствии шарфа. Вика меня сразу увидела, она подошла к ведущему, что-то ему сказала, он метнул взгляд в мою сторону, и мы друг другу кивнули. Теперь я мог спокойно ожидать своей очереди.
Всё как обычно – микрофон, слово такому-то, слово другому. Бронзовый Некрасов к улице Некрасова стоял боком – почему-то он глядел на Греческий проспект, а не на улицу своего имени. Голые деревья торчали на расстоянии друг от друга – зимой это место мало похоже на сад. Было зябко, хотя и выше нуля, и мне подумалось, что мы пришли сюда, чтобы разделить с памятником его одиночество и неуют.
Чтобы не заскучать, я свой не слишком крепкий организм стал поощрять благодарственными мыслями: при зябкости такой и при такой продолжительности мероприятия мне самому становилось радостно, насколько же он все-таки прав, когда не таит в себе желание выпить.
Наконец, ведущий объявил меня, причём в очень лестных для меня выражениях. Я подошёл к микрофону.
Когда случается читать эти «Похороны», ничего лишнего не говорю – никаких там предисловий, никакой отсебятины. Только название: «Похороны». А дальше – текст. В этот раз – не назвал автора даже. А зачем? Кто автор, поди, сами догадаться способны, чай, не Пушкина чествуем и не Маяковскому памятник.
Я могу эти «Похороны» читать хоть с конца до начала, хоть с середины в оба конца чересполосицей. Как угодно могу. Я столько раз читал эти «Похороны», что мне кажется, они будут последнее, что я в этой жизни забуду, – уж во всяком случае, после таблицы умножения, впади я в маразм. Без разницы – с выражением ли, отработанным до автоматизма, или импровизируя по части эмоций, я могу, тормоша покорную мне аудиторию, менять в любых пределах яркость декламации этих душераздирающих «Похорон» и при этом думать о чём-нибудь своём, об отвлечённом.
Порой мне самому кажется, что это не я декламирую, а оно само произносится мною, как если бы я непроизвольно чесал себя за ухом, занятый своими проблемами, и даже не замечал этого.
Читаю медленно, не торопясь. На всё у меня уходит 5 минут 40 секунд.
Меж высоких хлебов затерялосяНебогатое наше село.Сегодня я позволил себе похулиганить – на этих, начальных словах обвёл рукой перед собой пространство «небогатого нашего села» – от серой громады в стиле модерн на улице Некрасова до казённого здания на Греческом проспекте; публика заулыбалась, а я теперь думаю, не потому ли меня дальше торкнуло, что я вот так невзначай обозначил личную причастность к событию?
Горе горькое…Вот!
…по́ свету шлялося…Вот же, вот – внимание!
И на нас невзначай набрело.Там, строкой выше, ударение со сдвигом – на предлог по, а тут лексическое – на нас, разумеется. Горе горькое набрело… На нас так на нас – я всегда это проскакиваю легко, но вообще-то есть проблемка с пониманием текста. То есть как это – «и на нас невзначай набрело»? А без этого, что ли, мы и горя не знали? В нашем-то селе? Ну, придёт чужачок, ну, застрелится, как сейчас расскажу, – и это для нашего села Горюхина, или как там его, будет самое горькое горе? То-то мы без горя жили?
Всегда странным казалось. Но прежде эту странность я и воспринимал как некую данность. А тут задалось во мне это всё не вопросами – ощущением, и ответилось на то же ощущением, что готов я поверить в непомерную горечь того горького горя. Нет, как актёр – я и так верил; как актёр я во что угодно способен поверить, иначе зрителя не убедишь, но сейчас во мне кто-то помимо актёра готов был поверить – знаете ли, за спиной Станиславского – в то, что давеча я ещё считал преувеличением. И это для меня стало новостью.
Короче, я всего им четыре первых строки прочёл, а уже отметил краем сознания – как-то не так у меня на душе: не задалось оно с настроением как-то…
Позже, обдумывая природу моего эксцесса, из всех возможных причин я менее всего грешил на заблаговременно принятое. Не первый раз и не последний – и мне ли не знать своей персональной профессиональной нормы? Другое дело, вышеупомянутый широкий жест рукой касательно «небогатого нашего села», этот мах при всей его ироничности, в самом деле, мог мне триггером быть, переключателем самосознания – на личностное восприятие вот всего того и всего этого… А главная причина, полагаю сейчас, это зябкость была. Было зябко. Не морозно, не холодно – зябко. Петербуржская наша зябкость, когда ошибиться одеждой легко, и мурашки бегут не по коже уже – по душе.
А тут ещё надо было «ой» сказать.
Теперь шла рискованная строка с восклицанием «ой» – способным вызвать комический эффект, если произнести не с тем чувством. Помню, как десятиклассники захихикали, когда услышали из моих уст:
Ой, беда приключилася страшная!С тех пор я это «ой» стал растягивать – ооооооой – скрипучим, как спросонья, голосом, словно мне в этот момент начинало вспоминаться что-то, о чём страшно не хотелось мне вспоминать. Это работало. И я как актёр, конечно, всегда верил в эту беду, сообщая о ней с подобающей интонацией, но сейчас, здесь и сейчас, на этом месте, произнося это скрипучее ооооооой, к своему, может быть, ещё не ужасу, но изумлению, я опять почувствовал в себе помимо актёра кого-то, кто слушал и слышал, как прежде я не умел, нечто жуткое, роковое – растворённое в здешнем воздухе и вместе с тем пугающе тяжёлое. Беда была непомерной.
Мы такой не знавали вовек…И опять же, слова ничего не объясняли, наоборот, утаивали. Что-то непомерно страшное, причастное к ним, к словам, не раскрывалось ими, а, напротив, скрывалось – по крайней мере, для меня, всегда считавшего преувеличением «горе горькое» вот из-за этого:
Как у нас – голова бесшабашная —Застрелился чужой человек!У меня соседка, сорок два года, повесилась. На лестнице здоровались. Знал, как зовут. А это знание посильнее будет, чем у некрасовских селян об их «чужом человеке». Повесилась – мало хорошего. Я ей не судья. Приходил её брат, спрашивал, не надо ли книги. Она книги читала, у неё были. Я взял две. Из вежливости. А может, и не из вежливости – хорошие книги. Я книгами не пренебрегаю. Даже сегодня. А может, не брат.
Скажем ли мы, дорогие жильцы нашего дома, об этой беде: «Мы такой не знавали вовек»? Нет, конечно. Много бед на свете. И у всех болячки свои. А у тех дети в младенчестве умирали. Голод случался. Да мало ли что… А тут «горе горькое… на нас… набрело» – «застрелился чужой человек». Чужой!
Или я не понимаю чего-то? Пришёл кто-то чужой, застрелился, и хуже того ничего мы не можем представить?
Далее – что называем социалкой:
Суд приехал… допросы…И вдруг словечко:
– тошнехонько!И опять социалка:
Догадались деньжонок собрать:Осмотрел его лекарьИ опять словечко:
скорехонько– вот на этой авангардной рифме во мне и проклюнулось. По-настоящему. Чувствую, ноги стали дрожать – прямо в коленях.
И велел где-нибудь закопать.Это лекарь, значит, велел. А у самого – ком к горлу.
И пришлось нам нежданно-негаданноХоронить молодого стрелка,Без церковного пенья, без ладана,Без всего, чем могила крепка…Читаю, а у самого голос дрожит. Только этого не хватало, думаю. Э, думаю, не переигрывай… То есть как «думаю»? А значит, так думаю, что моё ещё одно я себя обнаруживает, готовое на меня со стороны воздействовать. Это я-со-стороны моё мне говорит: «С ума сошёл? А ну-ка, хорош переигрывать!» А я бы и рад, так оно само так получается – про «солнышко знойное», про лицо его «непробудно-спокойное»… про то, как в гробу он лежал под лучами-то солнышка знойного этого…
Да высокая рожь колыхалася,Да пестрели в долине цветы…И ещё меня пугало, что это только началом было, я знал – вся жуть впереди. Пташка сядет на гроб, вот прямо сейчас, а потом мы все заплачем, завоем вместе с детками, а потом вопросы, вопросы пойдут безответные… Вот и птичка:
Птичка божья на гроб опускаласяИ, чирикнув, летела в кусты.Жуть, а не птичка! Меня уже трясёт не по-детски, а моё я-со-стороны, эта хрень выручалистая, мне установку даёт: «Спокойно! Спокойно! Спокойно!» – и на воробьёв отвлекает, и про урну напоминает, которую на углу видел, а ворона из неё, помню ли я, обёртки жирные вытаскивала и по саду разбрасывала? А птичка божия голубь и сейчас, поди, на голове Некрасова сидит, подними-ка голову – весь памятник голубями обосран. Умеет оно, моё я-со-стороны, одномоментно всякую херню в точечном заряде сосредотачивать и стремительно разряжать его в моем подсознании ради моего же спасения. Или в сознании. Какая разница. Но не всегда. Не всегда получается. Забудь про птичку! Птичку проехали.
Поглядим: что ребят набирается!Покрестились и подняли вой…Вот оно. Вот оно. Чувствую, уже сам завыть готов – так оно меня забирает, и лишь утроением напряжения воли едва себя сдерживаю, чтобы не взвыть…
Мать о сыне рекой разливается…А я сдерживаюсь. Из последних сил.
Плачет муж по жене молодой…Здесь не о конкретном случае, а вообще – как примеры того, как бывает: здесь про то, что им плакать судьбой велено… И то верно:
Как не плакать им? Диво велико ли?Своему-то свои хороши!Ну, можно ли такое на человеческий язык перевести? «Своему-то свои хороши…» Это покойнику своему – хороши, в общем случае – когда взрослые плачут, сами.
А по ком ребятишки захныкали,Тот, наверно, был доброй души!«Доброй души» у меня произнеслось высоким, срывающимся, почти не моим голосом. Слёзы навернулись на глазах, нет, так лучше: кожею щёк ощутил их – бегут, что у тех ребятишек, но про то, как он успокоился «под большими плакучими ивами», я всё же сумел прочесть более-менее сдержанным голосом, хотя и дрожащим, сумел хоть как-то взять себя в руки, да только потом вопросы пошли те самые, и тут меня ещё сильней затрясло.
Что тебя доконало, сердешного?Ты за что свою душу сгубил?Я-со-стороны моё здравомыслящее, лучше меня самого меня знающее, поторопилось отвлечь меня Хармсом. Даниил Иванович, палочка ты моя выручалочка… Я-со-стороны, предохранитель мой и хранитель, хорош, говорит мне, страдать, тем более из-за одного какого-то суицидника, а как тебе шесть глупых старух, целых шесть безвестных старух прыг, прыг из окон? Где-то здесь, где-то неподалёку… Ась? На улице Маяковского, где Хармс жил?.. Ну, не знаю, не знаю… Взгляд, мутный от влаги, устремил я, обернувшись через левое плечо, на Мальцевский рынок, недавно Некрасовский, предощущая спасительную коррекцию Хармсом, только Мальцевский рынок заслонял дом – Евангелической женской больницы корпус жилой… А вдруг из окна кто-нибудь выпадет?.. Строй переживаний моих уже было переключиться в другой регистр приготовился, более подобающий обстоятельствам выступления, как тут в моей актёрской практике впервые случилось вторичное расслоение: ещё один мой двойник обнаружился – я-со-стороны-другое. «Плачь, – оно мне велело, – плачь, если хочется, плачь!» А мне-то как раз не хотелось. По уму-то… совсем не хотелось… А по состоянию души… Ох…



