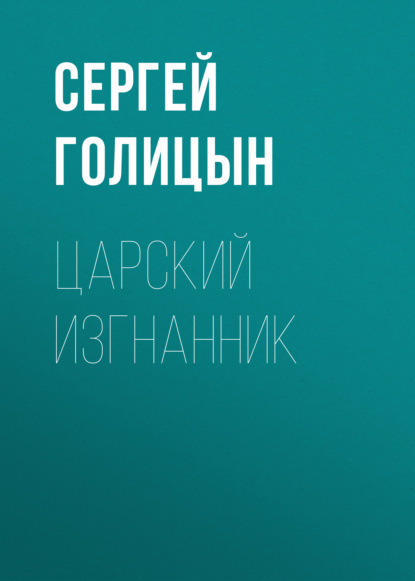 Полная версия
Полная версияЦарский изгнанник
– Послушай, Мишенька, помиримся лучше, – сказала Серафима Ивановна, подойдя к мальчику, – я тебе, если хочешь, позволю давать уроки Анисье и сама поучусь у тебя по-немецки и по-итальянски, только не пиши дедушке об архимандрите. Неужели тебе не жаль огорчить дедушку?
– А разве это огорчит его? – спросил Миша, призадумываясь.
– Как же, очень огорчит. Дедушка думает, что ты добрый мальчик, и вдруг узнает, что ты такой упрямый и что ты вывел меня из терпения, еще он думает, что тебе весело ехать со мной за границу, а ты напишешь, что я тебя ущипнула, ну он и рассердится на тебя, да ему и жаль будет тебя, он будет плакать…
– Так не писать этого дедушке? Я не хочу, чтоб он плакал…
– Нет, душенька, не надо… Я вижу, что ты добрый и хороший мальчик, что ты любишь дедушку, я тоже очень люблю его. Не забудь же оставить мне страничку, я припишу кое-что о тебе, напишу, что я тебя еще больше полюбила…
На следующий день опять после обедни зашли к архимандриту Симеону, – попросить его отправить письма Чальдини; регулярного почтового сообщения между Киевом и Москвой не было: запорожские казаки и крымские татары пошаливали на пути, сваливая – при требовании русским правительством удовлетворения – свои шалости одни на других.
– Это очень кстати, – сказал отец Симеон, – письма ваши отправятся нынче же, я каждую пятницу отправляю нарочного по делам лавры к святейшему патриарху…
Закусив у архимандрита и походив вместе с ним по пещерам, Серафима Ивановна возвратилась с племянником домой. Шестерка сытых курьерских лошадей, уже запряженных, стояла у постоялого двора, нетерпеливо шлепая копытами о мягкую грязь. Анисья укладывала погребцы. Фельдъегерь, подсадив в дормез Серафиму Ивановну и Мишу, подсадил тоже и Анисью и сам вскарабкался на козлы. Чальдини уже давно сидел на своем месте, дремля под однообразные постукивания дождевых капель о стекла дормеза. Ямщики дружно погнали лошадей, и дормез покатился крупной рысью вверх по гористому предместью.
– Ишь фря какая! – сказала Серафима Ивановна Анисье. – Туда же, надо ее подсаживать, сама влезть не может… Вот я тебя когда-нибудь подсажу!..
К вечеру следующего дня наши путешественники, переехав русскую границу, остановились ночевать в Бердичеве, большом жидовском городе, тогда принадлежавшем Польше, а после второго раздела Польши доставшемся России вместе с Подольской и Минской губерниями.
Глава II
От границы до Парижа
По приезде в Бердичев фельдъегерь объявил Серафиме Ивановне, что служба его при молодом князе окончена и что он по приказанию князя Василия Васильевича должен в тот же вечер отправиться с депешами в Полтаву.
Прощаясь с фельдъегерем, Серафима Ивановна дала ему рублевик. Чальдини разинул рот, увидев такое скудное вознаграждение за шестидневные труды.
– Будет с него, ведь ты слышал, что он не мне, а молодому князю служил, пускай же молодой князь и платит ему.
Миша тут же вынул из кошелька и дал фельдъегерю две большие золотые монеты; в числе их был подаренный Серафимой Ивановной Людовик XI.
Фельдъегерь не взял ни золотых Миши, ни рубля Серафимы Ивановны.
– Мне не нужно никакой платы, – сказал он, – князь Василий Васильевич уже наградил меня и наградит еще. Изволь только, боярышня, написать записку, что я благополучно доставил вас до границы; в Полтаве я пробуду дней пять или шесть, а там поеду прямо в Москву, к князю, и доложу ему, что добрый молодой князь хотел отдать мне свои золотые. Это его порадует, доложу, что внучек в дедушку пошел.
– Ну а о рублевике, чай, тоже расскажешь князю, – спросила Серафима Ивановна.
– Коль к слову придется, и о рублевике доложу, – отвечал фельдъегерь, не скрывая насмешливой улыбки.
– Как же, не насплетничать никак нельзя! – пробормотала Серафима Ивановна сквозь зубы. – А ведь я с тобой, Григорьевич, только пошутить хотела, у меня для тебя не рублевик, а тридцать рублевиков приготовлены, вот они в этом мешочке, возьми их, да не забудь же сказать князю…
– И тридцати не возьму, боярышня…
– Иль и этого мало тебе? Ненасытная твоя душа…
– Не мало, а взять все-таки не возьму, хоть сто червонных высыпи, так и то… одним словом, князь Василий Васильевич не велел.
– Так бы давно и сказал, голубчик… – «А жаль, что я не знала этого, – подумала Серафима Ивановна, – не рублевик бы предложила я ему…» – Ну прощай, Григорьевич. Вот тебе записка к князю, да кланяйся и ему, и молодым князьям, и Машерке кланяйся – я сестрицу, княгиню Марию Исаевну, с детства привыкла Машеркой звать; так не забудь же, Григорьевич, доложить князю Василию Васильевичу, что ты сам отказался от ста червонцев, а что я, может быть бы…
По уходе фельдъегеря Серафима Ивановна обратилась к племяннику:
– Нет, Миша, – сказала она, – чем больше я на тебя смотрю, тем больше убеждаюсь, что твое воспитание совершенно исковеркано и что мне придется обратить на него серьезное внимание. Ну как смел ты, например, давать золотые этому грубияну? Уж я не говорю о том, что если б ты любил и ценил меня, как должно, то ни за что не расстался бы с Людовиком Одиннадцатым, которого я дала тебе на память.
Миша стоял перед теткой, хлопая глазами и ничего не отвечая ей. Он все больше и больше дивился происшедшей и продолжающей происходить в ней перемене.
– Что ж ты стоишь как истукан и ничего не отвечаешь? Ведь я у тебя, кажется, спрашиваю: как ты смел дать фельдъегерю двадцать рублей без моего позволения?
– Да ведь ты сама, тетя, велела. Разве ты не помнишь, что ты сказала доктору? Да где доктор?
– Я на смех сказала это, сказала для того, чтоб этот болван-фельдъегерь понял, что он служил мне, а не тебе. Твое дело было понять, что я сказала это на смех. А ты обрадовался, что он, вишь, тебе служил: на вот, мол, тебе два золотых!.. Ну а мой-то, заветный, зачем хотел ты отдать этому болвану? Кто позволил тебе распоряжаться моим золотым?
– Ты его дала мне, значит, он мой, а не твой, тетя. Если он твой, так возьми его в свой кошелек. Вот он.
– Разумеется, возьму; да и твои все возьму. Дай-ка их сюда…
– Нет, своих золотых я не дам, мне их подарил дедушка…
– А, так ты так, негодный мальчишка! Дедушка подарил… На этого сонного итальянца, видно, рассчитываешь. Погоди!.. Аниська, принеси-ка поскорее розгу!
– Полно гневаться, матушка боярышня, – сказала Анисья, – ведь у них этого и в заводе нет.
– Ах ты негодница! Задумала учить меня! – закричала Серафима Ивановна, выталкивая Анисью из комнаты. – Пошла! Чтоб сейчас же были здесь розги: не то и тебя так отдеру, что забудешь, как прекословить мне. Ну, скорей у меня!
Анисья скрылась за дверью. Серафима Ивановна кинулась на Мишу и в ожидании розог схватила его за волосы. Он громко взвизгнул, ударил тетку по руке, освободился от нее и перебежал на другую сторону стола.
Началась игра вдогонки.
– Ах ты негодный мальчишка! Ах ты пострел этакой! – кричала Серафима Ивановна, бегая за Мишей. – Как ты смеешь! Сейчас пойди сюда! Хуже будет, когда поймаю! Аниська! Куда запропастилась, проклятая! Иди-ка сюда, держи этого скверного мальчишку!..
Анисья в это время, вместо того чтоб искать розги, искала Чальдини и нашла его в соседней корчме, пробующим венгерское. Он был немножко навеселе.
– Иди скорее, голубчик синьор, – сказала она ему, – vibere что там кефар с principello (Анисья, часто слышав русско-итальянские фразы Чальдини, отчасти переняла диалект этот); я должна розгу искать.
Из всей этой фразы Чальдини понял только слова principello (князек) и bastone (трость, палка); этого было для него достаточно, чтобы опрометью вскочить из-за стола и побежать на выручку.
Игра вдогонки все еще продолжалась: Серафиме Ивановне несколько раз удавалось догнать своего партнера, но он всякий раз, то подпрыгнув, то нагнувшись, выскальзывал у нее из рук. Запыхавшись от злости и от усталости, Серафима Ивановна продолжала, однако ж, игру:
– Погоди, постреленок! Будет тебе! Погоди, придет Аниська! Аниська, каналья! Да что это ты провалилась? Сто лет жди тебя!.. А! Вот она! Наконец-то!.. Иди-ка сюда, мерзавка! Подержи его! Раздевай его. Вот я ему задам!..
Анисья с пучком розог в руке поспешно подбежала к Мише и, видя, что он собирается защищаться, взяла его за обе руки и шепнула: «Не бойся, голубчик, ничего не будет, это я так, дохтур велел».
Серафима Ивановна с яростью подбежала к Мише и подняла уже руку, чтоб схватить его за волосы или за ухо, но в эту самую минуту дверь отворилась, и в нее вошел Чальдини.
– Погодите, синьора Серафима; я был бы в отчаянии, если б заставил вас дольше ожидать себя, – сказал он скороговоркой.
Миша кинулся к своему избавителю.
– Поедем скорее назад, я боюсь. – У мальчика начинался истерический припадок.
Чальдини взял его на руки и унес в корчму, в которой у него оставалась еще недопитая бутылка венгерского. Он дал ребенку выпить полрюмки, успокоил и ободрил его, сказав, что подобная сцена уж никогда больше не повторится, и, дав ему отдохнуть, через полчаса возвратился вместе с ним к Серафиме Ивановне.
Она лежала на кровати, охая и вздыхая и в промежутках между оханиями браня Анисью. Когда вошли Чальдини и Миша, она застонала еще жалобнее и, обратясь к Мише:
– Ты меня в гроб сведешь, – сказала ему торжественно-укорительным голосом. – Я взялась за твое воспитание; и отец, и мать, и дедушка твои со слезами просили меня об этом; а ты, неблагодарный мальчик, хочешь меня в гроб свести…
Чальдини спросил у Миши, что Серафима Ивановна сказала. Миша перевел ее патетическую фразу.
– Это все вздор, – сказал Чальдини, – не верьте этому.
– Доктор не верит тому, что ты сказала, тетя, и мне советует не верить, – сказал Миша.
– Да что этот проклятый итальянец вмешивается не в свое дело! – взвизгнула Серафима Ивановна неистовым голосом. – Скажите пожалуйста, ему, что ли, поручен ты или мне?..
Миша опять перевел и вопрос Серафимы Ивановны, и ответ на него доктора.
– Доктор говорит, – сказал он, – что я поручен тебе, тетя, если ты будешь обращаться со мной, как следует обращаться с детьми, а если ты вздумаешь обижать меня, то и дедушка и папа не велели ему давать меня в обиду, а велели увезти меня от тебя подальше. У доктора и бумага есть…
Чальдини вынул из портфеля бумагу, на которой Серафима Ивановна узнала почерк Мишиного отца. В третьем параграфе этой бумаги, написанной по-латыни и переведенной по-русски, было сказано: «Если за пределами Российского государства доктор Чальдини найдет обращение Серафимы Ивановны Квашниной с сыном моим, князем Михаилом Алексеевичем Голицыным, в чем-нибудь противоречащим получаемому им дома воспитанию, то имеет он немедленно, с нарочным отправить пакет за номером седьмым к русскому посланнику той страны, в которой они в то время находиться будут; в ожидании распоряжения господина посланника имеет доктор Чальдини переехать с сыном моим на другую квартиру, а по окончании с госпожой Квашниной всех расчетов, поручить ее покровительству господина посланника, а ему, доктору Чальдини, продолжать путь с моим сыном до Парижа, где и сдать его с рук на руки господину адмиралу графу Шато Рено».
Есть натуры, – отменно подлые натуры, – которые готовы затоптать в прах доброго, слабого, уступчивого человека, которые готовы засечь до смерти беззащитного ребенка и которые сами делаются уступчивыми до низости при первом получаемом ими отпоре. Прочитав третий параграф инструкции и видя по объему инструкции, что она не ограничивается тремя параграфами, Серафима Ивановна догадалась, что, несмотря на мнимое свое легкомыслие, князь Алексей Васильевич позаботился оградить своего сына от случайностей продолжительного путешествия его с кузиной и совоспитанницей Машерки. Действительно, князь Алексей Васильевич, уже и прежде неохотно доверявший своего сына Серафиме Ивановне, как скоро услыхал от своего отца подробности о характере квашнинской помещицы, отправил к архимандриту Киево-Печерской лавры курьера с секретным пакетом, который архимандрит и передал доктору Чальдини.
Увидев, что дело приняло такой неожиданный для нее оборот, Серафима Ивановна изменилась мгновенно, калейдоскопически: искрометные глаза ее приняли самое кроткое выражение, на лице ее, все еще красном от гнева, выразилось смирение необычайное, ее голос из визгливого сделался сладким, как голос сирены. Она встала с постели, слабыми шагами подошла к Мише, села около него, посадила его себе на колени и начала целовать его в лицо, и голову, и руки.
– Голубчик мой! Как он испугался! – приговаривала она. – Как он устал! Весь запыхался! Отдохни, голубчик!.. А все эта Аниська дрянная! Как ты смела принести розгу? Не могла понять ты, что я шучу?
– Виновата, матушка боярышня. Я думала…
– То-то думала, дура! Вот этой розгой тебя бы!.. Так обижать моего голубчика Мишу! Неудивительно, что почтеннейший доктор так огорчился этим и хочет написать посланнику. Сейчас же проси у него прощения, дура…
С этого вечера положение Миши изменилось; Серафима Ивановна, как будто исполняя данное ему в Квашнине обещание, обращалась с ним так же мягко, как и при дедушке, не браня его даже тогда, когда и следовало бы побранить. К ее большому удивлению, Чальдини довольно легко согласился для первого раза простить дуру Аниську, то есть не посылать нарочного в Варшаву и не доводить этого прискорбного недоумения до сведения князя Василия Васильевича и его сына. Чальдини продолжал предпочитать сон всякому другому препровождению времени, но Серафима Ивановна уже не верила в сонливость лукавого итальянца, всегда готового проснуться так для нее некстати.
Анисье все еще иногда доставалось, но больше на словах, чем на деле, и изредка только, самыми незначительными, на скорую руку даваемыми толчками. Она очень философически переносила и те и другие мудрые пословицы: «Брань на ушах не виснет» и «Русский человек за толчком не гонится».
Мише, как часто бывает с мальчиками его лет и как читатель уже видел, очень хотелось быть учителем, то есть давать Анисье уроки французского языка.
– Ну стоит ли она этого? – возражала Серафима Ивановна. – Лучше поучи меня по-итальянски, я тебе спасибо скажу: я рада буду уметь говорить с почтеннейшим Осипом Осиповичем.
Итальянские уроки надоели Серафиме Ивановне со второго же дня.
– Нет, Мишенька, – сказала она, – я слишком непонятлива, да и язык-то такой мудреный, как будто и похож на французский, а выходит совсем другое, лучше уж поучи Анисью по-французски, коль тебе так хочется, а ты, дура, учись у меня хорошенько, умей ценить, что сам молодой князь учит тебя.
В Бродах случилась новая история, но совсем другого рода. Какой-то спекулянт-немец, предвидя значительную эмиграцию поляков в Западную Польшу из отошедших к России польских городов, открыл в Бродах роскошную гостиницу со всевозможным комфортом, навесил с трех сторон гостиницы огромные золоченые вывески: «Гостиница Польша», но цены на своих прейскурантах выставил не на польские злоты, а на австрийские, которые, как известно, ровно вчетверо дороже. Он рассчитывал, что иной поляк, особенно подгулявший, обидится, увидев счет в сорок или шестьдесят злотых, а между тем охотно заплатит десять или пятнадцать флоринов. Расчет немца оказался верным: он богател не по дням, а по часам и года в два прослыл первым богачом в городе. Кухня у него была хорошая, погреб еще лучше, богатые польские эмигранты останавливались исключительно у него, и разве изредка кто-нибудь из них поспорит из какого-нибудь лишне приписанного в счете червонца.
В Бродах русский язык был почти неизвестен.
– Спроси-ка, Мишенька, – сказала Серафима Ивановна, – какая здесь гостиница поскромнее да подешевле, а то эти ляхи да жиды готовы догола обирать проезжающих.
– Какая здесь лучшая гостиница? – спросил он.
Прохожий указал на гостиницу «Польша», и дормез въехал в ворота роскошной немецкой гостиницы.
Подали ужин, простой, но обильный и очень вкусно приготовленный. Вина, кроме Чальдини, никто из путешественников наших не пил, и Серафима Ивановна, велев подать для него бутылку венгерского, поморщилась и чуть было не отменила своего приказания, узнав, что эта бутылка стоит девять флоринов, то есть девять злотых, как она полагала.
«Ну да авось он всей бутылки сразу не выпьет, – подумала она, – остаточек с собой возьмем, ему же, пьянице, завтра пригодится».
Постели были мягкие, с пружинами, простыни, одеяла и наволочки – белые, прямо из прачечной, о клопах не могло быть и речи. Серафима Ивановна заснула как убитая и, проснувшись на следующее утро очень поздно, объявила, что с самого Квашнина ей ни разу не привелось поспать так хорошо, как в эту ночь.
Она потребовала счет и с большой радостью увидела на нем итог в двадцать один флорин. «Из них девять, – рассчитывала она, – пропиты итальянцем, значит, остальное, то есть и ужин, и ночлег, обошлось нам один рубль и восемь гривен, это очень, очень недорого…»
– А что, Осип Осипович, не отдохнуть ли нам здесь денька два или три? Ведь здесь очень недурно. Спроси-ка у него, Миша… Да не хочешь ли сходить с ним в кондитерскую? Вон цукерня написано.
– Ужо сходим, тетя, а теперь мне надо дать урок Анисье, – отвечал Миша с важностью профессора, не шутящего преподаваемым им предметом.
На четвертые сутки счет возрос до ста двадцати восьми с половиной флоринов. Серафима Ивановна отсчитала двадцать шесть пятизлотников, вручила их конторщику, принесшему счет, и щедро объявила, что остальные полтора флорина она жертвует на вудку ему, конторщику и прислуге гостиницы.
Немец начал объяснять ей на плохом польском языке, что с нее надо получить не сто двадцать восемь с половиной, а пятьсот четырнадцать польских злотых.
– Что он врет, Миша? Спроси-ка у него по-немецки. Мне чудится, что он просит пятьсот четырнадцать флоринов.
Миша объяснил тетке, что она действительно должна гостинице пятьсот четырнадцать злотых, потому что в прейскуранте цены обозначены австрийскими флоринами, стоящими на русские деньги по шестьдесят, а не по пятнадцать копеек каждый.
– Что он, разбойник, с ума сошел, что ли? Да где я возьму такие деньги? У меня и нет их. Скажи ему, что с меня прогоны до самого Львова вперед содрали, двадцать два рублевика с лишком содрали. Так какие ж у меня деньги?
– Возьми мои, тетя, коль у тебя нет денег, ведь здесь, ты сама говорила, очень хорошо, а доктор говорит, что хорошо, то и дорого.
– Нет, Миша, ты лучше скажи ему, мошеннику… Как по-немецки мошенник? Я сама скажу…
Чальдини попросил Мишу передать тетке, что так как она находит издержки гостиницы слишком значительными, то он просит у нее позволения принять половину счета на свою долю.
– Да! Знаю я, чтоб потом соком выжать у меня эту половину, – проворчала сквозь зубы Серафима Ивановна, – нет, Мишенька, скажи доктору, что не нужно, что дедушка не велел… А не уступит ли чего-нибудь этот злодей?
Злодей не уступил ни гроша, и Серафима Ивановна, ворча и бранясь, заплатила весь счет сполна, взяв для этого у Миши все его богатство, не исключая и заветного Людовика XI.
– Ты смотри, Мишенька, об этих деньгах ни дедушке, ни отцу не пиши, – сказала Серафима Ивановна, выезжая из Брод, – а во Львове, когда получу деньги по кредиту, отдам тебе твои шестьдесят рублей, помни же, что я взяла у тебя ровно шестьдесят рублей.
Неделю тому назад, до сцены в Бердичеве, Мише порядком досталось бы и за то, что он велел ямщику заехать в такую дорогую гостиницу, и за то, что, зная разницу между польским и австрийским флоринами, он не предупредил свою тетку об этой разнице, и, наконец, за то, что из сочтенных в Карачеве семидесяти одного рубля у него осталось в Бродах всего шестьдесят, а остальные деньги или истрачены, без ведома тетки, в цукерне, или, что еще хуже, – розданы попрошайкам, приносящим под предлогом бедности продавать в гостиницу самые ненужные вещицы: картинки, карандаши, перочинные ножички и прочую дрянь; но теперь Мише сходило с рук решительно все, и он не только часто пользовался, но даже щеголял своим независимым положением. При чужих людях он в особенности старался держать себя совершенно как большой, как настоящий учитель. Во Львове, например, в присутствии банкира, после урока Анисье, он остался довольный ее прилежанием и для поощрения дал ей пряник и пять грецких орехов в сахаре. Подобные поощрения случались довольно часто и прежде, Серафима Ивановна смотрела на них сквозь пальцы, косясь, правда, не на Мишу, а на Анисью.
Банкир привез ей во Львов сто червонцев, но Мише долг свой она не отдала, а только сказала, чтобы он не подумал, что она забыла этот долг: она не отдает его оттого, что все равно, где лежат его деньги – у него ли в кармане или у нее в шкатулке. Бедному мальчику конфузно было попросить у тетки, в счет долга, хоть десять гульденов на маленькие свои расходы и на поощрение своей ученицы. Заметив его горе, Чальдини предложил ему перехватить несколько гульденов у него, Миша стал было отказываться, но Чальдини настоял, сказав, что такая безделица нимало не стеснит его даже в том невероятном случае, если тетка откажется заплатить за Мишу. Миша занял у доктора два червонца, и поощрения, прекратившиеся было, начались опять.
Анисья все больше и больше привязывалась к своему маленькому учителю, которого она очень полюбила еще в Квашнине и который в дороге одним своим присутствием избавлял ее от многих неприятных стычек с ее помещицей. Поощрения она всякий раз принимала с большой благодарностью, но ела их редко, не иначе как по настоятельному требованию учителя, а большей частью откладывала для него же, на черный день.
«Бог знает, – думала она, – может быть, для него, для моего голубчика, опять настанут черные дни, так хоть пряничками да орешками потешу его…»
Училась Анисья так хорошо, успехи ее в русском и французском языках были так быстры, что она в какие-нибудь десять – двенадцать дней научилась по складам читать по-русски и знала наизусть много французских, очень для нее нужных, находила она, фраз. Серафима Ивановна не могла надивиться ее старанию и успехам.
– Эка ты дура, Аниська, – говорила она, – целые дни сидишь за тетрадью! Очень нужно учиться тебе грамоте да знать по-французски! Будто ты не понимаешь, что все эти уроки только так, в шутку, для забавы молодого князя, а ты и рада лакомиться его пряниками да цукерками да повторять, как сорока: «Покажи мне, где живет прачка». Незачем знать тебе, где она живет: велят, так и без прачки, сама выстираешь белье…
Анисья молча не соглашалась со своей помещицей и находила, что, отправляясь, может быть надолго, в страну, где никто не говорит на ее языке, и выучась, хоть немножко, говорить на языке этой страны, она не так сильно будет тосковать если не по отечеству, то по своей Анюте, по которой она не переставала грустить с самого отъезда из Квашнина.
– А что, principello, – спросила она раз у Миши (ей очень нравилось слово principello, особенно примененное к Мише), – что, если б я в Квашнине попросила твоего дедушку, чтоб Анюта ехала с нами? Ведь он, пожалуй, велел бы боярышне взять ее?
– Конечно, велел бы. Напрасно ты мне, Анисья, не сказала; я бы сам попросил дедушку; с Анютой нам было бы веселее ехать; да, кстати, я бы, пожалуй, и ее поучил.
– Видишь ли, и захотелось мне попросить тебя, да и забоялась я. Думала, боярышня отказала, так, видно, не судьба, а может быть, говорю, даже и к лучшему, что она отказала: при Карле Федоровиче, при больничном-то докторе нашем, Анюта отдохнет, говорю, он человек добрый. А кабы я знала, что и здесь будет не очень дурно, то, может быть, и решилась бы я поклониться твоему дедушке.
– Хочешь, Анисьюшка, я попрошу тетю, чтоб она велела прислать Анюту в Париж? Она мне теперь, ты видишь, ни в чем не отказывает, и в этом не откажет…
– Отказать-то она не откажет, – отвечала Анисья, – пожалуй, даже обещает, а все-таки ничего не сделает, да еще мне же и достанется. Вот кабы дедушке твоему или родителю написать, так совсем другое бы дело; да и то боязно: больно рассердится Серафима Ивановна на нас на обоих, если Анюта приедет в Париж без ее ведома. Лучше бы посоветоваться с Осипом Осиповичем, ведь завтра, слышь, мы весь день здесь?
– Да, тете хочется купить баранью шубку, ей очень расхвалили ольмюцких барашков, да и отдохнуть хочется ей.
– Так вот, когда она поедет по лавкам, а мы сядем за урок, так и попросить бы доктора подсесть к нам. Он надоумит нас, что делать. Он сам знает, что Анюту очень надо бы полечить в теплом месте; уж больно не любит она зимы, а в Париже, говорят, зимы совсем не бывает, не то что у нас в Квашнине.
На следующее утро как условились, так и сделали. Напившись кофе, Миша принялся за урок Анисье, а Серафима Ивановна отправилась по магазинам, велев завезти себя сперва к банкиру Виланду, лучшему в Ольмюце, то есть имеющему наибольшее число корреспондентов за границей.



