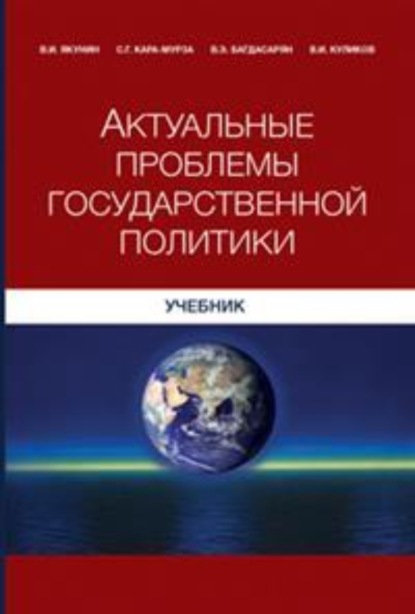 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы государственной политики
Легитимность без доверия – ситуация не просто возможная, но и частая.
М. Доган приводит такие данные: «Существует ли какая-то критическая точка, отмечающая утрату доверия, точка, когда легитимность режима становится неустойчивой? Италия в этом смысле может представлять собой клинический случай. Здесь начиная с 1973 г. ежегодно отмечают наиболее высокую пропорцию граждан, заявляющих о своем недовольстве тем, как действует демократия в стране. Так, например, в 1987 г. число недовольных составляло 72% и лишь 26% заявили о своем удовлетворении режимом. По результатам 25 опросов, проведенных между 1973 и 1990 гг., отрицательное суждение высказали более 70% взрослых итальянцев; лишь в 1987 г. эта пропорция была несколько ниже – 67%.
Однако Италия по-прежнему остается демократией, и ее легитимность оспаривается, очевидно, лишь незначительным меньшинством… За последние 20 лет абсолютное большинство граждан постоянно выбирало путь реформ, косвенно признавая легитимность режима. Число граждан (в процентном выражении), выбиравших "революционное действие", тем самым косвенно ставя под сомнение его легитимность, колебалось от 6% до 10% и только дважды – в 1976 и 1977 гг. – оно достигало 12%. Большинство итальянцев считало, что лучше “иметь посредственный парламент, чем совсем его не иметь”. В этих же опросах они обличали “многопартийность как источник всех бед”, в то же время признавая, что “партии необходимы в свободной стране”.
Теоретически это может быть объяснено тем, что недовольство и протест относятся лишь к действиями режима, а не к его легитимности».
Примерно так же обстоит дело с популярностью власти. Популярность дает некоторую прибавку легитимности, но непопулярные правители вовсе не становятся от этого нелигитимными. Вспомним, например, что в русской революции Керенский был чрезвычайно популярным, но легитимности так и не получил.
М. Доган пишет: «Во многих демократических государствах рейтинг президентов или премьер-министров, устанавливаемый при опросах, может оказаться невысоким, их политическая программа не одобряется, и даже сами их личные качества ставятся под сомнение. Этот феномен особенно ярко проявляется во Франции, Соединенных Штатах, Великобритании, Италии. Но невысокая популярность не обязательно означает недоверие к самому институту президентской власти. Когда президент избран в соответствии с конституционными нормами, он выполняет легитимную функцию, даже если и не вызывает доверия как политическая личность».
§ 5. Легитимность и культурная гегемония А. Грамши
Выше был приведен постулат Макиавелли, согласно которому государство стоит на силе и согласии. Наличие согласия – это и есть легитимность.
В начале 1930-х годов Антонио Грамши, развивая идею Макиавелли в приложении к современному урбанизированному обществу, разработал целое учение о завоевании легитимности и ее подрыве (делегитимизации). Оно изложено в большом труде «Тюремные тетради». Это учение Грамши разработал, развивая марксизм и осмыслив опыт протестантской Реформации, Французской революции, русской революции и фашизма.
Из истории политической науки
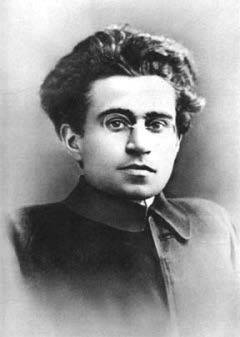
Антонио Грамши (1891—1937)
Итальянский философ-марксист и политический деятель, основатель Итальянской коммунистической партии.
Основное сочинение: «Тюремные тетради» (опубл. в 1975)
Важно!
Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия граждан с властью, Грамши называет культурной гегемонией. По его словам, «государство является гегемонией, облеченной в броню принуждения». Более того, гегемония предполагает не просто согласие, но благожелательное (активное) согласие, при котором граждане желают того, что требуется власти. Грамши дает такое определение: «Государство – это вся совокупность практической и теоретической деятельности, посредством которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь при этом активного согласия руководимых».
К выводам, близким идеям Грамши, совсем иным путем пришли и другие крупные мыслители. Американский философ Дж. Уэйт, исследователь Хайдеггера, пишет: «К 1936 г. Хайдеггер пришел – отчасти ввиду его политического опыта в условиях нацистской Германии, отчасти как результат чтения работ Ницше, где, как мы легко могли убедиться, выражены фактически те же мысли, – к идее, которую Антонио Грамши (почти в это же время, но исходя из иного опыта и рода чтения) называл проблемой “гегемонии”: а именно как править неявно, с помощью “подвижного равновесия” временных блоков различных доминирующих социальных групп, используя “ненасильственное принуждение” (включая так называемую массовую или народную культуру), так, чтобы манипулировать подчиненными группами против их воли, но с их согласия, в интересах крошечной части общества».
Как достигается или подрывается гегемония? Кто в этом процессе является главным агентом? Гегемония – не застывшее, однажды достигнутое состояние, а динамичный, непрерывный процесс. Ее надо непрерывно обновлять и завоевывать.
Важно!
Гегемония опирается на «культурное ядро» общества, которое включает в себя совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на сохранение существующего порядка.
Для подрыва гегемонии надо воздействовать не на теории противника и не на главные идеологические устои власти, а на обыденное сознание, на повседневные, «маленькие» мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздействия – неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. Это не изречение некой истины, которая совершила бы переворот в сознании, какое-то озарение. Это «огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной степени однородности, той степени, которая необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени и географическом пространстве».
Важно!
Главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии в ХХ в. – интеллигенция. Именно создание и распространение идеологий, установление или подрыв гегемонии того или иного класса – главный смысл существования интеллигенции в современном обществе.
Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. Исходя из положений этой теории, была «спроектирована» и гласность в СССР как программа по подрыву гегемонии советского строя. Когда «кризис гегемонии» созрел и возникает ситуация «войны», нужны уже, разумеется, не только «молекулярные» воздействия на сознание, но и быстрые целенаправленные операции. Особенно эффективны такие операции, которые наносят сильный удар по сознанию, вызывают шок (типа провокации в Румынии в 1989 г. или «путча» в Москве в августе 1991 г.). Эти открытые действия по добиванию власти, утратившей культурную гегемонию, ведут, согласно концепции Грамши (в отличие от Маркса), не классовые организации, а исторические блоки – временные союзы внутренних и внешних сил, объединенных конкретной краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки собираются ситуативно и имеют динамический характер. Их создание и обновление – важная часть политической деятельности.
По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии – процесс «молекулярный». Он протекает не как столкновение классовых сил (Грамши отрицал механистические аналогии, которые привлекает исторический материализм), а как невидимое изменение мнений и настроений в сознании людей. Грамши подчеркивает, что «гегемония, будучи этико-политической, не может также не быть экономической». Но он уходит от «экономического детерминизма» истмата, который делает упор на базис, на отношения собственности.
Историческая иллюстрация
Вершиной «работы по Грамши» была перестройка в СССР («грамшианская революция»). Это была программа по разрушению идей-символов, которыми легитимировалось идеократическое Советское государство. Во время перестройки идеологи перешли от «молекулярного» разъедания мира символов, который вели «шестидесятники», к его открытому штурму, очень эффективному.
В послевоенные годы гуманитарные науки Запада (в основном США) сильно продвинулись в знании духовной сферы человека.
Возникли новые технологии дестабилизации и смены власти без прямого насилия (так называемые «бархатные» революции) или с малым насилием. Эти технологии были доведены до надежности и применены в Сербии и в республиках бывшего СССР (в Грузии и на Украине). В них «молекулярная агрессия» производилась не в сферу рационального, а в сферу чувств и воображения.
Подобный слом произошел в СССР в конце 1980-х годов. Поведение масс населения стало на время обусловлено не разумным расчетом, а всплеском коллективного бессознательного. В некоторых частях СССР раскачанное идеологами бессознательное привело к крайним последствиям.
Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в том числе прогрессивное, может не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества. Это показали свержения режимов даже больших арабских стран – при практически полном отсутствии рациональных требований социального порядка.
В принципе теперь для свержения власти требуется лишь сфокусировать на власть все частные виды недовольства – превратить тление в кумулятивный снаряд. У каждого человека есть причины для недовольства властью, и оно занимает в его сознании какое-то место, а остальное пространство сознания заполнено лояльными установками. В сумме недовольство одних частично компенсируются положительными оценками у других, и баланс недовольства и согласия сдвигается в безопасном диапазоне. Россыпь мелких групп людей, выражающих недовольство по множеству каких-то частных вопросов, не становится политической силой.
Но культурологи и социологи нашли способы «канализировать» недовольство, особенно плохо осознанное, на другой предмет. Так, население СССР, чувствуя с 1987—1989 гг. острое недовольство ввиду назревающего кризиса, вдруг сконцентрировало свои негативные эмоции на номенклатуре. В ней все увидели коллективного врага, виновника всех реальных и вымышленных бед, и вся россыпь людей и группок, недовольных разными сторонами жизни, сплотилась в политическую силу, направленную против Советского государства.
Мифические льготы номенклатуры были восприняты как такое нестерпимое зло, которое можно было избыть только свержением власти. Эта ненависть не была рациональной – к олигархам ненависти население не испытывает. Причина в том, что нет влиятельных сил, которые дали бы заказ СМИ создать образ олигархов как зло, канализировать на них все виды недовольства.
Советское государство и советский народ распались, их осколки пережили социальное и культурное бедствие – ясно, что легитимность прежнего государства была утрачена полностью. Государство не смогло обеспечить сохранения страны (СССР) и народа.
Особые проблемы с легитимностью возникают в ситуациях глубоких кризисов и следующих за ними «переходных» периодов. Таков именно случай постсоветской России после краха прежней государственности.
Основные выводы
Легитимность – это убежденность большинства общества в том, что данная власть действует во благо народу и обеспечивает спасение страны, что эта власть сохраняет главные ее ценности.
Законность (легальность) власти есть ее формальное соответствие законам страны, прежде всего конституции. Легитимность не отражается в законе. Легальность устанавливают сами институты власти (парламент, центральная избирательная комиссия или конституционный суд). Но формально законная власть еще должна приобрести легитимность, обеспечить свою легитимизацию, т.е. «превращение власти в авторитет».
Считается, что традиционная и харизматическая легитимность присущи авторитарным режимам, а в демократических современных государствах власть обеспечивает себе легитимность рационально-правового и бюрократического типа. Но в реальности чистые модели не встречаются. Политика авторитарных режимов бывает в высшей степени рациональной и эффективной, а в общепризнанных демократиях огромную роль играет харизматический лидер. Даже в традиционных монархических режимах есть компонента рационально-легальной легитимности.
Эффективность и легитимность взаимосвязаны, хотя правительства могут быть эффективными, не будучи легитимными, (как это бывает в тоталитарных режимах). Однако и первоначально легитимное, но не эффективное руководство быстро утрачивает легитимность.
Уровень доверия к институтам не следует смешивать с тем количеством людей, которые одобряют или не одобряют то, каким способом правительство решает различные возникающие проблемы: жилья, безработицы, школьного обучения, налогов, социального обеспечения, пенсий и т.д. Большинство граждан может быть неудовлетворено тем, как правительство руководит страной, и считать, что его политика не является справедливой. Но подобные мнения вовсе не предполагают делегитимации существующих институтов власти. Легитимность без доверия – ситуация не просто возможная, но и частая.
Культурная гегемония согласно А. Грамши опирается на «культурное ядро» общества, которое включает в себя совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на сохранение существующего порядка.
Контрольные вопросы
Охарактеризуйте легальность и легитимность: их основание и взаимодействие.
Каковы механизмы легитимации власти в обществах разного типа?
Каково соотношение легитимности, доверия, популярности и эффективности власти?
Дайте определение легитимности. Что представляет собой учение Антони Грамши о культурной гегемонии?
Дополнительная литература:
Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. М., 1990.
Грамши А. Тюремные тетради // Избр. произведения. Т. 3. М., 1959.
Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. 1992. № 5.
Липсет С.М. Политический человек. Социальные основы политики // Политическая наука. 2011. № 3.
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993.
Глава 15. Дезинтеграция и консолидация общества
§ 1. Общество как ключевой объект государственной политики и управления
Когда речь идет о государственной политике и управлении, за ними всегда возникает образ общества – и политика и управление организуют и регулируют общественные процессы.
В учебнике Г.В. Атаманчука «Теория государственного управления» сказано о функциях государства: «Прежде всего, это функция обеспечения целостности и сохранности того общества, формой которого выступает данное государство… Конечная цель политики в объективном смысле сводится к созданию условий для спокойного и гармоничного развития общества».
В этом суждении можно усомниться в деталях, но главное верно: государство обязано обеспечить сохранность и целостность общества, это смысл его деятельности. Покой и гармония – это уже как повезет.
Встает, конечно, вопрос: кто кого породил – государство плод усилий общества или наоборот? Многие считают, что первично общество, оно и создает для себя государство. Например, Г.В. Атаманчук пишет в учебнике: «Государство “идет” от общества и призвано обслуживать его потребности, интересы, цели и волю. Следовательно, государственно-правовые институты, по крайней мере в демократическом государстве, являются институтами самого общества и подлежат его ведению». Не будем спорить о генезисе, но это сомнительно. Общество – сложная система (по структуре сложнее нации), а ведь нацию или народ создает именно государство, а не наоборот.
Надо кратко уточнить представление об обществе. Как и в отношении понятия «народ», обыденное представление об обществе проникнуто эссенциализмом. Мы думаем о нем как о вещи – массивной, подвижной, чувственно воспринимаемой и существующей всегда. Это представление было воспринято вместе с механицизмом в проекте Просвещения и укреплено в советское время историческим материализмом, в котором общество выглядело как движение масс, организованных в классы, ведущие между собой борьбу.
Это ведет к тому, что социальные группы натурализируются и гипостазируются, наделяются таким же онтологическим статусом, что и «вещи», «субстанции».
Важно!
Современная наука, напротив, рассматривает общество как сложную систему, которая не возникает «сама собой». Ее надо конструировать и создавать, непрерывно воспроизводить и обновлять. Общество находится в процессе непрерывного развития, так что в динамическом взаимодействии переплетаются интеграция и дезинтеграция – как отдельных элементов, так и всей системы в целом.
Субъекты политических процессов – не индивиды, а общности, собранные и воспроизводимые на какой-то матрице. Состояние всей системы общностей, соединенных в общество, и политика их воспроизводства – один из главных предметов политологии. Распад общностей и утрата ими общественной и политической дееспособности – одна из угроз, ставших кошмаром социологии.
А. Турен, тогда вице-президент Международной социологической ассоциации, писал:
Цитата
Можно утверждать, что главной проблемой социологического анализа становится изучение исчезновения социальных акторов, потерявших под собой почву или из-за волюнтаризма государств, партий или армий, или из-за экономической политики, пронизывающей все сферы социальной жизни, даже те, что кажутся далекими от экономики и логики рынка. В последние десятилетия в Европе и других частях света самой влиятельной идеей была смерть субъекта.
Ален Турен. Социология без общества
Из истории политической науки
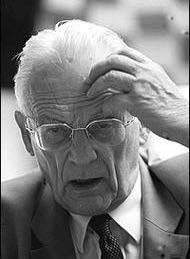
Ален Турен (1925 – н.в.)
Французский социолог, одним из первых ввел в научный оборот термин «постиндустриальное общество».
Основные сочинения: «Социология действия» (1965), «Что такое демократия» (1994), «После кризиса» (2010)
Вывод, трагический для современной цивилизации, – смерть субъекта. Исчезновение социальных акторов, т.е. коллективных субъектов общественных процессов! Это новое состояние социального бытия, мы к этому не готовы ни интеллектуально, ни духовно, а осваивать эту новую реальность политология должна срочно.
Примем, что в наше время население страны существует, организованное в двух взаимосвязанных системах – народа (нации) и общества. И функция государства – сохранить общество (обеспечить его воспроизводство), а если в ходе какой-то катастрофы оно утратило системную целостность, как можно быстрее его снова «собрать» на обновленной и прочной матрице.
§ 2. Дезинтеграция общества как следствие
реформ 1990-х годов
С точки зрения социологии главным следствием реформы 1990-х годов стала дезинтеграция, распад российского общества. Кризис, перешедший в 1991 г. в острую стадию, потряс всю систему общества, все ее элементы и связи. Период относительной стабилизации после 2000 г. сменился в 2008 г. новым обострением. Сейчас диагноз состояния системы общностей (социокультурных групп) стал актуальной и срочной задачей. Можно утверждать, что одна из главных причин продолжительности и глубины кризиса заключается именно в глубине дезинтеграции общества. Ее маховик был раскручен в целях демонтажа советского общества. Но остановить этот маховик после 2000 г. не удалось. Исследователи, изучавшие эту сторону реформы, предложили в 1999 г. определение этого процесса.
Цитата
Социальная дезинтеграция понимается как процесс и состояние распада общественного целого на части, разъединение элементов, некогда бывших объединенными, т.е. процесс, противоположный социальной интеграции. Наиболее частые формы дезинтеграции – распад или исчезновение общих социальных ценностей, общей социальной организации, институтов, норм и чувства общих интересов. …Это также синоним для состояния, когда группа теряет контроль над своими частями. Этим понятием часто обозначается и отступление от норм организации и эффективности, т.е. принятого институционального поведения то ли со стороны индивида, то ли со стороны социальных групп и акторов, стремящихся к переменам. Тогда понятие социальной дезинтеграции по содержанию становится весьма близким к понятию «аномия». Социальная дезинтеграция способствует развитию социальных конфликтов.
З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян.
Процессы интеграции и дезинтеграции
в социальной структуре российского общества
А. Тойнби писал, что «больное общество» (в состоянии дезинтеграции) ведет войну «против самого себя». Образуются социальные трещины – и «вертикальные» (например, между региональными общностями), и «горизонтальные» (внутри общностей, классов и социальных групп). Это и происходит в России.
Из истории политической науки

Арнольд Тойнби (1889—1975)
Британский историк и культуролог, специалист в области сравнительной истории цивилизаций, один из главных разработчиков цивилизационного подхода.
Основные сочинения: «Постижение истории» (1934—1961), «Цивилизации перед судом истории» (1948)
В большой обзорной работе сказано: «В настоящее время в российском социальном пространстве преобладают интенсивные дезинтеграционные процессы, размытость идентичностей и социальных статусов, что способствует аномии в обществе. Трансформационные процессы изменили прежнюю конфигурацию социально-классовой структуры общества, количественное соотношение рабочих, служащих, интеллигенции, крестьян, а также их роль. Судьба прежних высших слоев (политическая и экономическая элита) сложилась по-разному: кто-то сохранил свои позиции, используя имеющиеся привилегии, кто-то утратил. Хуже всех пришлось представителям прежних средних слоев, которые были весьма многочисленны, хотя и гетерогенны: профессионалы с высшим образованием, руководители среднего звена, служащие, высококвалифицированные рабочие. Большая их часть обеднела и стремительно падает вниз, незначительная доля богатеет и уверенно движется к вершине социальной пирамиды… Коренным образом изменились принципы социальной стратификации общества, оно стало структурироваться по новым для России основаниям… Исследования подтверждают, что существует тесная связь между расцветом высшего слоя, “новых русских” с их социокультурной маргинальностью, и репродукцией социальной нищеты, криминала, слабости правового государства».
В 1998 г. А.А. Галкин писал: «Многие социальные группы, которые теоретически должны были бы составить костяк среднего класса (прежде всего, работники нефизического труда, большинство квалифицированных рабочих, ремесленники, часть мелких предпринимателей), в результате издержек трансформации и некомпетентной политики оказались на социальном дне или где-то в его районе. Те, кто с некоторой натяжкой могли бы быть отнесены к среднему классу (основная масса торговых работников и мелких предпринимателей в промышленности и сфере услуг), с трудом держатся на его самой последней, низшей ступени, постоянно подвергаясь опасности соскользнуть вниз … Расчлененность и внутренняя противоречивость интересов свойственна и другим слоям и группам российского общества».
После 2000 года этот процесс не остановился, инерция его велика. Вот как социологи В.А. Иванова и В.Н. Шубкин характеризуют состояние общества, сравнивая ответы респондентов в 1999 и 2003 гг.: «Усиливается ориентация на готовность к социальному выживанию по принципу “каждый за себя, один Бог за всех”. … Анализ проблемы страхов россиян позволяет говорить о глубокой дезинтеграции российского общества. Практически ни одна из проблем не воспринимается большей частью населения как общая, требующая сочувствия и мобилизации усилий всех».
А вот вывод при взгляде на российскую реформу извне, с обобщающей формулировкой. Майкл Буравой отмечает: «Россия поляризуется… Центр интегрируется в передовые сети глобального информационного общества, провинции бредут в противоположном направлении к неофеодализму. Невероятно глубокое разделение общества по имущественному положению повлекло за собой отчужденность. Разрушительной формой протеста стало пренебрежение к социальным нормам».



