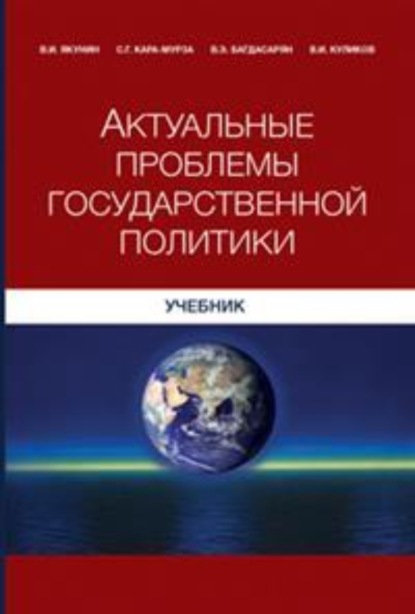 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы государственной политики
Континуум знания заключен между двумя пределами – наукой и религией. Гейзенберг приводит суждение физика
В. Паули «о двух пограничных представлениях, которые оказались исключительно плодотворными в истории человеческой мысли, хотя ни одному из них ничего в реальной действительности не соответствует. … Где-то посередине между этими двумя пограничными представлениями движется наша мысль; наш долг выдерживать напряжение, исходящее от этих противоположностей».
Важно!
Антирелигиозная пропаганда позитивистов игнорировала тот важнейший факт, что именно развитое религиозное знание стало фундаментом для рационализации мировоззрения. Внутренняя логика развития основных религиозных идей и была логикой рационализации, что показал М. Вебер. Независимо от внутренних задач религии, «картины мира, которые создаются в ходе логического саморазвития основополагающих религиозных идей, воспринимаются мирянами как системы координат, позволяющих определять основные направления их жизнедеятельности, ее важнейшие цели».
Академик В.И. Вернадский, крупнейший философ и ученый, так высказался в 1920-е годы относительно этой темы: «И философская мысль, и религиозное творчество, общественная жизнь и создание искусства теснейшими и неразрывными узами связаны с научным мировоззрением. Вглядываясь и вдумываясь в ту сложную мозаику, какую представляет научное мировоззрение нашего времени, трудно решить, что из него должно быть поставлено в счет чуждым научной мысли областям человеческой личности и что является чистым плодом научного мышления».
Религиозные философы и отцы церкви выработали важные разделы знания, необходимого для государственной власти и политики. Это срез обществоведения, знание о людях, их сообществах и способах убеждения и внушения с целью добиться согласия с властью, укрепить или подорвать ее авторитет.
Резко обедняются познавательные ресурсы власти, если в ее интеллектуальном оснащении один тип знания (научный) подавляет или загоняет на обочину знание религиозное. Такой болезненный опыт государство получило в советский период с конца 1950-х годов, когда под давлением официальной идеологии каналы циркуляции религиозного знания были блокированы.
Дж. Кейнс, работавший в 1920-е годы в России, писал: «Ленинизм – странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, – религии и бизнеса». Позже немецкий историк В. Шубарт в книге «Европа и душа Востока» писал: «Дефицит религиозности даже в религиозных системах – признак современной Европы. Религиозность в материалистической системе – признак советской России».
Из истории политической науки
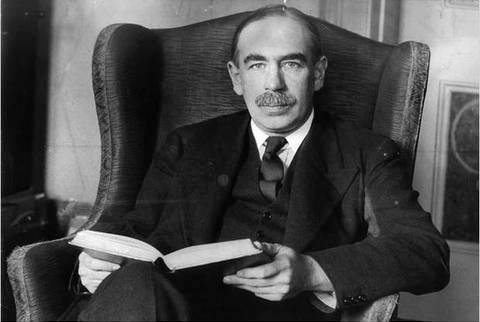
Джон Мейнард Кейнс (1883—1946)
Британский экономист, философ и государственный деятель, член Палаты лордов (с 1942 г.), один из основателей макроэкономики.
Основные сочинения: «Экономические последствия мира» (1920), «Конец Laissez-faire» (1926), «Общая теория занятости, процента и денег» (1936)
В результате конфликта между официальной идеологией Советского государства и той системой знания, которая была адекватна его мировоззренческой основе, возникла раздвоенность, во многом предопределившая кризис обществоведения и государственности 1980-х годов.
Надо вдуматься в предупреждение Гейзенберга: «Естествознание стремится придать своим понятиям объективное значение. Наоборот, религиозный язык призван как раз избежать раскола мира на объективную и субъективную стороны; в самом деле, кто может утверждать, что объективная сторона более реальна, чем субъективная? Нам не пристало поэтому перепутывать между собой эти два языка, мы обязаны мыслить тоньше, чем было принято до сих пор».
§ 3. Знание и этика
Йохан Хейзинга говорил, что свобода государства от морали – величайшая опасность, угрожающая западной цивилизации, это «открытая рана на теле нашей культуры, через которую входит разрушение».
Из истории политической науки

Йохан Хейзинга (1872—1945)
Нидерландский, философ и культуролог.
Основные сочинения: «Осень Средневековья» (1919), «Homo Ludens» (1939), «Голландская цивилизация в семнадцатом веке» (1941)
Надо вспомнить, что эта опасность возникла в ходе Реформации, которая изменила и картину мира (разрушение Космоса и десакрализация мира), и представления об этике и эффективности. Есть выражение: протестантизм «позволил власти эмансипироваться». Имеется в виду, что раньше церковь ограничивала свободу политической практики запретами христианской религии.
Лютер в полемике с католичеством сказал: «Светская власть может лишь ведать дела, постигаемые разумом … посему люди от мира сего и могут быть в мирских делах гораздо искуснее нежели люди духа. Язычники, например, оказались гораздо искуснее христиан, мирские дела они начали и окончили более счастливо, и в более широких размерах, нежели божьи святые, как указывает и Христос (Луки 16.8): “Сыны века сего догадливее, в своем роде, сынов света”. Они лучше умели управлять мирскими делами, нежели ап. Павел и другие святые; вот почему римляне имели такие превосходные законы и право».
Исторический опыт подтвердил вывод Аристотеля: справедливость – ценность высшего уровня. Она, по словам Ролза, так же важна в социальном порядке, как истина в науке или красота в эстетике: «Изящная и экономически выгодная теория должна быть отвергнута или пересмотрена, если она не соответствует истине; точно так же законы и учреждения, независимо от того, насколько они эффективны и хорошо организованы, должны быть изменены или отменены, если они несправедливы».
Из истории политической науки
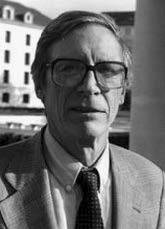
Джон Ролз (1921—2002)
Американский философ, разработчик оригинальной теории справедливости.
Основные сочинения: «Теория справедливости» (1971), «Политический либерализм» (1993), «Закон народов» (1999)
Невозможность «уловить» ценности научным методом – едва ли не важнейший вывод философии науки. Но поскольку наука завоевала очень высокий авторитет, все политические силы активно привлекают ученых для поддержки именно ценностных суждений. Перестройка в СССР дала для этого красноречивые свидетельства – тогда узурпация авторитета науки идеологами породила острый конфликт в среде интеллигенции, вплоть до распада профессиональных сообществ.
Виднейшие философы рационализма подчеркивают, что научное знание никак не может иметь «решающего значения» для жизни общества. Оно занимает в этой жизни свое очень важное, но ограниченное место. Продолжая мысль Канта и Шопенгауэра, Витгенштейн писал: «Мы чувствуем, что даже если даны ответы на все возможные научные вопросы, то наши жизненные проблемы еще даже и не затронуты».
Проблемы политики не являются ценностно нейтpальными и не укладываются в фоpмализуемые модели, предлагаемые теориями. Подход к политическим проблемам с чисто научным мышлением может иметь катастрофические последствия. Политология не должна быть «слишком научной».
А. Бовин, бывший помощником и Брежнева, и Горбачева, в книге-манифесте «Иного не дано» (1988) высказал важную мысль: «Бесспорны некоторые методологические характеристики нового политического мышления, которые с очевидностью выявляют его тождественность с научным мышлением».
Важно!
Но для мышления государственного деятеля «тождественность с научным мышлением» звучит как страшное обвинение. Научное мышление ориентировано на истину, оно автономно по отношению к этическим ценностям, а мышление политика должно быть неразрывно связано с проблемой выбора между добром и злом. Он исходит из знания о человеческих проблемах. К ним нельзя подходить, отбросив этические ценности. Без них нельзя получить и достоверное знание о предмете.
Соединение беспристрастного взгляда с этическими ценностями и одновременно их разделение методологическим барьером – самое сложное в работе обществоведа, особенно политолога и социолога. В моменты глубоких социальных кризисов специалисты в этих дисциплинах неизбежно занимают разные позиции, и это драма их сообщества. Этос науки и взаимное уважение сохраняют национальные научные сообщества от распада. Очень поучительно изучение трудов 1990-х годов двух выдающихся советских и российских социологов – Г.В. Осипова и В.А. Ядова. Они сыграли большую роль в возрождении советской социологии, но разошлись в оценках доктрины реформ 1992 г.
Из истории политической науки

Г.В. Осипов (1929 – н.в.)
Советский и российский социолог, доктор философских наук, академик РАН, директор Института социально-политических исследований РАН.
Основные сочинения: «Социальное мифотворчество и социальная практика» (2000), «Социология и социальное мифотворчество» (2002), «Социология и государственность (достижения, проблемы, решения)» (2005)
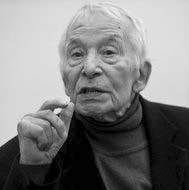
Советский и российский социолог, директор Института социологии РАН (1988—2000).
Основные сочинения: «Методология и процедуры социологических исследований» (1968), «Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы» (1995), «Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности» (2007)
Дж. Грей писал, что политические доводы зависят от обстоятельств, они не могут быть доказанными, как теорема: «Политические рассуждения являются формой практического умозаключения, и ни один шаг в них логически не следует из другого; намеки на это можно найти еще у Аристотеля. Политическое мышление обращается к концепции политической жизни как к сфере практических рассуждений, чья цель (telos) – это образ жизни (modus vivendi), а также к освященной авторитетом Гоббса концепции политики, понимаемой как сфера стремления к гражданскому миру, а не к истине».
В. Гейзенберг подчеркивает важную мысль: нигилизм, т.е. резкое снижение статуса этических ценностей, может привести не только к рассыпанию общества, беспорядочному броуновскому движению потерявших ориентиры людей. Результатом может быть и соединение масс общей волей, направленной на безумные цели. Ценностный хаос преобразуется «странными» аттракторами в патологический порядок.
Однако в 1990-е годы мы пережили всплеск этического нигилизма. Так, депутат и позже академик Н.П. Шмелев писал: «Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, – безнравственно и, наоборот, что эффективно – то нравственно».
Здесь соподчинение фундаментальных категорий – эффективности и нравственности – вывернуто наизнанку. Даже философы капитализма ХVIII в. предупреждали: «Совесть – выше выгоды!» Или: то, что безнравственно, – неэффективно. Потому-то они и смогли довольно быстро усмирить «дикий капитализм». А нас дискриминация этики привела к глубокому кризису.
М. Вебер выступал против фетишизации теории, которая, будучи высшим продуктом рационального мышления, превращалась в инструмент иррациональности если приобретала ранг фетиша. Он подчеркивал, что логическая упорядоченность теории может привнести «утопический» элемент в познание, поскольку историческая действительность в каждой «точке» и в каждый «момент» выступает как нечто уникальное и неповторимое. А следовательно, не подчиняющееся никакому «объективному закону». Теория необходима, как инструмент – как микроскоп или телескоп – для выявления тенденций в развитии общественного процесса. Но вера в то, что теория полностью адекватна самой действительности, означает поражение рациональности.
Основные выводы
В публичной политике дискурс власти следует канонам идеологии, но и эта сфера знания родственна науке и апеллирует к ней. В моменты острых кризисов картина может измениться, и власть организует спектакли, активизирующие иррациональные установки в людях – чувства и веру, мифы и предания. Но и это опирается на знание, которым обладает власть. Ближайший пример – технологии «цветных революций».
В ХVII в. произошла огромная культурная мутация. В Западной Европе, перетекая одна в другую, произошли четыре революции. Религиозная революция – протестантская Реформация – изменила представления о Боге, о взаимодействии человека с Богом и людьми. Научная революция дала новое представление о мире и человеке, а также новый способ познания – науку. Из нее выделилась идеология.
Появление науки – качественное изменение, разрыв непрерывности. Наука возникла в разводе знания и веры. Ценности были оставлены философии и религии, а наука говорит, «что есть», не указывая, «как должно быть». Иногда она может лишь предупредить: если поступишь так-то и так-то, будет то-то и то-то. Наука дает объективное знание, независимо от любви или ненависти к предмету познания. Научное знание беспристрастно, не судит, что есть добро, а что зло.
Политология не может «оторваться» от традиционного знания. Длительный опыт государства, формализованный в обычаях, преданиях, обычном праве и пр., задает политику «повестку дня» его размышлений и проектов, служит источником его гипотез. Объем «научно организованных» наблюдений за политикой и общественной жизнью ничтожен по сравнению с тысячелетними наблюдениями и размышлениями сотен поколений.
Стихи, песни, живопись – мощные инструменты политики. Они или укрепляют легитимность власти, или ее подрывают. Соответственно власть и сама должна знать, что пишут поэты и композиторы, кто их читает и поет их песни. Так выявляется структура отношений эмпатии или отчуждения и вражды между властью и социокультурными группами. Исходя из этого вырабатываются доктрины культурной и информационной политики государства.
Религиозное знание стоит на особой системе постулатов и догм, а также на развитой логике, которая позволяет, исходя из постулатов и догм, делать умозаключения, привлекая доводы из реальной жизни. Эти умозрительные выводы являются следствием теоретизирования – деятельности в сфере знания, в которой вера остается «за скобками», будучи включенной в постулаты. Насколько сложна эта логика и применяемая в рассуждениях мера, видно из того, как часто приходилось созывать совещания и соборы, чтобы обсудить расхождения и согласовать выводы. Для мышления государственного деятеля «тождественность с научным мышлением» звучит как страшное обвинение. Научное мышление ориентировано на истину, оно автономно по отношению к этическим ценностям, а мышление политика должно быть неразрывно связано с проблемой выбора между добром и злом. Он исходит из знания о человеческих проблемах. К ним нельзя подходить, отбросив этические ценности. Без них нельзя получить и достоверное знание о предмете
Контрольные вопросы
Какое место занимает государство в системе генерирования и движения знания?
Какова структура системы знания (его типы), на основе которых формируются политические решения?
Какие политические противоречия возникают в сфере знания?
Дополнительная литература
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997.
Грей Дж. Поминки по Просвещению. М., 2003.
Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. Т. 1. М., 2011.
Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. Общество знания: Переход к инновационному развитию России. М., 2012.
Социальные науки в постсоветской России. М., 2005.
Глава 9. Структурно-функциональный подход
§ 1. Понятие и необходимость структурно-функционального подхода
Ранее мы коротко упомянули, что любое государственное решение предваряется структурно-функциональным анализом. Он может быть широким и системным или грубым и даже неосознанным. Но любое целеполагание и проектирование плана действий требуют создания образа, который строится с помощью категорий и понятий этого подхода. В этой операции и проверяются их «знания, мысль, совесть и воля».
К сожалению, слишком часто анализу не уделяется достаточно сил и времен, цель и средства кажутся очевидными, многие элементы в структуре проблемы не замечаются и действия натыкаются на непредвиденные трудности («гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить»).
На этой стадии и закладываются главные ошибки. Причиной таких ошибок по большей части бывает не дефицит информации и не приблизительность расчетов, а неверное представление как о функции («зачем предпринимается данное действие?»), так и о структуре, которая предназначена для выполнения этой функции («что может и должна делать эта структура?»).
Ответить на вопросы «зачем?» и «что?» гораздо сложнее, чем кажется в свете обыденного опыта. Да очень часто эти вопросы перед собой и не ставят, а тем более в вузах не всегда обучают способам их задать и потом на них ответить. Одна из причин методологическая – смешиваются разные категории, образ программы действий оказывается неадекватным задаче.
Обычно считают вопрос о структуре («что надо создать?») вторичным, он как будто предопределяется ответом на вопрос «зачем?» Если целевая функция всего задания обозначена «сверху», то кажется, что структура ясна – она должна быть такой, чтобы в идеале привести целевую функцию к оптимуму (а в реальности – в зону хорошего или хотя бы приемлемого соответствия цели). Это ошибка. Саму функцию еще надо подвергать анализу.
Рассмотрим подробнее две главные категории – структуру и функцию, – что и зачем. Оба вопроса сложны, – разные группы в обществе и государстве ответят на эти вопросы по-разному, ибо у них разные интересы, ценности и цели. Группы, занимающие крайние позиции в этом спектре, дадут ответы несовместимые.
Важно!
Структурно-функциональный анализ необходим прежде всего, чтобы выяснить интересы, ценности и цели разных групп, придать их различиям и конфликтам рациональную форму, которая позволит вести переговоры в поисках компромисса и с целью маргинализовать непримиримых.
Хороших «замкнутых» определений у категорий «функция» и «структура» нет, поскольку разделить их непросто – они «перетекают» друг в друга, так что функция невольно определяется через структуру, а структура через функцию. Когда мы спрашиваем «что?» (т.е. о структуре), невольно приходит на ум «для чего».
Что такое школа? – Учреждение, где обучают и воспитывают детей и подростков. А когда спрашивают об обучении и воспитании, скажут: «Это то, что делает школа». Структура представляется через функции, которые она выполняет, и в то же время как бы служит определением функций. Обе категории отражаются как в зеркале, и анализ ходит по кругу. Требуются усилия, чтобы мысленно развести их и представить школу как систему, в которой можно высветить ряд структур, а обучение и воспитание – как необходимый процесс воспроизводства общества, народа и политической системы.
Является ли для политолога обучение и воспитание (функция) тем, чем занимается школа (как она «субъективно предрасположена»), или для него важнее результат действий структуры, «объективные следствия»? И то и другое важно, зависит от задачи. Предлагалось даже разделить функции на два разных класса. Это усложняет анализ, но случаи, когда структура делает совсем не то, ради чего ее создавали, нередки.
Поскольку в политике цели некоторых функций закамуфлированы демагогией, их анализ приходится разделять на два типа (или два этапа, если для того есть мотивы). М. Вебер разделял рациональность целей и рациональность ценностей. Из первой исходят, анализируя действия структуры с точки зрения эффективности достижения поставленной цели, не давая этой цели и функции этической оценки. Приказано – сделано! А ценностная рациональность пытается разделить функции на «идущие во благо» и «идущие во вред». Здесь возникает проблема ценностных критериев.
Как известно, структуры, даже высокого ранга, способны служить и целям, которые не предусматривались при их создании. Получаемые при этом результаты могут быть во благо государству или вредоносны. Эта возможность учитывается выделением категории неумышленные (или латентные) функции.
В коррумпированных частях госаппарата и других институтах структурно-функциональный анализ таких латентных функций необходим.
Важно!
Как правило, структуры выполняют более одной функции; с другой стороны, каждую функцию «обслуживают» несколько структур, иногда очень разных. Бывает, что одна и та же структура (т.е. одинаково названная и даже похожая), например парламент, может в разных странах выполнять весьма разные функции. Конечно, если углубиться в анализ, мы увидим, что под одним и тем же названием и в похожих зданиях в разных странах находятся не одни и те же структуры.
Политолог Дж. Сартори на этот счет заметил: «Мне кажется, что крупные различия слишком часто приносятся в жертву второстепенным, мелким сходствам. Трудно представить себе человека, который бы стал всерьез утверждать, будто люди и рыбы одинаковы, поскольку и те и другие “способны плавать”. Но многое из того, что говорится в глобальной сравнительной политологии, несет в себе не намного больше смысла».
Вот общая беда сравнительной политологии – что у российской, что у западной: «явления провозглашаются идентичными на том основании, что они были одинаковым образом поименованы».
Дж. Сартори разбирает в качестве примеров актуальные для России понятия, в том числе, интеграцию. После 1991 г. постсоветское пространство претерпело глубокую дезинтеграцию на разных уровнях – от державы до семьи. Сейчас одной из главных задач государственной политики является интеграция. Но это понятие зачастую используется совершенно безответственно, так что никакой конструктивной концепции выработать невозможно.
Цитата
Учитывая, что плюрализм, интеграция, участие и мобилизация принадлежат к числу культурно-обусловленных концептов, которые, по всей видимости, отражают (насколько мы знаем, так было изначально) специфически западный опыт, с методологической точки зрения принципиально важно помнить, что отправной точкой исследования должен выступать референтный регион…
В своем исходном значении понятие «плюрализм» не относится ни к социетальной и/или политической структуре, ни к взаимодействию акторов. Это понятие стали использовать в западной литературе, дабы передать идею о том, что плюралистическим является такое общество, чьи структурные очертания определяются плюралистическими убеждениями, а именно верой в то, что на всех уровнях должны развиваться всевозможные автономные объединения, что признается все легитимное многообразие интересов и что расхождения во взглядах, отсутствие единомыслия образуют основу гражданственности. Конечно, плюрализм представляет собой крайне абстрактный структурный принцип. Тем не менее этот термин указывает на особую социетальную структуру (а не просто на высокий уровень дифференциации и специализации) и сохраняет свою способность отражать смысловые значения во всех случаях, когда речь заходит об обсуждении внутренних проблем и внутренней политики западных демократий.
Под «интеграцией» может пониматься некое конечное состояние, либо процесс, либо функция, осуществляемая соответствующими агентами (партиями, группами интересов и т.п.). Как бы то ни было, в западных политиях термин «интеграция» не применяется к любому виду «соединения», любому типу «слияния». Например, когда американские ученые обсуждают свои внутренние проблемы, они весьма четко себе представляют, что является интеграцией, а что – нет. Они, как правило, отрицают, что интеграция имеет хоть какое-то отношение к «принудительно навязываему единообразию». Напротив, они склонны считать, что для интеграции необходимо плюралистическое общество (как оно было определено выше) и что она, в свою очередь, порождает его. И безусловно, для того чтобы добиться максимального уровня единения и сплоченности при минимальном использовании принуждения, требуется интегрирующий агент8.
Дж. Сартори. Искажение концептов
в сравнительной политологии
Из истории политической науки

Дж. Сартори (1924 – н.в.)
Итальянский политолог, философ и социолог, известен своими работами в области сравнительной политологии
Основные сочинения: «Партии и партийные системы» (1976), «Пересматривая теорию демократии» (1987), «Сравнительная конституционная инженерия» (1987)
§ 2. Кризис культуры структурно-функционального анализа в период перестройки и в современной России



