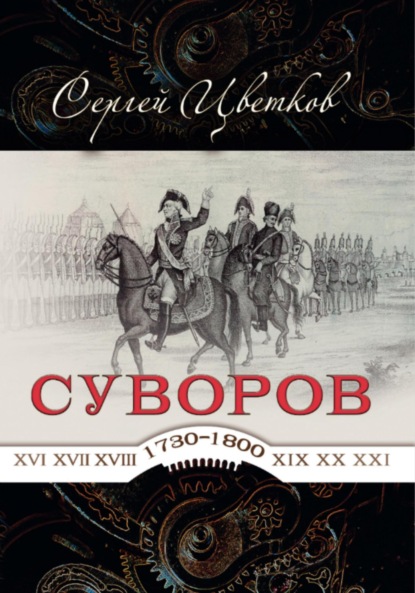
Полная версия:
Суворов – от победы к победе
Из влиятельных людей заговору больше других втихомолку содействовал малороссийский гетман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, богач, чрезвычайно любимый за щедрость и простоту в своем гвардейском Измайловском полку; а также граф Никита Панин, елизаветинский дипломат и воспитатель наследника, великого князя Павла, желавший произвести переворот в пользу своего воспитанника с предоставлением Екатерине прав регентства. К заговору примыкало и много случайных людей, вроде некоего пьемонтца Одара, крутившегося возле Панина и Дашковой и объяснявшего мотивы своего участия в заговоре следующим образом: «Я родился бедным; видя, что ничто не уважается в свете так, как деньги, я хочу их иметь, для чего сей же вечер готов зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду там такой же честный человек, как и любой другой». Накануне переворота Екатерина рассчитывала на поддержку 40 офицеров и около 10 тысяч солдат гвардии.
Несмотря на столь широкий охват заговор некоторое время зрел в полной безопасности. Разумеется, к Петру шли доносы, но он не обращал на них внимания, продолжая веселиться в Ораниенбауме со своими любимцами. Император являлся, по сути, самым деятельным заговорщиком против самого себя. Окончив бесполезно для России одну войну, он затевал другую, еще менее полезную, разорвав отношения с Данией, чтобы возвратить своему незабвенному голштинскому отечеству утерянный Шлезвиг. В то же время он упорно вводил свободу вероисповедания в России, за три дня до своего падения декларировав равенство всех христианских вероисповеданий, необязательность постов, неосуждение грехов против седьмой заповеди22, «ибо и Христос не осуждал», и требовал от Синода неукоснительного выполнения всех императорских предписаний. Во дворце ходили какие-то нелепые слухи, соперничавшие в сумасбродстве с действительными распоряжениями Петра. Так, утверждали, что император хочет развести придворных дам с их мужьями, а для примера первым развестись с женой и жениться на Елизавете Воронцовой; что уже заготовлены 12 одинаковых кроватей для первых 12-ти свадеб и т. п. Гвардия с тоской ожидала приказа выступить в заграничный поход, и приезд государя 29 июня в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота.
Однако взрыв был ускорен внезапным обстоятельством. Один из участников заговора, капитан Пассек, выражавший горячее желание поразить императора среди бела дня на виду у всей гвардии, наболтал лишнего солдату, которого недавно побил. Тот донес на него в полковую канцелярию, и вечером 27 июня Пассек был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, опасавшихся, что арестованный может выдать их под пыткой. Как выяснилось позже, тревога их была, в общем-то, напрасной: когда Петру на следующий день доложили об аресте злоумышленника, он коротко ответствовал: «Это дурак», – чем и закончил расследование. Но предвидеть такой беспечности, разумеется, никто не мог; к тому же, хладнокровие не было отличительной чертой братьев Орловых. Рано утром 28 июня Екатерина вместе с Дашковой и своим парикмахером была привезена А. Орловым из Монплезира в казармы Измайловского полка. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выстроились на площади и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платье императрицы. В других гвардейских полках повторилось то же самое. Оттуда отправились в Сенат и Синод. Орловы обменялись заряженными пистолетами, дав клятву застрелить друг друга в случае неудачи. Екатерина не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно. Неожиданностей не произошло, все послушно присягали ей. На молебне в Казанском соборе она была провозглашена самодержавной императрицей. Вечером того же дня Екатерина верхом, в гвардейском мундире старого петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, во главе нескольких полков двинулась на поимку свергнутого мужа. Рядом с ней ехала княгиня Дашкова – тоже верхом и в гвардейском мундире.
Во всем Петербурге лишь один человек, некий иностранец, надумал уведомить императора о случившемся. Петр весело продолжал свой путь в Петергоф в сопровождении Воронцовой, прусского посланника и большого придворного общества. Только обшарив весь Петергоф и убедившись, что императрица действительно сбежала, Петр прозрел. Он побледнел и кричал растерявшимся придворным: «Что за глупость?» Три сановника, в том числе и канцлер Воронцов, смекнув в чем дело, вызвались усовестить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было убить ее в случае надобности. Встретив императрицу, посланники присягнули ей и обратно не возвратились.
Петр, между тем, пребывал в кипучей деятельности. Он назначил генералиссимусом камергера, который известил его о побеге императрицы и повелел ему набирать войско из окрестных крестьян и ближних полков. Он бегал большими шагами, подобно помешанному, часто просил пить и диктовал против супруги два больших манифеста, изобиловавшие отборными ругательствами. Придворным было поручено развозить копии. Наконец, вспомнив о национальности своих подданных, Петр решился снять свой прусский мундир и ленту и возложил на себя знаки Российской империи.
В разгар этих воинственных приготовлений к императору подошел Миних и предложил укрыться в Кронштадте под защиту многочисленного гарнизона и снаряженного флота. Петр не соглашался, называл всех трусами и попусту терял время. Только известие о приближении Екатерины с 20-тысячным войском заставило его последовать совету старого фельдмаршала.
Но время было уже упущено. Когда вечером императорские галеры подплыли к Кронштадту, вице-адмирал Талызин уже успел склонить гарнизон присягнуть Екатерине, уведомив, что император лишен престола. Флотилию беглецов встретил грозный оклик:
– Кто идет?
– Император.
– Нет императора.
Петр вышел вперед и, скинув плащ, чтобы показать орден, закричал:
– Это я – познайте меня!
В ответ он услышал крик Талызина:
– Удалитесь! В противном случае в вас будут стрелять из пушек!
Петр увидел, как 200 фитилей засверкали в темноте над таким же количеством пушек, и без чувств повалился на руки приближенным. Бесстрашный Миних еще убеждал его плыть в Ревель и оттуда в Померанию, в заграничную русскую армию, клянясь через полтора месяца возвратить страну к покорности. Но Петр только твердил в слезах: «Заговор повсеместный – я видел это с первого дня царствования».
Императорская галера поплыла назад в Ораниенбаум. Сопровождавшие экспедицию придворные дамы рыдали. Миних спокойно стоял на палубе и наслаждался тишиной ночи.
Слуги со слезами встретили императора на берегу. «Дети мои, —сказал он им, – теперь мы ничего не значим».
Попытка вступить в переговоры с Екатериной не удалась: предложение помириться и разделить власть осталась без ответа. Петр был вынужден подписать акт о «самоотречении» от престола. Утром 29 июня Екатерина с полками заняла Петергоф, Петр добровольно сдался супруге. Солдаты обошлись с ним весьма невежливо, и от непосильных потрясений низложенный император упал в обморок. Когда несколько позже его посетил Панин, Петр ловил его руки, умоляя оставить ему четыре наиболее дорогих ему вещи: скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему позволили удержать три первые вещи, а четвертую отослали в Москву и выдали замуж. Бывшего императора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой, под надзор А. Орлова, Потемкина и еще нескольких деятельных заговорщиков, а Екатерина на следующий день торжественно вступила в Петербург. Так закончилась эта наиболее веселая и пикантная в российской истории революция, не пролившая ни одной капли крови, настоящая «дамская революция», по замечанию Ключевского. В династическом смысле она была полным абсурдом, так как под лозунгом возвращения к доброй русской старине законный внук Петра Великого был лишен короны в пользу ангальт-цербстской принцессы, спасенной браком с Петром III от участи супруги прусского полковника или генерала. Радость русских людей по этому случаю была так велика, что три года спустя в Сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их «за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми».
Екатерина сыпала вокруг себя милостями, и все, даже ближайшее окружение Петра, спешили воспользоваться удобным случаем. Семейство Воронцовых поверглось к ее ногам. Княгиня Дашкова, тоже преклонив колени, сказала, указывая на них: «Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». Увидев в толпе придворных невозмутимого Миниха, императрица обратилась к нему:
– Вы хотели против меня сражаться?
– Так, государыня, – отвечал он. – А теперь мой долг сражаться за вас.
На заговорщиков сыпались звания, чины, деньги, имения, крестьяне. Упомянутый пьемонтец Одар на все предложения Екатерины возвысить его, отвечал: «Государыня, дайте мне денег», —и, получив их, отбыл в свое отечество честных людей.
У этой веселой революции был печальный эпилог. Вечером 6 июля Екатерина получила от А. Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять лишь одно: в тот день Петр за столом заспорил с одним из своих стражей; Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник упал замертво. «Не успели мы разнять, а его уже и не стало; сами не помним, что делали». Екатерина, по ее словам, была тронута и даже поражена этой смертью. Орлов валялся у нее в ногах, прося о помиловании. Прощение он, конечно, получил, «но, – сказала Екатерина, – надо идти прямо – на меня не должно пасть подозрение».
Наутро 7 июля подданные новой самодержицы узнали, что ее супруг император Петр III накануне скончался от прежестокой геморроидальной колики.
Фридрих, получив известие о петербургском перевороте, пришел в ужас и немедленно приказал увезти казну в Магдебург. В заграничной русской армии возликовали, узнав, что теперь нет надобности класть свои головы за голштинское отечество. Салтыков, возвративший себе звание главнокомандующего, не дожидаясь на этот раз приказа, занял Восточную Пруссию. Но возобновления войны не последовало. Екатерина сохранила мир с Пруссией, разорвав лишь союзный договор. Она была слишком занята упрочением своего шаткого положения, совсем не желала каких-либо осложнений в Европе и разделяла со всеми общую жажду покоя после семилетних военных потрясений. Откровенно и болтливо признавалась она в том же 1762 году послу совсем не дружественной Франции, что ей нужно не менее пяти лет мира, чтобы привести свои дела в порядок, а пока она со всеми государями Европы ведет себя, как «искусная кокетка» (вскоре она увидела, что ошиблась в кавалерах). Фридрих, заболевший к тому времени новой болезнью – войнобоязнью – и признававшийся, что ему снятся казаки и калмыки, также делал все, чтобы избежать новой войны с Россией. Он был счастлив и тем, что Екатерина возвратила ему все захваченные русскими земли в Восточной Пруссии. Франция, растерявшая в этой войне свой столетний военный престиж, а вместе с ним Канаду, Флориду, Восточную Луизиану и большую часть индийских колоний, конфузливо косилась на «наследство» очередного европейского «больного» – Турции. А энергичная Мария-Терезия, так и не получившая назад Силезию, довольствовалась тем, что Фридрих уважительно произносил относящиеся к ней эпитеты и глаголы в мужском роде.
Русская армия возвращалась на родину, восстановив свою несколько померкшую за последние десятилетия славу. Покидали Пруссию и оба Суворова, отец и сын. Василий Иванович был отозван в Петербург еще при воцарении Петра III за то, что чересчур рьяно заботился о русских интересах в Восточной Пруссии. Александр Васильевич последовал за отцом летом, после того как 8 июня Румянцев представил его к производству в полковники, особо отметив, что будучи пехотным офицером, Суворов отлично действовал в кавалерии. Это повышение не очень обрадовало Суворова: полковник в 33 года – не Бог весть какой карьер. Он чувствовал досаду и неудовлетворенность. За семь лет войны ему не удалось совершить ничего значительного, все лавры достались другим. «В Пруссии я чинами обойден», – с горечью замечал он позднее. В этом замечании больше слышен упрек самому себе, чем столь характерная для позднего Суворова жалоба на чужие интриги и завистничество.
Вместе с тем Суворов многое увидел, многое попробовал. Он узнал, каков в бою русский солдат, раз и навсегда возненавидел австрийское «наступление средствами обороны», изучил сильные и слабые стороны господствовавшей стратегии и тактики. Особенно пристально Суворов анализировал боевое искусство Фридриха, чья неувядаемая на протяжении всего XVIII столетия слава не давала покоя Суворову до самой кончины. Более чем тридцать лет спустя, на склоне лет Александр Васильевич горделиво напомнит: «Я лучше покойного великого короля, я милостью Божией баталии не проигрывал».
В августе Суворова посылают с депешами в Петербург. Здесь, 26 августа он впервые был представлен Екатерине и получил именной указ о производстве в полковники Астраханского пехотного полка. Суворов запомнился Екатерине, императрица умела замечать людей.
Командир Суздальского полка (1763—1768)
L`age des illusions est passe23.
Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
А.С. Пушкин
В Астрахань Суворов не поехал, потому что в апреле 1763 года получил назначение в Суздальский пехотный полк, квартировавшийся тогда в Петербурге. Новый командир сразу принимается за обучение полка, хотя петербургские условия этому вовсе не способствуют. Но Суворову не терпится, в голове у него уже сложилась та система обучения войск, которую позже станут называть «суворовской». Осенью императрица делает суздальцам смотр и остается довольной: офицеры полка допущены к ее руке, нижним чинам роздано по рублю.
Все сведения о петербургской жизни Александра Васильевича в 1763—1764 годах содержатся в одном его письме к знакомой даме (судя по слогу – не любовнице). Кажется, это первое суворовское письмо, дошедшее до нас в подлиннике. Суворов жалуется на свое здоровье: он исхудал и стал подобен «настоящему скелету, лишенному стойла ослу, бродячей воздушной тени»24. У него боли в голове, груди, особенно донимает его желудок, и Суворов приписывает эти недомогания действию невской воды. «Я почти вижу свою смерть, – пишет он, – она меня сживает со света медленным огнем, но я ее ненавижу, решительно не хочу умереть так позорно и не отдамся в ее руки иначе, как на поле брани». Однако он не только не лежит, но даже не сидит дома. Он приглашает знакомую приехать в Петербург, заманивая и тем, что здесь она может еженедельно два-три раза находиться на костюмированных балах и столько же раз посещать спектакли. Суворов прибавляет, что и сам пользуется этими удовольствиями, насколько позволяет здоровье. Это письмо, между прочим, показывает, что знаменитое суворовское закаливание совсем не уберегало его от заболеваний и не делало его здоровым человеком. Скорее, оно было способом отгонять болезни или переносить их.
Осенью 1764 года Суворов уводит полк в Новую Ладогу на полгода. В марте 1765 года он по каким-то делам вновь в Петербурге, где представлен наследнику престола Павлу. В июне он ведет полк форсированными маршами к столице для участия в Красносельских маневрах.
При Елизавете и Петре III воинским маневрам придавали небольшое значение и проводились они нечасто. Екатерина повелела устраивать их ежегодно; она сама выезжала в расположение войск – в Москву, Кронштадт, Лифляндию и Эстляндию. В этих смотрах проявлялось то внимание, которое императрица постоянно оказывала армии.
Красносельские маневры проводились с размахом. В них принимали участие три дивизии под командованием князей А.Б. Бутурлина, А.М. Голицына и графа П.И. Панина: 17 пехотных и 7 кавалерийских полков, 500 казаков и 30 калмыков – всего до 30 тысяч человек. Войска должны были разыграть настоящее сражение по всем правилам военного искусства.
Правила эти состояли в следующем.
Наступательное действие заключалось в движении войск, растянутых и рассеянных на возможно большем пространстве, чтобы, как тогда говорили, охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней. Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того, чтобы, пользуясь распылением сил противника, нанести всеми силами удар в центр, разреженный и ослабленный ввиду чрезмерного растяжения линии, и, разорвав войска неприятеля на две части, уничтожить каждую порознь (так обычно поступал с приверженцами линейной тактики Наполеон), обороняющиеся тоже растягивали свои линии, как бы копируя наступавших, занимая и защищая каждую тропинку, каждый проход, по которому неприятель мог к ним приблизиться.
Некоторые полководцы решались переходить от обороны к контратаке (одно это уже приносило им славу превосходных военачальников). Они принимались еще более растягивать свои силы, чтобы самим охватить оба крыла неприятельской армии и зажать ее между двух огней. К этому надо добавить обычай производить демонстрации частями армии для отвлечения противника, отчего численность главной массы войск уменьшалась еще более; фальшивые атаки, которые никого не обманывали; размеренные переходы войск, позволявшие неприятелю точно рассчитывать время их прибытия на место и, наконец, огромную заботу о подвозе пищи в определенные сроки, не позволявшую удаляться более, чем на три перехода от своих продовольственных магазинов и ставившую полководца в полную зависимость от интенданта.
Тактика не уступала в нелепости стратегии. Главное внимание полководцы уделяли выбору места сражения: предпочитали холмистую и пересеченную местность, укрепясь на которой, старались отражать неприятельские усилия, не двигаясь с места. При этом больше действовали огнем, чем холодным оружием.
15 июня войска разбили лагерь. Следующие два дня ушли на приведение в порядок обмундирования и ружейные экзерциции. 18-го числа в лагерь прибыла Екатерина. Наутро под несмолкающие приветственные крики она верхом объехала полки и нашла их в отличном состоянии. Она разделила войска на две неравные по количеству армии: дивизии Бутурлина и Голицына поступали под начало императрицы, им противостояла дивизия Панина. Суздальский полк вошел в корпус Екатерины и занял позиции на левом фланге. Императрица сама произвела рекогносцировку и, возвратясь, отдала приказ начать маневры. Сражение разыгрывалось в полном соответствии с описанными выше правилами. Кавалерия предприняла охват панинских войск, а пехота медленно двинулась вперед, занимая высоты и очищая путь императрице для осмотра неприятельских позиций. Благообразная размеренность этот маневра была нарушена неожиданным своевольным порывом Суворова. В ходе одного из самых сложных движений войск, связанных с залпами плутонгами и полуплутонгами, он вдруг приказал своему полку прекратить стрельбу, вывел его из линии, на штыках ворвался в центр противной стороны, смешал ее боевые порядки, спутал планы обоих начальников и обратил их в замешательство. Панин не знал, что делать. Свита императрицы громко выражала свое возмущение, но Екатерина была довольна: полный успех ее войск! Она только запретила Суворову преследовать отступающего Панина. Считалось недопустимым деморализовывать часть непобедимой русской армии даже на учениях. Расчет Суворова оказался верным: присутствие императрицы позволило ему безнаказанно нарушить дисциплину, чтобы продемонстрировать образ действий, более приличный, по его мнению, духу русского солдата. Екатерина не дала его в обиду. В печатном отчете о маневрах в Красном Селе из всех штаб-офицеров, принимавших в них участие, упоминалась фамилия одного Суворова. Отличная подготовка Суздальского полка и решительность его командиров пришлась по душе императрице.
Спустя несколько месяцев, когда Суворову было предписано идти с полком из Петербурга в Ригу, он не упустил и этого случая, чтобы обратить внимание на пользу стремительных, не поддающихся расчетом переходов. Посадив один взвод на подводы и взяв с ним полковую казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда послал донесение в военную коллегию, изумленную такой поспешностью. Остальная часть полка прибыла на место не в 30 суток, как предписывалось по маршруту, а в 14. И на этот раз одна Екатерина поняла малоизвестного полковника и данные им уроки, отозвавшись о нем: «Это мой собственный будущий генерал!»
Следующие три года Суворов прожил в Новой Ладоге, никуда не отлучаясь. Все свое время он проводил среди офицеров и солдат, целиком отдавшись службе. Здесь суворовская система впервые нашла свое теоретическое и практическое выражение. Суть ее состояла в том, что Суворов предал анафеме всякое оборонительное, а тем более отступательное действие, и раз и навсегда предписал русскому солдату действовать наступательно. Многолетний боевой опыт и наблюдения в минувшую войну привели его к убеждению, что если коренное, так сказать, природное качество русского солдата – стойкость – соединить с энергичным, осмысленным наступательным порывом, сделав его привычным благодаря ежедневным упражнениям, то при условии умелого командования с таким солдатом можно творить чудеса.
«Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, если не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаний, при внушениях и затвержениях каждому должности его», – объяснял он суть своего метода. Условия победы всегда и всюду остаются одни и те же: они коренятся в организованности и боевом духе солдатской массы. Поэтому именно на нее обращено внимание Суворова. Свои требования он переносит на бумагу и раздает в батальоны и роты для заучивания.
Рассуждения Суворова ясны и здравы, а его бойкий язык как нельзя лучше понятен солдату. «Экзерциция состоит: 1-е – в хождении и захождении… 2-е – в скорой и исправной пальбе». Солдат следует учить «движению ног (маневры) и «движению рук (обращению с оружием)». Обучение начинается с того «как стоять во фронте». Рекруты должны иметь «на себе смелой и военной вид», то есть чтобы «головы вниз не опускали, стояли станом прямо и всегда грудь вон, брюхо в себя, колени вытягивали и носки розно, а каблуки сомкнуто в прямоугольник держали, глядели бодро и осанисто, говорили со всякою особою и с вышним, и с нижним начальством смело…» Если начальство спрашивает, то чтобы рекрут «громко отзывался, прямо голову держал, глядел в глаза, станом не шевелился, ногами не переступал, колени не сгибал».
Затем следует учить хождению, «сдваиванию рядов, взводов и шереног». «Полный военный шаг – аршин, большой шаг – полтора аршина», – не уставал всю жизнь повторять Суворов. После того, как рекрут освоил «движение ног», его вооружали. Следовали упражнения с ружьями, приемы на месте, в движении поодиночке и «всем скопом». Стрельбе уделялось важное, но не главное место в упражнениях. Атаковать следует «на палашах и штыках, кроме что стреляют егеря». Отдельно учили чиститься, мыться, стирать белье, чтобы солдат был здоров и бодр. «Знают офицеры, что я сам того делать не стыдился», —добавляет Суворов, может быть, в острастку каким-то «сибаритам».
Обучение не должно быть изнурительным для солдат, его следует проводить «без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим». Поэтому график занятий определялся так: понедельник, вторник, четверг – одиночная подготовка для «кратких свидетельств в экзерциции»; пятница – подготовка всего подразделения; среда и суббота – отдых. По воскресениям и праздничным дням трех-четырехчасовое чтение военных артикулов, выписок из указов, списков начальников и т. п.
Часто после строевого учения Суворов подводил солдат к берегу Волхова, приказывал раздеться и, раздевшись сам, производил переправу. Также уводил полк на несколько дней на марш «аршинным» и «полутороаршинным» шагом. Однажды, оказавшись неподалеку от монастыря, приказал устроить его штурм. Братия капитулировала быстро, но настоятель донес в Петербург. Случай наделал много шума и достиг ушей императрицы. Рассказывают, будто Екатерина сказала, улыбаясь: «Оставьте, я его знаю» – и не дала хода делу. «Я их приучал к смелой, нападательной тактике», – отвечал Суворов на расспросы любопытных, и это не звучало, как оправдание.
Штурм монастыря не являлся следствием пренебрежительного отношения Суворова к религии. Александр Васильевич оставался чрезвычайно набожным человеком. Едва устроившись в Новой Ладоге, он в первую очередь выстроил полковую церковь и во вторую – полковую школу для дворянских и солдатских детей. В храме Суворов читал Апостол за обедней и пел на клиросе, а в школе учил детей арифметике и закону Божьему, для чего написал математический учебник, составил молитвенник и коротенький катехизис. Для дворянских детей он преподавал еще и начала драматического искусства.
Посетивший Новую Ладогу генерал-губернатор Сиверс весьма одобрительно отозвался о суздальском полковнике. Суворов показал ему новую полковую конюшню, сад, разбитый на ранее бесплодной земле, и дал в его честь комедию на любительской сцене. Сиверс уехал довольный.



