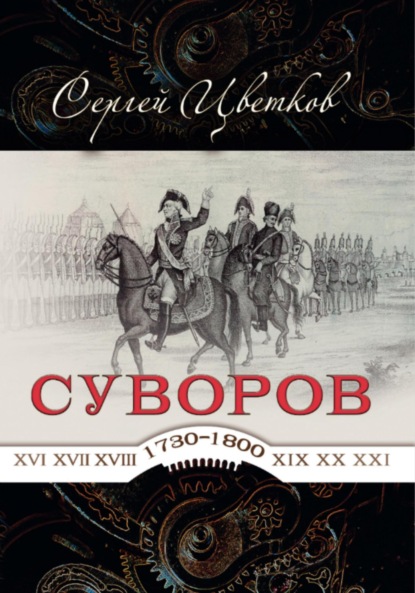
Полная версия:
Суворов – от победы к победе
До начала зимы король успел осадить и взять Бреславль, захватив 13 австрийских генералов, 686 офицеров и 17 тысяч солдат; между тем, как Левальд, не тревожимый больше русскими, заставил убраться восвояси шведскую армию.
Случилось невероятное: Пруссия не только отбила нашествие и удержала захваченные территории, но и приобрела новых подданных! Впервые за полтора столетия иноземцы были изгнаны из Германии силами самих немцев. Европа, привыкшая безнаказанно топтать немецкую землю в бесконечных спорах за чье-нибудь «наследство», с изумлением убедилась, что отныне ей придется вести себя сдержаннее.
Однако после прошлогоднего пролога закончился только первый акт драмы. Новый 1758 год начался для Фридриха с потерь. Фермор, исправляя ошибки Апраксина, вернулся в Восточную Пруссию и, пользуясь тем, что корпус Левальда был занят операциями в Померании против Шведов, в январе без боя занял Кенигсберг. «Все улицы, окна и кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа, —рассказывает участник похода Болотов, —стечение оного было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска и самого командира. А как присовокуплялся к тому и звон в колокола во всем городе и играние на всех башнях и колокольнях в трубы и литавры, продолжавшееся во все время шествия, то все сие придавало оному еще более пышности и великолепия.
Граф (Фермор) стал в королевском замке и в самих тех покоях, где до него стоял фельдмаршал Левальд, и тут встречен был всеми членами правительства Кенигсбергского, и как дворянством, так и знаменитейшем духовенством, купечеством и лучшими людьми в городе. Все приносили ему поздравления и, подвергаясь покровительству императрицы, просили его о наблюдении хорошей дисциплины, что от него им и обещано».
Через два дня горожане присягнули на верность русской императрице (вместе со всеми присягу читал и приват-доцент Кенигсбергского университета Иммануил Кант). Странное с современной точки зрения поведение горожан не представляло в XVIII веке чего-то исключительного и тем более предосудительного. Это столетие, хотя и богатое войнами, было одним из самых спокойных для европейского обывателя. Религиозный фанатизм предшествующей эпохи утих, война была признана делом исключительно венценосцев и их армий. Полководцы стремились содержать войска за счет заранее заготовленных продовольственных и фуражных магазинов, необходимые реквизиции у жителей большей частью компенсировались денежными выплатами. Население, оказавшееся в районе боевых действий, хотя и страдало от поджогов, грабежей, насилий, но смотрело на них, как на привычное стихийное бедствие. Муниципальная администрация, передав город противнику, оставалась на своих местах. Завоеватель ограничивался контрибуцией, и жизнь текла по-прежнему. Если возвращался предыдущий хозяин, то ему и в голову не приходило наказывать горожан за отступничество. Недовольство Фридриха кенигсбержцами, присягнувшими русской императрице, выразилось только в том, что после войны он никогда не появлялся в Кенигсберге.
Русские войска расположились на зимние квартиры в Кенигсберге и его окрестностях. Фермор был назначен губернатором Восточной Пруссии. Один немецкий источник так описывает пребывание русских в Кенигсберге: «Фермор пресекал все нарушения установленного порядка, грабителей расстреливал. Регулярно посещал он со своими офицерами… университет, официальные церемонии в актовом зале и лекции Канта. Русская императрица хотела показать себя с лучшей стороны, поэтому правление было поручено гуманным с справедливым офицерам. Фермор ввел новые для здешних нравов порядки – устраивались праздничные обеды с деликатесами русско-французской кухни, балы, маскарады, в которых и молодой Кант принимал деятельное участие. Кенигсберг пробудился от провинциализма».
В летнюю кампанию Фермор планировал наступление на беззащитный Берлин, но Фридрих успел возвратиться из Силезии и прикрыть столицу. В своих бюллетенях он возвещал, что идет освободить свое королевство от грабежей и неистовств «русской орды». Он был намерен продемонстрировать своим генералам, как следует бить «дикарей». Фермор не решился двигаться дальше и занял оборонительные позиции у Цорндорфа. Здесь, 14 августа, 42-тысячная русская армия целый день отбивала атаки 33 тысяч солдат Фридриха. Солдаты обеих армий поклялись не давать пощады неприятелю. К вечеру, когда у каждой из сторон выбыло из строя по трети солдат, русские все еще сохраняли позиции. «Их можно перебить всех до одного, но не победить!» – бормотал король, вспоминая, быть может, прошлогодний разговор с Кейтом.
На следующий день Фермор отдал приказ об отступлении. Пруссаки бросились вдогонку, но были остановлены убийственным огнем единорогов и «шуваловских» гаубиц.
Привычная схема ведения боя на этот раз не сработала, однако Фридриху некогда было размышлять, в чем тут дело. Он уже спешит в Силезию, чтобы отразить австрийскую армию генерала Лаудона и терпит поражение под Гохкирхеном. Фортуна капризничает. Наполеон, хорошо изучивший повадки этой дамы, говорил, что нельзя удачно воевать более 15 лет подряд. Возможно, что к этому выводу его привел опыт не только собственной жизни, но и жизни Фридриха, чью военную деятельность он ценил очень высоко и внимательно изучал.
Все же и 1758 год не принес коалиции ощутимых успехов. Зима вновь развела сражающихся на прежние места.
Первые три года войны Суворов в составе Казанского пехотного полка находился в Прибалтике в войсках, подчиненных фельдмаршалу А.Б. Бутурлину. Несмотря на близость района боевых действий, работа ему была поручена чисто тыловая – формирование резервных батальонов. Должность спокойная, негромкая. Сколько желающих занять ее нашлось бы в действующей армии, а вот, поди ж ты – досталась она Суворову!
Долго на этой должности Александр Васильевич не высидел. Добрые отношения с Бутурлиным позволяют ему добиться от него разрешения препроводить 17 сформированных батальонов в Пруссию. Ближе, как можно ближе к местам сражений! Он ведет новобранцев по тем же дорогам, по которым недавно шла русская армия, и время от времени оглядывается на них: эх, с такими бы молодцами, да в бой! Он совсем не прочь попасть в засаду или натолкнуться на какой-нибудь заблудившийся прусский отряд. Воображение живо рисует ему за показавшейся деревней черные мундиры прусских гренадер. Вот они заметили его, засуетились, спеша построиться в боевой порядок. Нужно немедленно атаковать, не дать опомниться. Батальоны, в две линии стройся! Стрельба плутонгами17, огонь! За мной, ребята, с Богом!.. Пруссаки бегут, и Суворов со вздохом вновь утыкается в Плутарха.
В Мемеле Суворов сдает батальоны и получает новое назначение – он комендант города. Его танталовы муки продолжаются. Он ежедневно видит войну, повозки с ранеными, тянущимися с запада, свежие полки, проходящие через город; командированные офицеры привозят самые последние новости из армии. Суворов устраивает одних, провожает других, улаживает тысячи хозяйственных и административных дел и ищет, ищет способа добиться перевода в действующую армию. Сделать это, в общем, не трудно, достаточно замолвить словечко перед начальством, но у Суворова нет протекции, он малоизвестен и чересчур самостоятелен. Сложную механику чиновыдвижения он освоит гораздо позже, а пока он молод и надеется только на себя, на свои способности и служебное рвение.
И Суворов добивается своего. В 1759 году в чине подполковника отправляется в армию, вначале адъютантом к генералу князю М.Н. Волконскому, а вскоре получает должность дивизионного дежурного (дежурный штаб-офицер) при Ферморе. С главнокомандующим у него сразу и навсегда устанавливаются самые теплые отношения. Исполнительный, скромный офицер пришелся по душе Фермору. Престарелый генерал-аншеф доверяет Суворову, поручает ему ответственные задания и в то же время ласково опекает его, проявляя почти отеческие чувства. «У меня были два отца – Суворов и Фермор», —напишет Александр Васильевич 30 лет спустя. Правда, весной этого же года Фермор был заменен на посту главнокомандующего генерал-аншефом графом П.С. Салтыковым, но, оставляя пост, он рекомендовал тому подполковника Суворова в самых лестных выражениях. Суворов остался на этой же должности, и Салтыков мог быстро убедиться в справедливости данной ему рекомендации. Его помощник отлично разбирается во всех мелочах армейского быта, и в то же время способен широко охватить оперативную обстановку в целом, оценить ее и отдать необходимые распоряжения, не тревожа главнокомандующего по пустякам. Салтыков настолько полагается на Суворова, что на время своей болезни поручает ему временно заменить себя. Суворов не боится ответственности и смело подписывает приказы по армии: «Дежурный подполковник Суворов».
В этом году союзникам, наконец, удалось договориться о совместных действиях против Пруссии. 40-тысячная армия Салтыкова ринулась в Силезию на соединение с 24-тысячным корпусом австрийского генерала Лаудона, состоявшим в основном из кавалерии. По пути русские заняли Кроссен – это было первое дело, которое наблюдал Суворов. Объединенная русско-австрийская армия 12 июля легко разгромила под Пальцигом 27-тысячный корпус Веделя и двинулась на Берлин. Одновременно с запада в Пруссию вторглись французы.
Фридрих перепоручил французов заботам Фердинанда Брауншвейгского, а сам с 48 тысячами солдат, как и в прошлом году, бросился на защиту столицы. Как и в прошлый раз, он успел преградить путь Салтыкову и Лаудону, и так же, как тогда он был уже уверен в победе, еще не увидев неприятеля.
31 июля противники расположились на ночлег друг против друга у деревни Кунерсдорф. Молчаливо признавая право за Фридрихом атаковать, Салтыков расположил армию на трех холмах позади деревни и распорядился укрепить позиции инженерными сооружениями. Лаудон встал в резерве. Фридрих вытянул свои войска полукругом, нависнув над левым флангом русских, позади которого находились болота. Король был в превосходном расположении духа. Накануне он принял курьера от герцога Брауншвейгского с донесением о победе над французами при Миндене. Фридрих приказал гонцу оставаться в лагере, чтобы завтра отвезти герцогу такое же известие.
Наутро 1 августа, едва рассеялся туман, прусская артиллерия открыла огонь по расположению русских войск. В половине одиннадцатого правый фланг Фридриха, усиленный дополнительной линией, при поддержке кавалерии, нанес косой удар по левому крылу русских. В подзорную трубу король наблюдал, как его пехота стройными шеренгами всходит на холм, время от времени окутываясь клубами порохового дыма, как бешено несутся в тыл русским страшные гиганты-кирасиры на огромных конях. Через какой-нибудь час ему донесли, что левого фланга русских больше не существует, не менее 3 тысяч их навсегда остались лежать на холме Мюльберг. Фридрих еще раз взглянул в трубу, удовлетворенно кивнул – для него ничего неожиданного не произошло – и тотчас написал две записки, герцогу Брауншвейгскому и городским властям Берлина, с извещением о полном разгроме «варваров». Правда, до полного разгрома оставалось еще окружить центр русских и оттеснить резерв Лаудона, но это был уже вопрос времени. Кто же может серьезно сопротивляться, не имея одного фланга? Два курьера понеслись к королевским адресатам, воткнув в шляпы зеленые ветви победы.
Однако, к удивлению Фридриха, на двух остальных холмах русские не трогались с места, в их рядах не было заметно ни паники, ни расстройства. Возглавлявший центр русской армии 34-летний П.А. Румянцев, пользуясь тем, что болото за спиной у русских мешает прусской кавалерии зайти ему в тыл, поспешно разворачивал орудия и перестраивал войска, готовясь выдержать фронтальный и фланговый удары. Центр стал одновременно и флангом! Фридриху приходилось начинать все с начала.
Впрочем, король не видел причин для беспокойства. Даже первые неудачные атаки на центральный холм не испортили ему настроение. Он подшучивал над своими бегущими солдатами и сам перестраивал их для новых атак.
В четвертом часу Фридриху стало не по себе. Холм Большой Шпиц был усеян телами его гренадеров, а русские не подались не на шаг, их батареи продолжали равномерно изрыгать на пруссаков груды ядер и картечи. Изнуренная, перепачканная грязью кавалерия возвратилась на позиции ни с чем. Угрюмые всадники не смели поднять глаза на короля. Во многих полках сменилось по нескольку командиров. Глядя на измученных людей, Фридрих понимал, что они сделали сегодня все, что смогли. Нехорошие предчувствия начинали пробуждаться в его сердце. Во что бы то ни стало нужна была передышка.
Тяжелый зной повис над полем. Солнце тускло блестело на запыленных кирасах, шлемах, пуговицах, конской сбруе… Атаки прекратились. Только ядра еще свистели над головами, время от времени вырывая по нескольку человек из рядов. Фридрих кусал губы: что же – еще один Цорндорф? Что за солдаты у этих дикарей?!
В пятом часу на холмах задвигались, артиллерийский огонь усилился. У Фридриха отлегло от сердца – значит, все-таки, отступают. Разгрома не получилось, но победа есть победа.
Король поднес к глазам подзорную трубу, чтобы решить, в какое место лучше бросить кавалерию для преследования, и чуть не вскрикнул от удивления – русские шеренги одна за другой спускались с холмов на равнину и строились для атаки! Для своей первой атаки в этой войне.
С барабанным боем, распустив знамена, русские приближались размеренным шагом, останавливались, давали залп и шли дальше, на ходу перезаряжая ружья. Первая линия прусских войск не выдержала, дрогнула, и, сломав строй, побежала назад. Фридрих на коне бросился наперерез.
– Стойте, негодяи! Вы что же, надеетесь жить вечно? – кричал он бегущим, размахивая шпагой. – Назад, назад, ваш король сам поведет вас!
Призыв подействовал, солдаты устремились вслед за Фридрихом на русские штыки. Противники смешались в беспорядочной свалке. Больше часа ничего нельзя было понять. Эта неизвестность удерживала обе стороны от бегства. Под Фридрихом убило двух лошадей; его мундир был прострелен. С обезумевшим взором король то отъезжал в сторону, чтобы выслушать донесения и отдать распоряжения, то снова бросался в гущу сражавшихся. Известия были неутешительные: почти все его генералы ранены, на правом фланге союзников введен в бой нетронутый резерв Лаудона. Пруссаки дрогнули.
Атака гусар Лаудона решила исход боя. Они опрокинули доселе непобедимых всадников непревзойденного Зейдлица18 и обрушились на тылы прусской армии. К семи часам вечера все было кончено. Преследуемые пруссаки бросали оружие, сдавались в плен. Фридриха видели в самых горячих местах – там, где еще сопротивлялись. Он уже не командовал, не ободрял, не грозил. Он недоумевал: если удача отвернулась от него, то почему он до сих пор не ранен, не убит, почему он должен видеть все это? «Неужели для меня не найдется ядра?» – шептал он, видя, как вокруг него падают люди.
Наконец, полностью сломленный, он отъехал к обозам, спешился, воткнул шпагу перед собой в землю и застыл, скрестив руки на груди. Его глаза были влажны от слез. Неподалеку от него австрийские гусары уже грабили повозки, а он стоял, всеми забытый и никому не нужный. По счастью, какой-то конный отряд узнал своего короля и увлек его за собой. По дороге Фридрих пришел в себя и черкнул одному из министров короткую записку: «Я несчастлив, что еще жив. От армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. Когда я говорю это, все бежит, и у меня уже нет больше власти над этими людьми… Жестокое несчастье! Я его не переживу. Последствия дела будут хуже, чем оно само. У меня нет больше никаких средств и, сказать по правде, я считаю все потерянным…» Король приказывал вывезти из Берлина свою семью и государственный архив. Всего 8—10 часов отделяло эту записку от двух, посланных утром с известием о полной победе над русскими.
Под Кунерсдорфом Фридрих потерял 19 тысяч убитыми, всю артиллерию, обоз и знамена. Но и союзники не сразу оправились от победы. 18 тысяч их – в основном это были русские – оплатили ее своими жизнями. «Ваше Императорское величество не удивитесь великой потере нашей: король прусский не продает дешево побед», —писал Салтыков Елизавете. Из Петербурга пришел рескрипт с благодарностью. Салтыкову присваивалось звание фельдмаршала, все участники сражения награждались медалью с высеченной надписью: «Победителю над пруссаками».
Теперь перед Салтыковым открывались по крайней мере три возможности: идти на беззащитный Берлин, или попытаться совместно с французами зажать в клещи армию герцога Брауншвейгского, или сделать и то, и другое, все равно в какой очередности. Салтыков предпочел четвертое: рассорившись с австрийским главнокомандующим фельдмаршалом Дауном, не желавшим признавать первенство Салтыкова в определении дальнейших действий, он отвел войска в Восточную Пруссию. «Мы много сделали, теперь ваша очередь», —заявил он растерявшимся австрийцам.
Фридрих ошибся, когда писал, что последствия Кунерсдорфа будут хуже, чем само поражение: он ставил себя на место врагов, а это оправдано только в том случае, если имеешь дело с равными. Салтыков же при всей своей смелости относился к тем полководцам, которым судьба, отдавая должное мужеству их солдат, изредка дарит славные, но бесплодные победы.
На Суворова эта бесполезная бойня произвела тяжелое впечатление. Отметив про себя энергичные действия Румянцева, он не скрывал своего возмущения Салтыковым:
– На месте главнокомандующего, я бы сразу пошел в Берлин, – заявил он в беседе с Фермором.
Это первое известное нам критическое замечание Суворова. Пора ученичества заканчивалась. «Я сам, будучи зачислен в армию, после долгой и честной службы, три года никуда не годился, – вспоминал он. – Они (полковники) расслабляют своих офицеров… сибариты, но не спартанцы… Делались генералами – подкладка остается та же». Штабная работа больше не удовлетворяет его. Быть инструментом в руках «сибаритов» – увольте! Лучше уж хоть со взводом, но в поле.
Суворов уже готов нести ответственность – за дело, за людей, за свои решения.
Некоторое время после поражения при Кунерсдорфе Фридрих пребывал в полном отчаянии относительно своего будущего. У него опускались руки, и приближенные слышали из уст короля одни лишь жалобы на судьбу. «У меня нет больше ничего, все погибло. Я не переживу разорения моей страны. Прощайте навсегда», —писал он своей семье. Казалось, несчастья окончательно сразили его. Король сделался угрюм, страшно исхудал, на его глаза часто без причины навертывались слезы. Все знали, что он стал постоянно носить с собой яд, чтобы не попасть живым в руки врагов.
Но зима прошла, и Фридрих вернулся к жизни, преображенный страданиями. «Тяжело страдать так, как я страдаю. Я начинаю чувствовать, что, как говорят итальянцы, мщение есть наслаждение богов. Моя философия подорвана страданием. Я не святой… и признаюсь, что умер бы довольным, если бы мог сперва передать другим долю того несчастья, которое я терплю», – признается он. Мысль о мщении электризует его волю, с нею он ложился спать и пробуждается ото сна. «Дарий, помни об афинянах», – повелел ежедневно напоминать себе персидский царь; Фридрих не нуждается в подобном напоминании, он живет мщением.
И все-таки его возможности уже на пределе. В кампанию 1760 года он еще расстраивает неумелые действия Салтыкова и Дауна, вялыми маневрами в Силезии понапрасну изнурившими свои армии, но достигает этого ценой величайшего напряжения сил. Отчаяние подстегивает короля, он бросается из одной битвы в другую, делает 150 верст в пять дней, рискует, производя фланговые марши на расстоянии пушечного выстрела от неприятеля, совершает головокружительный бросок сквозь три армии и все же, выигрывая в одном месте, теряет в трех. Фридрих понимает, что он обречен, но он уже не в силах заставить себя прекратить бойню. Как зачарованный смотрит он в глаза судьбе, которая почему-то медлит нанести ему смертельный удар.
«Погибну, раздавленный развалинами моего отечества, но ничто не заставит меня подписать моего бесславия», – говорит он перед сражением под Торгау, где после гибели с обеих сторон больше 20 тысяч человек австрийцы оставляют ему поле боя.
Наступательные действия русской армии в этом году ограничились набегом на Берлин, в котором принял участие и Суворов. На этот раз Фридрих не смог прийти на выручку своей столице. 24 сентября отряд генерала Тотлебена, составлявший авангард русской армии, подошел к городу и попытался овладеть им. Берлинский гарнизон состоял всего лишь из трех батальонов, но сумел отбить атаку. Тотлебен расположился под стенами Берлина, ожидая подхода дивизии П.И. Панина и австро-саксонского корпуса Ласси. В ночь на 28 сентября прусские батальоны покинули город. Наутро Берлин был занят союзниками. На городскую казну была наложена контрибуция, а казаки и гусары занялись усиленным грабежом городских и загородных дворцов, не обращая внимания на попытки командиров прекратить беспорядки.
Участие Суворова в берлинской операции вряд ли выходило за рамки штабной работы. Известен лишь один эпизод, связанный с его пребыванием в Берлине. Суворов увидел у казаков красивого мальчика, отнятого, как выяснилось, у некоей вдовы вместе с прочей добычей. Ребенок приглянулся Суворову, и он взял его к себе, выкупив у казаков. Некоторое время мальчик находился при Суворове, а по прибытии русской армии на зимние квартиры, Александр Васильевич отправил матери мальчика письмо: «Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться как о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь или напишите мне, куда его выслать». Мать, конечно, предпочла, чтобы сына ей «выслали». История довольно странная и не проясненная другими источниками.
Приближение Фридриха с 70-тысячным войском заставило русский отряд покинуть Берлин и присоединиться к остальной армии, уже расположившейся на зимние квартиры в Польше. Кратковременное пребывание русских в Берлине не имело военного значения, а грабежи и контрибуции только усилили ожесточение пруссаков.
Зимой 1760—1761 годов Суворов часто посещал Кенигсберг. Дело в том, что в декабре губернатором королевства Прусского был назначен его отец, Василий Иванович, ставший к тому времени уже сенатором. Василий Иванович сменил на этой должности генерала Корфа и оставался на ней до окончания войны. В отличие от предыдущего губернатора, жившего на широкую ногу, Василий Иванович больше заботился о доходах государства, сам же жил скромно, и только приезд двух его дочерей, Анны и Марии, заставил его изредка давать у себя балы. Зато Кенигсберг при нем все больше превращался в русский город: здесь чеканилась русская монета, появилась русская духовная миссия во главе с архимандритом. Умелым и осторожным администрированием Василий Иванович оставил по себе добрую память, о его гуманном управлении немецкие газеты вспоминали еще и полвека спустя.
Чем занимался Суворов во время наездов в Кенигсберг, мы не знаем. Конечно, заманчиво представить его слушающим лекции Канта, но для этого нет документальных оснований. Впрочем, то, что он занимался самообразованием, не подлежит сомнению. Жизнь Суворова рано приобрела размеренный ритм: когда Суворов не воевал, он читал. Обычно, кроме русских книг, газет и журналов, его интересовали издания на немецком и французском языках. Известно также, что Суворов посещал немецкие масонские ложи, но вряд ли это было чем-то большим, чем любознательность. Суворов не только никогда не высказывал неудовлетворенности учением Русской православной церкви, но, как уже говорилось, находил живейшее удовольствие в чтении священных книг и участии в церковной жизни.
Влияние отца помогло Суворову покинуть штаб. Впрочем, его имя приобрело уже некоторую известность в армии и без протекции. Генерал Берг даже выпрашивал Суворова под свое начало и получил от нового главнокомандующего, фельдмаршала А.Б. Бутурлина, положительный ответ: «Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского пехотного полка Суворова, то явиться ему в команду означенного генерала». Суворов немедленно сдает дела и летит представляться Бергу. К его удивлению, он получает назначение в кавалерию.
Бутурлину было назначено соединиться с Лаудоном и отвоевать у Пруссии многострадальную Силезию. И вновь русские и австрийцы, словно масло и вода, не смогли объединиться и теряли время в бесплодных препирательствах. В результате 100-тысячное войско союзников было вынуждено отступить перед 50-тысячной армией Фридриха, истребившей неприятельские магазины и лишившей его тем самым возможности глубоких маневров. Война продолжалась лишь в Померании, где особый корпус П.И. Румянцева осаждал крепость Кольберг – опасный клык, который мог вонзиться в спину русской армии и который нужно было вырвать как можно быстрее. Кольберг фактически являлся последней боеспособной прусской крепостью и, понимая это, Фридрих отрядил на помощь его гарнизону 12-тысячный корпус генерала Платена. В июле Платен появился в тылу у Румянцева. Навстречу ему был послан Берг, чтобы не допустить прорыва осады.



