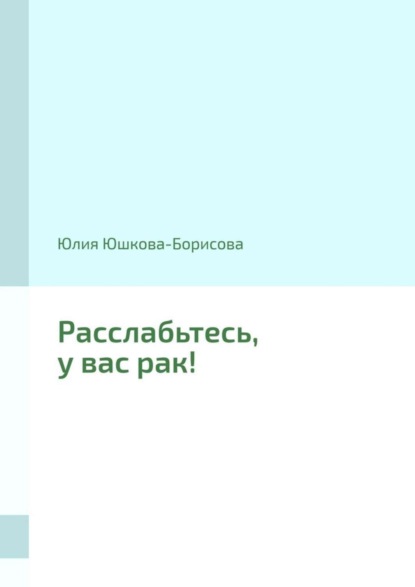
Полная версия:
Расслабьтесь, у вас рак!
«Человек у нас государственный? Да, государственный. Значит и ответственность за его здоровье должно нести государство», – так объяснила мне свою позицию врач-гинеколог, один из лучших в Н. Новгороде. (Разговор состоялся в 2018 году). Я же отстаивала точку зрения, что человек самостоятелен как личность и не только сам должен отвечать за свое здоровье, но и имеет право принимать решения относительно него. Мои попытки спорить были решительно прекращены.
Мысль о личной ответственности подозрительна людям и часто распознается как опасная, потому что вслед за ней они ожидают отказа в бесплатной медицинской помощи. Понятия о страховых фондах, куда работающие делают взносы, а за неработающих платит казна, до сих пор не укоренилось в общественном сознании. Лично в эти фонды никто денег не платит, со своих счетов туда никто ничего не переводит, точных сумм отчислений не знает и поэтому люди до сих пор уверены, что медицина у нас бесплатна, и все оплачивает государство со счетов казны, что, кстати, вполне логично, если люди принадлежат государству.
И поэтому, если человек станет свободен и перестанет быть «государственным», ему автоматически придется за все платить самому.
Казалось бы, это не так уж страшно, и скоро все встанет на свои места, люди поймут свои права и обязанности, но сейчас именно эта позиция, «я – человек, принадлежащий государству», мешает людям начать немедленно заботиться о себе. Они не хотят этого делать, где-то в глубине сознания по-прежнему считая себя «чужим имуществом».
И именно государством в целом такие люди недовольны, когда они заболевают. Это тоже было бы не так уж и страшно, если бы обиды не мешали лечению. Даже архаичная позиция «я – человек, принадлежащий Богу» гораздо более продуктивна, тогда болезнь может быть неким посланием, которое надо разгадать и сделать из него выводы. Респонденты, исповедующие позицию «я – свободный человек, принадлежащий себе» были редки, но они были. И они обнаруживали болезнь в ранней стадии, очень активно брались за лечение и боролись за жизнь. Именно они задавались вопросом, который служил внутренней мобилизации: «Что делать?». И они без лишних всхлипов ставили цели, строили планы и выполняли их.
«Государство постепенно складывает с себя все социальные функции и перекладывает их на нас, на самих граждан. Мы сами должны все делать. Пенсию молодежь сами должны копить, о здоровье сами должны беспокоиться, дома сами должны строить. Государство сложило свои полномочия. У нас к государству даже претензий нет! Я однажды пыталась бороться, но сделала вывод, что можно дойти до инфаркта или до инсульта, борясь с этим. Можно размотать себе нервы, а добиться ничего невозможно. Добьются сейчас только деньги».
(ФГ, Ульяновск, 2012)
«Я была на конференции. Там профессор сам говорит: даже если пациент погиб из-за врачебной ошибки, никогда врач про врача ничего не скажет и не будет говорить. Наши жалобы и потребы никто не слышит. Вот как здесь рассказывали: здесь две недели подождешь, там две недели подождешь. Потом нам говорят, что вы сами запустили, надо было раньше приходить. А когда приходить? К тебе приходили полтора месяца назад. Почему нельзя было меры принять какие-то? Чай по полтора часа сидишь выпиваешь с другими врачами и трещишь – на это время находится. А бабенку какую-нибудь, если она приехала с деревни, не примут. Я за 12 лет чего только не насмотрелась. Есть люди, у которых две груди отнимают».
(ФГ, Ульяновск, 2012)
«…я страховой агент… все эти расходы покрываются страховой компанией… Я четыре года в этой сфере работаю, сталкиваюсь с разными случаями. Но, к сожалению, когда есть диагнозы, когда они уже стоят, страховщик не может ничем помочь. Но ведь есть предрасположенности. И если в семье есть такие заболевания, то можно себя подстраховать. Деньги хорошие выплачиваются, их хватает не только на операции, но и полечиться качественно. Суммы очень крупные, там сразу идет 50% от общей суммы, а это, как правило, 50 000 и больше. К сожалению, не все это знают, но статистика жуткая».
(ФГ, Ульяновск, 2012).
«Я недисциплинированный товарищ, за здоровьем не слежу. Надеюсь на себя, на свои рабочие моменты – питание, не перебарщивать ничего. Так вот, я пошла на маммографию, и там мне поставили диагноз».
(ФГ, Чебоксары, 2012)
«Я уже много лет – больше двадцати – работаю во вредных условиях. У нас плановый двухразовый медосмотр на работе… у меня болезнь выявлена путем маммографии на ранней стадии. …Говорят, что женщины должны сейчас раз в год делать такую диагностику. Но давайте разберемся: что значит „должны“? Вот я пришла на медосмотр. У меня „38-42-26“, уши нормальные. И так из года в год, „Разденьтесь. Все нормально“, – говорит кожник. Зачем углубленные медосмотры (а это именно они), если у человека есть, может быть, какие-то претензии к своему здоровью, его нужно направить на какие-то более углубленные исследования».
(ФГ, Чебоксары, 2012)
Очень важно то, что в качестве основного действия по реализации ответственности за свое здоровье до сих пор многие люди считают посещение врача. Идея, что само по себе посещение, совет врача и даже выписанный им рецепт не лечат, пожалуй, еще мало кем понимается. То, что надо реализовать на практике врачебные рекомендации, то, что надо правильно питаться, отдыхать, двигаться и прочее и прочее, очень плохо входит в общественное сознание. Мысль, что, по большому счету каждый человек лечит себя сам, собственными усилиями, здоровыми привычками и точным выполнением медицинских предписаний, если только эти усилия он не перекладывает на близких людей или нанятый персонал, на мой взгляд, является неприятной для нашего общества.
04. Важность первого решения
По моему мнению, в процессе лечения, довольно скоро после известия о диагнозе человек принимает решение, жить ли ему дальше, бороться ли ему за жизнь или умирать. К сожалению, наше исследование было краткосрочным и проследить за тем, насколько наши наблюдения и прогнозы на основе контент-анализа текстов респондентов в дальнейшем соответствовали развитию событий, но те женщины, которые говорили, что в свое время приняли решение жить, приходили на наши группы уже через 12—15 лет после постановки диагноза. Я расцениваю это как косвенное доказательство того, что настрой на жизнь способствует выживанию. Часто этот настрой не был связан с тяжестью заболевания, его формой и стадией. Порой люди, рассказывающие просто леденящие душу истории своей болезни, были веселее и радостнее, чем те, кто пока что «легко отделался».
«Живу, борюсь, не унываю. Занимаюсь физкультурой. Всего операций у меня 13, из них с грудью связано 5. На сердце у меня была большая операция, тоже в Нижнем Новгороде мне делали. У меня была опухоль в сердце. Опухоль была 110 грамм. Тогда в Ульяновске такие операции не делали. Сейчас вроде начинают, но в основном сейчас в Пензу отправляют. Два врача есть здесь очень хороших, но их в свое время затерли, отбросили. По сердцу врачи в Нижнем Новгороде прекрасные, таких единицы. Такой доктор мне делал, академик, ему уж 70 лет было в то время. Сделал отлично. Живу. Выживаю. На гимнастику хожу, в бассейн. Стараюсь жить. Будешь дома сидеть, какие только мысли в голову не лезут. И ты уже не знаешь, что делать. Я дома не сижу, я всегда в движении. На гимнастику я хожу специальную, для больных.
(ФГ, Ульяновск, 2012)
«Всякие были сложности. Не столько с операцией, сколько с облучением. Когда облучали, аппарат сломался, мне все сожгли. Я лежала на столе, они бегали во всех своих костюмах, кто чем меня пытался накрыть. До сих пор следы остались. Потом отпустили меня домой. Две недели я пробыла дома. И потом меня вызвали. Это все до операции было. Пока было нельзя, потому что кожа разрывалась. Две недели я пробыла дома, потому меня вызвали, посмотрели и уже стали делать операцию. Операция шла около 6 часов, но сделали хорошо. Как видите, живая, здоровая, симпатичная женщина. Все нормально. Но не унываю. Хочу сказать, что если у кого, не дай Бог, так случится, никогда не надо опускать руки. Надо быть при людях, на людях, общение большое. Ведь у нас всякое бывает. У женщин мужики такие бывают, что не знаешь, что скажет. Может человек словом убить. Всегда надо держать себя в руках – это самое первое правило. Сколько у нас девочек померло? Сколько руки на себя наложило? Но ведь в каждой семье есть свои горести, не у всех все гладко…»
(ФГ, Ульяновск, 2012)
«Старшая сестра поликлиники …разделила всех больных на оптимистов, которые независимо от того, знают или не знают они свой диагноз, будут бороться, и пессимистов, которые опускают руки, ноют и, в конечном счете, умирают».
(Материалы исследования, дневник интервьюера, Н. Новгород 2012)
В дальнейшем человек может действовать в соответствии с принятым, пусть даже бессознательно, решением, и именно это решение может определить исход болезни.
Это сложное решение, оно принимается на основе многих факторов жизни человека, наличия обязательств, наличия прав, наличия поддержки, средств, жизненных целей и задач.
И, на мой взгляд, лучше принять его сознательно и ясно ответить себе, к чему возможно стремиться, что имеет смысл делать и зачем это надо делать в текущий период.
05. Надо ли сообщать диагноз?
Так надо ли сообщать больным диагноз, если он вызывает у больных негативные последствия сам по себе, если само получение такого известия ухудшает душевное состояние больного? Надо ли объяснять им, какой именно формой рака и какого органа они больны и посвящать их в процесс лечения? Надо ли обсуждать с ними то или иное назначение?
Российская и особенно советская медицина прямо придерживалась мнения, что больным знать диагноз совершенно не нужно. Думаю, что эта черта общей профессиональной культуры врачей выработалась неслучайно и была ответом на дикую неграмотность и умственную тупость пациентов, «тьму египетскую», как ее описывает М. Булгаков.
В «Записках юного врача» он рисует не просто необразованность, но и чудовищное упрямство и лживость пациентов. Никакого доверия врача пациенту, никакого сотрудничества между ними там быть не может.
«…Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:
– Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!
– Уйди, бабка! – с ненавистью сказал я ей. – Камфару впрысните, —
сказал я фельдшеру.
Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.
– Может, это ей поможет? – спросила мать.
– Нисколько не поможет.
Тогда мать зарыдала.
– Перестань, – промолвил я. – Вынул часы и добавил: пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.
– Не согласна! – резко сказала мать.
– Нет нашего согласия! – добавила бабка.
– Ну, как хотите, – глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:
– Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку.
Соглашайтесь. Как вам не жаль?
– Нет! – снова крикнула мать.
…
– Убьет, – повторила бабка, глядя на меня в ужасе.
– В операционную их не пускать! – приказал я».4
В ситуации, когда врач на несколько порядков более образован, чем больной, когда они не просто представители разных социальных слоев, а скорее разных субцивилизаций, настолько велика культурная разница между ними, тогда складываются очень особые отношения в процессе лечения. Больной, неспособный ни усвоить информацию, ни осмыслить ее, ни оперировать ею, может только верить врачу и верить во врача как в некое существо высшего порядка или не верить ему: «Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю». (М. Булгаков, «Записки юного врача», «Стальное горло»).
Но все-таки, в связи со встречным движением этих субцивилизаций одна к другой, с ростом образованности пациентов и одновременном опрощении врачей, уже в середине XX века наметилась другая тенденция.
Солженицын в «Раковом корпусе», если рассмотреть его автобиографическую повесть как социологический материал, устами своего героя возмущается правилом игнорирования пациента как интеллектуальной единицы, утверждает, что его «лечат как обезьяну», ничего не говоря ему, не рассказывая ему о лечении, перспективах, последствиях, не спрашивая решительно его мнения и никоим образом не подключая его к процессу. Более того, он оспаривает право врача лечить больного без его на то согласия: «…мне надо понять и разобраться! Я хочу понять, в чем состоит метод лечения, какие перспективы, какие осложнения… мне ничего не объясняют, лечат, как обезьяну».5
Во времена действия «Ракового корпуса», то есть, в пятидесятые года XX века онкологический диагноз больным не сообщали, его писали в документах латинскими терминами. Солженицын описывает, как выписывается из диспансера молодой человек с диагнозом «неоперабельный рак сердца», которому ничего об этом диагнозе не говорят, и выписанный уверен, что он здоров, что направление его в онкодиспансер было врачебной ошибкой. Главный герой, обладая знаниями иностранных языков, переводит этот диагноз, но тоже ничего не говорит молодому человеку…
Сейчас не сказать о диагнозе довольно трудно. Редкий человек, лежащий в диспансере, может поверить, что это с ним происходит по недоразумению, что его исследуют и лечат просто так, на всякий случай, и что у него совсем даже не рак, и что он выйдет отсюда через несколько недель здоровым человеком. Такое может случаться, я понимаю и даже знаю примеры, когда повторный гистологический анализ отвергал диагноз, но все равно «под ним» пациент ходил некоторое время, и это время давалось ему нелегко. Но даже если человек не хочет знать свой диагноз, то скрыть его от него сейчас вряд ли возможно, да и как объяснить человеку, почему ему делают операцию, прописывают химиотерапию или радиологическое лечение, если не сказать ему, что у него рак? Людей, у которых в руках смартфон с интернетом, уже не провести латинскими словами. Они быстро выяснят, что они означают, погуглив их.
Тем не менее, врачи и до сих пор неохотно говорят о диагнозе и еще менее охотно о его деталях. Некоторые пациенты с ними солидарны! Они не хотят знать ни о чем.
«Не хочу знать, считаю, чем меньше я знаю про эту болезнь, тем для меня лучше. Мой покойный отец, онколог, считал так же. Он рассказал мне историю, когда безнадежному больному ничего не сказали, назначив прием через полгода, зная, что он умрет. После этого он еще несколько лет приходил на прием».
(Интервью, Н. Новгород, 2012)6
«Я не знаю и не хочу ничего знать, даже просто поездка сюда вызывает неприязнь, давление поднимается…»
(Интервью, Н. Новгород, 2012)
«…что для нас лучше, эффективнее – это знает только врач».
(Интервью, Н. Новгород,2012)
«Я хирургический работник в травматологии, в онкологии чуть-чуть работала. Я не могу сказать, хочу ли я это или не это. Я объяснила врачу ситуацию и сказала: „Я вам доверяю на сто процентов, я вверяю себя и свое здоровье в ваши руки“. Я просто не имею права этот вопрос дискутировать! Ну, согласитесь, как человек не сведущий в онкологии может претендовать на углубленную информацию? Это очень высокие знания в сфере онкологии. …Разве мы можем сказать: „А дайте-ка мне химиотерапию или дайте мне гормональное лечение“? Я не имею права это делать, потому что у меня нет в этой области знаний. Нету знаний, понимаете?»
(ФГ, Чебоксары, 2012).
«Ничего не говорили ни в Балашихе, ни здесь. Выписывают препараты, и пьём. Я даже узнавать не хочу, читать ничего не хочу. Я просто знаю, что у меня „три плюс“. Никто мне ничего не сказал. Я так поняла, что это активные клетки. В палате от кого-то чего-то услышала. Мы ходили на школу пациентов, но там таких вопросов не задавали».
(ФГ, Московская область, 2013).
«О врачах тоже так нельзя говорить, что они нам ничего не рассказывают. Представьте, есть там одна палата, там лежат 20 человек. Вот представьте, что будет, если с каждым разговаривать. Вместо 8 человек лежит 20! Когда с ними разговаривать? Надо прийти, каждую карточку написать, каждому назначить. У врачей просто времени нет, у них такая нагрузка. Такая нагрузка, вы только представьте. По нашей болезни там всего-навсего четыре оперирующих врача на область. Когда им с нами заниматься? У них времени нет, они бегают. Он делает операцию: одну режет, ее убрали, следующую положили. Он режет и режет. Он перерезал несколько человек, он уже никакой, а у него еще палата, ему еще обход надо сделать. К каждому больному надо и до операции подойти, и после. И что, с каждым из нас он будет разговаривать? Да он просто ничего не успеет.
Стенды в больнице есть. Например, наша организация «Движение против рака» выпускает газету. Волонтеры наши ходят. Я даже дежурила, приносила очень много литературы, рассказывала. Так некоторые вообще не берут, говорят: «Я вообще ничего не хочу знать. Не хочу с тобой разговаривать, чего ты ко мне подходишь?». Врач не может так к каждому обратиться».
(ФГ, Ульяновск, 2012).
«Много информации, которая людям просто не нужна. Раньше я все выясняла про свое заболевание, и это меня угнетало. А сейчас я подошла к своему заболеванию не пессимистически, а оптимистически. Вот, Дарья Донцова пишет свои книги и литературные труды. Так она говорит, что оптимизм лучше знания. Человек хочет жить, у него за спиной дети и внуки, зачем ему копаться в своей болезни?»
(ФГ, Чебоксары, 2012).
Более того, к моему удивлению, есть пациенты, которые хотят думать и думают, что у них не рак, даже если им делают операцию, по-своему трактуя слова врача. На мой взгляд, это следствие скрещивания двух явлений, защитной реакции на травму известия о болезни и проявление позиции человека, принадлежащего другим – государству, Богу, врачам, начальству на работе и системе здравоохранения.
«Со мной была как-то женщина, татарочка, без двух грудей, она мне говорила после операции: «Верка, смотри, сейчас придет врач и будет на тебя глядеть. Если в глаза посмотрит и улыбнется, значит, у тебя раку нет». Их повадки уже все знают. И вот в тот день врач зашел в палату, повел глазами, улыбнулся и говорит потом: «У вас все хорошо, все нормально, успели вовремя». А бывают те, которые говорят, что поздно пришел. А как иначе, болезнь ведь не стоит на месте.
(ФГ, Ульяновск, 2012).
06. Общение врача и пациента
Между позицией человека, не принадлежащего себе и позицией интеллектуала, берущего на себя ответственность за свое выздоровление, огромная дистанция.
«– Людмила Афанасьевна! Как бы нам установить не этот тон взрослого с ребенком, а – взрослого со взрослым? Серьезно. Я вас сегодня на обходе…
– Вы мне сегодня на обходе, – погрознело крупное лицо Донцовой, – устроили позорную сцену. Что вы хотите? – будоражить больных? Что вы им в голову вколачиваете?
– Что я хотел? – он говорил не горячась, тоже со значением, и стул занимал прочно, спиной о спинку. – Я хотел только напомнить вам о своем праве распоряжаться своей жизнью. Человек – может распоряжаться своей жизнью, нет? Вы признаете за мной такое право? …Вы сразу исходите из неверного положения: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Дальше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, программа, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я – песчинка, как в лагере…».7
Думающий человек врачу неудобен. Он требует того, чего у врача сейчас меньше всего – меньше, чем сил, меньше, чем знаний и компетенций, меньше, чем лекарств, приборов и инструментов – времени. Он требует профессионального общения. А это практически невозможно. По моим последним наблюдениям, сейчас на одного лечащего врача в онкологическом отделении может приходиться до сорока и более человек пациентов. Каждому детально объяснить процесс его лечения, на мой взгляд, не представляется возможным.
И тут на помощь приходит норма общения прошлого века, против которой восставал Солженицын. Смотреть грозно, говорить уверенно, неколебимо стоять на своем.
Времени нет…
Кроме того, все культурные нормы меняются очень медленно, быстро они меняются только в опасных для общества ситуациях. Норма общения «взрослый за все ответственный врач – пациент как ребенок» не может измениться просто так, сама собой, она будет меняться только под действием некого давления сообщества пациентов, либо неких других факторов.
Самое интересное в повести Солженицына – история болезни самого доктора Донцовой. Как только она понимает, что больна раком желудка, она «своим признанием исключает себя из благородного сословия врачей и переводит в податное зависимое сословие больных».8 Но и это еще не все! Она готовится к тому, что «через несколько дней она будет такая же беспомощная и поглупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своей внешностью, – и ждать, что скажут старшие и опытные. И бояться болей. И, может быть досадовать, что легла не в ту клинику. И может быть сомневаться, что ее не так лечат. И как о счастье самом высшем мечтать о будничном праве быть свободной от больничной пижамы и вечером идти к себе домой».9
Резко поглупеть и отдаться чужому мнению собирается лучший врач отделения!
Конечно же, это литературная история. Но повесть автобиографична, и она точно отражает сам стиль отношений «взрослый врач – пациент как ребенок». Хорошая литература вообще необычайно социологична.
А надо ли его ломать, стиль общения «взрослый-ребенок»?
Многие пациенты этого хотят.
Именно недостаток информации сеет панику, которая, в свою очередь, подрывает возможность хорошего исхода. Именно отсутствие контакта с врачом рождает попытки лечиться где-то в другом месте и другими способами.
На мой взгляд, смена типа отношения врача с пациентом на «взрослый со взрослым», хотя бы в тех случаях, когда пациент к этому готов и этого хочет, поможет многим людям успокоиться и выдохнуть свое горе. Расслабиться.
Хотя, конечно, «рост» среднего человека как личности и как пациента идёт постепенно, многие из них, выйдя из состояния ребенка, живущего в «тьме египетской», еще не дошли до состояния взрослого ответственного человека. Они, если так можно выразиться, находятся в стадии «пациент-подросток» со всеми негативными чертами этого периода жизни человека, когда полуребенок требует соблюдения его прав, не желая брать на себя обязательства, когда ему кажется, что он все знает и все может решить сам, однако, как только возникают трудности, сваливает вину на других. В этом случае, в случае общения «взрослый врач – пациент-подросток» врачам можно только сочувствовать.
Но в связи с тем, что на рынок труда выходят новые поколения, в которых взросление личности замедлилось в связи с общим ростом продолжительности жизни, что мы с коллегами впервые заметили еще в 2008—2009 гг.,10 то уже можно наблюдать отношения «врач-подросток – пациент-подросток», со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.
Но как бы то ни было, современный врач уже часто не может обращаться с больным как с ребенком, хотя бы потому, что некоторые больные образованнее самого врача. Даже если это образование в других отраслях знания, то это все равно радикально меняет дело. Образованный человек легко усваивает информацию и начинает ею оперировать. При ее недостатке ищет ее и знает, где найти. И лучше, если эту информацию и ее расположение в логической сети знания ему даст врач. В противном случае, он ее почерпнет из открытых источников и существует опасность, что он будет оперировать ею неверно.
«У нас тут люди все интеллектуальные. Все приходят с айфонами, с ноутбуками. Только что-нибудь надо – раз, тын-тын-тын, в интернет вышли и всю информацию получили. Мы же умные люди».
(ФГ, Чебоксары, 2012).
«Я хочу предложить выпускать медицинские вестники или еще что-то. Потому что чисто случайно где-то с кем-то пересекаешься и узнаешь. Работает только сарафанное радио. В итоге, у меня какое предложение. Во-первых, надо, чтобы женщины после 40 лет обязательно сдавали онкомаркер. К сожалению, я это сама узнала от знакомых. Правильно кто-то говорил, что мы просто не знаем, куда и какие шаги нам сделать, чтобы потом не оказываться в ситуации, когда нужно за громадные деньги куда-то ехать. Я предлагаю выпустить какой-нибудь медицинский вестник, чтобы мы знали, где какие акции проходят, где какие-то консультативные пункты, где можно диагностики проходить».



