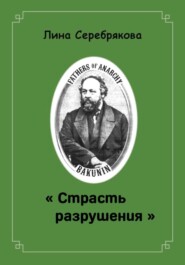
Полная версия:
СТРАСТЬ РАЗРУШЕНИЯ
– Ошибаетесь! В России дворян не вешают.
Лицо мадам сурово.
– Для вас Император сделает исключение.
Сергей выходит. Он взъерошен.
– Сказала, что буду повешен.
В дверь входит Павел Пестель. Сергей хмуро прохаживается из угла в угол. Пестель выходит озадаченный.
– И мне предсказала веревку с перекладиной. Полагаю, вещунья лишилась ума от страха перед русскими победителями.
Такими они появились в Премухино.
В борьбе двух крайних мнений при основании "Союза спасения" и при становлении устава "Союза благоденствия" Александру Михайловичу пришлось употребить все свои дипломатические способности.
– Необходимость изменения образа правления, – терпеливо убеждал спорщиков живой свидетель падения Бастилии, – существует только в воображении весьма небольшого кружка молодежи, не давшей себе труда взвесить всех бедственных последствий, которые неминуемо произойдут от малейшего ослабления верховной власти в стране, раскинутой на необъятное пространство. Усиление, а не умаление власти может обеспечить развитие народного благосостояния в нашем небогатом и редко населенном государстве.
Александр Михайлович был непоколебим.
– Но демократия! – горячился Сергей Муравьев. – Примеры Греции и Рима, участие в управлении всех свободных граждан! Разве история ничему не учит?
Александр Михайлович потуплял взор, вздыхал и со всевозможной мягкостью охлаждал горячие головы заговорщиков.
– Всенародное участие в управлении страной есть мечта, навеянная нам микроскопическими республиками Древней Греции. В странах теплых, богатых и густонаселенных ограниченные монархии еще могут существовать без особого неудобства; но при наших пространствах, в суровом климате и ввиду неустанной европейской вражды, мы не можем переносить атрибуты верховной власти в руки другого сословия.
Он склонял Муравьевых на свою сторону.
– Самодержавие представляется у нас не столько необходимостью или нужностью для интересов династических, сколько потребностью для народа и безопасности государственной.
Устав "Союза Благоденствия", который способствовал образованию умеренного крыла декабризма, был целиком разработан в кабинете Александра Михайловича Бакунина, не без влияния его старомодного консерватизма. Это смягчило участь многих декабристов.
1825 год. Санкт-Петербург. Над городом висели хмурые декабрьские тучи, серое каре войск недвижно темнело Сенатской площади. От него исходила угроза. Охваченный ею, высокий красавец, со вчерашнего дня, супротив своей воли, Император Всея Руси Николай I, молился в церкви вместе с семьей.
Свита, генерал Сухозанет, Василий Левашов и другие ожидали его на площади. При появлении государя генерал Сухозанет четко шагнул навстречу.
– Бунтовщики вооружены, Ваше Величество.
– Вы полагаете, надо стрелять?
Николаю I отчаянно не хотелось ввязываться в стрельбу, и, как новичок, он молил о помощи. Сухозанет понимал это.
– Во спасение империи, Ваше Величество!
Со стороны войск доносились возгласы, дружные крики.
– Ура Константину! Да здравствует Конституция!
Царь был удивлен.
– Они знают слово «Конституция»?
– Им сказали, что это жена Константина.
Василий Левашов, уже влиятельный сановник, исподволь наблюдал за Николаем I. За прошедшие годы Василий Васильевич высоко взлетел по службе, имел дома в столице и Москве, пользовался доверием правительства. Сейчас он был весь внимание, наблюдая за молодым царем.
– Могучий мужчина, – соглашался сам с собой. – Бледен, как полотно. Свалилось на него. Отца задушили, деда прибили, пращура отравили…
Николай I медлил и медлил.
– Грех начинать царствование с пролития крови подданных.
– Я прикажу стрелять холостыми, – Сухозанет брал на себя. – Не послушают, пустим картечью поверх голов. А уж коли и тогда не вразумим, пускай пеняют на себя…
Почта в Премухино приходила раз в неделю. Обильная, книжная и журнальная, на пяти-шести языках. И весточки от друзей, родственников. Радостный день!
Александр Михайлович на ходу сломал сургуч на первом конверте.
– От Василия Левашова. Старый друг! Вспомнил меня.
И замер с письмом в руке.
– Они осмелились! О, горе! Стрельба, аресты… – и без сил опустился в кресло, дочитывая. – «сожги письма, бумаги, любые сношения».
Исход декабрьского восстания 1825 года стал потрясением для всего семейства Бакуниных. Когда страшная весть достигла Премухина, все затихло в просторном доме.
Ночью хозяин имения жег в печи письма, дневники, черновики.
– Боже милосердный! Что они натворили!
Мишель тоже не мог спать. В ночной рубахе стоял возле печки.
– Они выступили, да?
– Запомни, Мишель, эту ночь. И то, что произойдет чрез время.
– Их схватили?
Александр Михайлович в возмущении потряс кулаками.
– Верноподданные! Гвардейцы! … Драчливые петухи! Заигрались!
Юный Мишель отрешенно смотрел в пространство.
– Они надеялись на победу?
Отец горестно качался на скамеечке перед топкой.
– Считать свои намерения сбыточными – преступное сумасбродство! О-о! Самоистребительная кровь Муравьевых! О-о!
Но Мишель бил в свою точку.
– Они хотели лучше… другим? И могут потерять свою жизнь?
Александр Михайлович опомнился.
– У тебя глубокий ум, Мишель. Заметь бе́ссмысль в самой посылке: привилегированный слой с оружием в руках выступает против собственных привилегий. Такое возможно только в России.
Пошли аресты. Слухи наводнили окрестности. "Того взяли, схватили, привезли из деревни…" Родители трепетали за детей.
Сергея Муравьев-Апостола арестовали в полку, где он служил. При нем находился и младший братишка Ипполит. Оба оказали яростное сопротивление. Сергей был ранен, сбит с ног. Ипполит, решив, что брата убили, застрелился.
…
… Кабинет Императора Николая I искрился солнечными лучами, отблески Невы добавляли игры света и тени на узорном потолке. Николай I лично разбирался с решениями судов, бумагами бунтовщиков. Сегодня ему помогал Василий Васильевич Левашов. Император был мрачен.
– Сергей Муравьев-Апостол. Вместе с Пестелем намеревался истребить весь царский род, все мое семейство.
Левашов вздохнул.
– Прискорбно, Ваше Величество.
Император поднялся, принялся мерить шагами просторный кабинет.
– Мой однокашник, как говорится. Прекрасный инженер. Вместе мечтали о железных дорогах по всей России, за Урал, по Сибири. И будем, будем строить, никуда не денешься.
Он позвонил.
– Введите Муравьева-Апостола.
Едва живого Сергея ввели под руки два офицера. На голове его пестрела кровавая повязка, на грязной рубахе – засохшие пятна крови, тюремный вид его был ужасен. Особенно в кабинете дворца.
Офицеры ушли. Сергея шатало от слабости, он держался из последний сил. Царь и Левашов усадили его в кресло. Наступило молчание.
Наконец, Николай I шагнул к креслу.
– Не время разбрасывать камни, Сергей Иванович! У нас с вами инженерное образование. Россия нуждается в нас.
Муравьев-Апостол даже не взглянул в его сторону.
Император продолжал.
– Россия переходит от ручного к машинному способу производства.
Сергей упорно смотрел в пол. Николай по-братски нагнулся к нему.
– Ведутся изыскания под железную дорогу. Вначале в Гатчину, потом в Москву. Наши мечты! Мы принял расширенную колею, чтобы ничьи войска не ворвались к нам по рельсам. Вот моя рука.
Но Сергей убрал руки за спину.
Помолчав, Николай I пожал плечами и кивнул Левашову. Так же под руки они повели Сергея к двери.
– Разрешите прислать вам свежую рубаху? – предложил Левашов.
Голос Сергея был глух, по исполнен внутренней силы.
– Я умру с пятнами крови, пролитой за Отечество.
… 13 июля 1826 года пять участников декабрьского восстания – Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол были повешены.
Траур и панихиды по казненным были запрещены. Живой памятью о братьях Муравьевых в Премухино остался дубок, посаженный их руками в тот незабвенный приезд.
… Зато весело шелестела листвой молодая липовая аллея. Деревьев было одиннадцать, они были названы именами детей.
Не драгоценная посуда
Убранство трапезы моей, -
Простые три-четыре блюда
И взоры светлые детей.
Кто с милою женой на свете
И с добрыми детьми живет,
Тот верует теплу на свете
И Бог ему тепло дает.
Когда вечернею порою
Сберется вместе вся семья,
Пчелиному подобно рою,
То я щастливее царя!
Поэма "Осуга" тех благословенных лет светится миром и благодатью. Дети еще малы, родители здравы, а сам Александр Михайлович незаметно для самого себя преобразился во Вседержавного и Всеведающего патриарха, окруженного любящей и покорной паствой.
Мишель, старший сын, беспокоил его.
Глубокая уязвленность подростка уже давала о себе знать неровностями его нрава, а бунтарская кровь молодых Муравьевых да собственные деспотичные бакунинские порывы добавляли огня. Лет с десяти-одиннадцати он вдруг стал убегать из дома на целые сутки. Когда это случилось впервые, переполошился весь дом, но потом уже не беспокоились. Отец просто посылал человека с теплым тулупом для сына.
В тринадцать лет, обостренный, поперечный, он переживал ужасные муки. Отношения с матерью были ножевыми, с подростковой уязвимостью он сгорал от стыда, что она знает его изъян. С отцом было помягче.
– Объясни ему, наконец, по-мужски, – вздыхала Варвара Александровна.
– Ни-ни, – Александр Михайлович тряс лицом. – Сейчас любое слово как огонь к сену. Возраст!
– Ах, мой друг! А мне-то… где взять любовь к нему? Десять детей! Жалко его.
Александр Михайлович крепился сердцем.
– Жалость ломает человека. Несчастье, напротив, кладет величие на чело тех, кои умеют вынести его.
Что делал оскорбленный ребенок в тверских лесах? Пенял на судьбу? Почему, почему именно его наказала она? Младшие браться, рождавшиеся один за другим, домашние коты, псы, жеребцы – все были полноценными, не обойденными судьбой. Пусть никто-никто не знает об этом, но знает мать!
– Она виновата! Она! – непосильные переживания для детской души. Он падал в траву, рыдал горько и безутешно. Все виноваты, весь мир виноват перед ним, разрушить, опрокинуть его жестокость и несправедливость! Никакой пощады этому миру!!
Мать, с юных лет обремененная многодетностью, навряд ли проникалась тайнами душевной жизни любимых чад. Ее стараниями все были здоровы и прекрасно воспитаны. Зато отец, мужчина, мог бы объясниться с ребенком! Но… избегал, тянул, старался не замечать. Так никто и никогда не поговорил с Мишелем всерьез и спокойно о том, что огнем калечило юную душу, не нашел точных слов, чтобы разъяснить мальчику его особенность, умиротворить глубинные страхи и обиды.
Едкая, едва заметная трещина змеилась между родителями и старшим сыном.
Однажды он лежал в траве и смотрел в небо. Бурные рыдания его стихли, слезы просохли. Он многое слышал о своих казненных и сосланных родственниках, посмевших выступить против власти.
– Все неспроста, – засветилась мысль. – Быть может, я отмечен свыше. Не для меня тихие радости семейной жизни, я не буду жить для себя.
Подросток вскочил на ноги. Новая сила входила в него.
– Сам Бог начертал в моем сердце судьбу мою. "Он не будет жить для себя!" … Вот оно что!
Мишель гордо посмотрел вокруг. Пусть. Теперь он знает.
Четырнадцати лет Михаил Бакунин был определен в Императорское артиллерийское училище близ Санкт-Петербурга и на долгих пять лет покинул райскую жизнь среди возлюбленного семейства.
…
– Варенька, – настороженно окликнула племянницу Татьяна Михайловна. – Ты придешь нынче ко мне читать Четьи-Минеи?
Варенька, стройная темноволосая и темноглазая девушка шестнадцати лет, отрицательно качнула головой. Это был отказ. С невнятным бормотанием тетка сердито взглянула на нее и махнула обеими руками.
– Уж диви заняту была! Скверная девчонка.
– Не обзывайте меня!
Девушка проскользнула вперед, скрылась в своей комнате и заперлась изнутри. Бросилась на постель, лицом в подушку, и, задыхаясь, стала рыдать, тихо, чтобы не слышали. Потом в слезах опустилась на колени.
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится Имя Твое,
Да приидет Царствие Твое…
Лицо ее исказилось, из глаз полились слезы, кулаки сжались.
– Кому ты молишься? Бога нет! Я сойду с ума от сомнений! Я урод, отверженное творение, я не верю в Бога!
До каких пор? Сколько, сколько раз за последние годы с нею происходило одно и то же!
Все началось с того, что в тринадцать лет во время поста она прочитала книгу St.-Francois de Salle. Это было подобно удару грома! От исступленной веры в Бога, от ужасного разлада между долгом перед Ним и своими "грехами" она чуть не зарезалась. Душа горела как в огне. Когда мучения оставляли на миг ее душу, она оглядывалась по сторонам и удивлялась, что вокруг все спокойно. Как они живут, и может ли она жить так, как они?
Никто не понимал ее, от нее отшатывались.
Детские и отроческие душевные невзгоды у детей Александра Михайловича происходили на редкость драматично. Но к папеньке, любящему, всезнающему, холодновато-отстраненному собственным совершенством, никто подойти не решался. Матери же и вовсе не удавалось стать доверительной отдушиной для собственных чад, к ней испытывали почему-то даже тайную нелюбовь.
Варенька пережила все сверх всякой меры. После исступленной веры в Бога другое, противоположное, дикое и ужасное, подозрение в небытии Бога адским огнем прожгло душу.
Непосильные мысли для юного существа. Девочка едва уцелела. Отчаяние, ужас и безнадежность рождали в глубине существа вопль, от которого выступала испарина и шевелились волосы. "Бога нет! Нет! Почему же меня отталкивают? Почему называют сумасбродной девчонкой? Пусть! Я – отверженное творение, я не верю в Бога, я урод, я не такая, как все!"…
Все ли человеческие существа проходят через подобные потрясения?
Понемногу, вместе с отрочеством отступили и эти порывы. Никто из взрослых, и менее всего величественный Александр Михайлович, так и не узнали, что пережила в глубине души эта смелая веселая девушка.
… Отплакавшись, она уселась за столик возле окна, выходившего во двор. Вот проехала подвода к хозяйственным постройкам, вон с парадного крыльца спустились братья, все пятеро, окружая папеньку. Конюх, держа под уздцы смирную старую лошадь под широким седлом, ожидал их у ворот.
Родные братья! Ах, благо!
Стало совсем легко, будто все, что накопилось в душе, вырвалось вместе с рыданиями. Она любила в себе эту ясность. И сейчас оглянулась вокруг твердым и светлым взглядом. Пусть ничего не понятно, но можно жить дальше. Причесала гребнем густые вьющиеся волосы, уложила их на макушке и легким шагом вышла в гостиную. Там села за фортепиано, взяла для начала несколько аккордов, потом заиграла этюд юного польского композитора Шопена, который выучила на прошлой неделе. После отъезда Мишеля, исполнявшего худо-бедно партию скрипки, она играла только фортепианные пьесы и аккорды.
Ах, Мишель, любимый брат! Вот кто понимал ее! Как давно его нет! Зато его письма наполняют всех такой радостью!
Услыша музыку, вошла с рукоделием в руках и опустилась на стул у окна Любаша, старшая сестра. В противоположность мятежнице-Вареньке, Любаша была светленькой, хрупкой, словно воздушной, и всегда-всегда ясной, словно бы никакие сомнения никогда не касались ее совершенной души.
– Пойдем в сад, Любаша, – Варвара захлопнула крышку фортепиано.
– Я хотела предложить.
– Лишь захвачу письма Мишеля.
Они миновали столовую, где сидели две младшие сестренки, Танечка и Саша. Они рисовали цветной тушью собранные на берегу цветы и травы, выделяя каждый лепесток, жилочку и ворсинку – старательно, не дыша, держа за образец картинки в толстой немецкой книге по ботанике, где каждая гравюра была исполнена с непостижимой тщательностью и переложена полупрозрачной тончайшей бумагой. Девочки молча посмотрели вслед старшим сестрам. После рисования, через сорок пять минут, им предстояли занятия с папенькой немецким языком, перевод и заучивание наизусть лучших стихотворений Гете, а перед ужином маменька усадит их за фортепиано.
Теплый майский день незаметно перешел за четыре часа пополудни.
Выйдя за ворота, девушки обогнули луг, где пятеро братьев под надзором отца и с помощью конюха осваивали верховую езду, и пошли по аллее наверх. Весь сад был в цвету. В начале мая выпали холода, задержавшие цветение, и теперь распустились враз все фруктовые деревья, черемуха, сирень, лесные и луговые цветы. Их ароматы струились в воздухе как райские грёзы. Пение птиц и кваканье лягушек слышались отовсюду, снизу и сверху.
– Тетенька опять обижается на тебя, да? – спросила Любаша.
Варенька кивнула головой.
– Ну и что? Я не виновата, – строптиво ответила она. – Я не могу верить вслепую…
– Папенька велит верить, не рассуждая.
Варенька передернула плечами.
– Пусть мне докажут! Если тетенька так верит в вечную жизнь, почему она сама не умирает? Вся религия – от страха. Я тоже боюсь, но честно.
– Ты бунтуешь, Варенька, ты хочешь понять умом. А вера – это озарение, это божественная благодать. Это тайна. Постичь ее разумом – невозможно, – тихо говорила сестра. – Как странно. Который год мы с тобой ведем эти разговоры, еще при Мишеле, а папенька даже не догадывается, что у нас на душе.
– Мы все обожаем папеньку и никогда не выйдем из его родительской воли, но… Любаша, миленькая, разве ты не видишь, что мы – в золотой клетке? Я часто думаю о мире, окружающем Премухино, о барышнях Твери, Москвы. Они другие. Помнишь княгиню Дашкову восемнадцати лет, с саблей в руках посреди крамольной толпы солдат! Вот какие они. А наша тетенька Екатерина, фрейлина императрицы, во дворце! Вот где жизнь! О, как я хочу вырваться отсюда!
Любаша не отвечала.
На высоком насыпном холме, в беседке, откуда открывался вид на дальние-дальние покатые холмы, покрытые лесами, девушки уселись на скамейку и положили на стол письма брата. Третий год семья жила без Мишеля. Его письма из мальчишеских, полных жалоб на грубость товарищей и на строгость офицеров, "перед которыми никогда не бываешь прав", превратились в юношеские, они дышали лукавством и живыми картинками. Их читали и перечитывали.
Большинство их было написано убористо и мелко по-французски, русский же пестрел ошибками и помарками. Многое уже помнилось наизусть, но читать хотелось снова и снова.
… Я узнал черную, грязную и мерзкую жизнь, во мне совершенно заснула всякая духовность. Как холодно в этом чуждом окружении!.. Мне предстоит побороть еще много недостатков, как, например, нерадивость, чревоугодничество, даже леность, которая иногда посещает меня. Но с помощью терпения и доброй воли я надеюсь отделаться от них… Учение довольно трудно, но для меня это единственное средство честно прожить и стать полезным моему отечеству и моим родным… Я был подвергнут аресту за то, что с улыбкой сказал: "Ого!", в то время как полковник угрожал заслать моих товарищей туда, куда Макар телят не гонял…
Поначалу мальчиков держали взаперти, но года через два юнкерам разрешили посещать родственников и знакомых в Санкт-Петербурге. Вот когда пригодились обширные связи Бакунина-старшего! В лучших великосветских гостиных молодой человек набирался необходимых манер и новых знакомств.
Булгарин, Греч, Пушкин! Я встречаю всех этих писателей у Дмитрия Максимовича Княжевича. Одно сочинение Пушкина, соединившее в себе черты трагедии и романа, взбудоражило весь город. Это "Борис Годунов". Ты пишешь мне, любезная Любинька, что немецкие писатели ставят ее наряду с лучшими шиллеровскими трагедиями. Здесь мнения разделены. Иные говорят, что эта трагедия есть лучшее произведение Пушкина. А вот мнение нашего учителя словесности: он говорит, что Пушкин никогда еще так высоко не стоял, но что он также часто упадал, описывая характер Годунова по Карамзину.... Пушкин сочинил прекрасные стихи "Клеветникам России", они полны огня и подлинного патриотизма. Вот как должен чувствовать русский! Русские – не какие-то французы, они любят свое отечество, они обожают своего государя, его воля – закон для них, и между ними не найдется ни одного, который поколебался бы пожертвовать самыми дорогими своими интересами и даже жизнью для его блага и для блага отечества… Сегодня тринадцатое мая, а у нас выпал снег. Как должно быть хорошо сейчас в Премухино! Думаю, там теплее, чем здесь, и, вероятно, все в полном цвету… Я нахожусь в лазарете, почти совершенно выздоровел, хотя еще несколько слаб. Не пойду в лагеря, а проведу около двух месяцев у тетки на даче.
"У тетки на даче…"
Знали бы сестры, каким способом получено право на лазарет и теткину дачу! Все просто: Мишель, напившись вечернего чаю, вышел во двор, разделся до пояса и лег на талый жесткий снег. Простуда не замедлила.
И это была не единственная хитрость Мишеля. Несмотря на благие порывы и уверения, дела и поступки юного Бакунина все чаще расходились с общепринятыми правилами. Но сестры не видят, они обожают брата, и все, что он пишет, находит самый умиленный отзвук. И о странных недопустимых поступках, которые совершает их Мишель, о лжи, о денежных долгах. Нелегко оправдать их юношеской неопытностью.
… Управляя мной совершенно, он довел меня до того, что я стал просить денег у Княжевича. Товарищ посоветовал дать вексель на 2500 рублей. Вексель и другие долги заставили меня обманывать всех. Дал вексель еще на 1000 рублей, разносчику на 1300 рублей, чтобы подождал.
Папенька был очень расстроен этим письмом. Деньги были посланы, но Александру Михайловичу пришлось написать сыну весьма резкие слова.
Да, Александр Михайлович недаром хмурился и недовольно качал головой. Блаженное время "маленьких деток – маленьких бедок" уходило в прошлое, перед отцом подымались вопросы насущного устройства и пропитания огромного семейства. Гвардейская будущность старшего сына должна была украсить род и развязать узлы наследства, и в глубине души родители уже считали его за отрезанный ломоть. Однако святой завет дворянина "Береги честь смолоду!", беззаботно нарушаемый их отпрыском, кривизна и загрязненность его нравственной природы, столь чуждые благородному сословию, больно тревожили отцовское сердце.
Но не сестер! Они благоговели.
У нас вчера был Великий князь Михаил Павлович: он приехал к нам в лазарет и заметил, что во время болезни я ужасно вырос. Я с ним мерился, и он, увидя, что я выше него, сказал: "Молодые люди растут все вверх, а мы, старики, растем уже вниз". Великий князь сделал смотр нашей школе и остался чрезвычайно доволен; он поцеловал правого флангового и велел всем передать… Император распорядился нас закрыть. Холера – настоящая причина нашего заточения. Теперь, когда я под замком, у меня не может быть более приятного времяпровождения, чем с вами, моими лучшими друзьями. Как вы добры, милые сестры, что так любите меня! Чем я это заслужил?..
А вот и первая любовь. Ах! Она – Мария Воейкова.
На двадцати четырех листках французского письма описаны мельчайшие переливы чувства и отношений. Нет слов, это увлечение встряхнуло его, соскоблило с души казарменную ржавчину, пробудило к духовности, но зачем делиться восхитительными подробностями с дочерями А.Ф. Львова, автора гимна "Боже, Царя храни!" Ах, ах! Они шушукаются по уголкам о его любви, поверяют друг другу горести и радости, они близки, как девушки-подружки! Их брат, жандармский офицер, поражен немужским поведением Мишеля, его недоумение выражается по-мужски резко и насмешливо. Мишель задет.
Я вкусил все счастье любви, все ее надежды. Одно слово брата, который счел смешной нашу близость, и все было кончено. Любовь для меня больше не существует.
Ах, они его понимали! У сестер к этому времени были и свои маленькие душевные тайны. Они уже танцевали на балах в Твери, общались с молодежью соседей: Вульфами, Лажечниковыми, Львовыми, Дьяковыми, Беерами, к ним нередко заезжали молодые офицеры из расквартированных поблизости полков. Любинька, кроткое хрупкое создание, одаренная душевной красотой и изяществом духовной природы, где спокойствие и грация были отличительными чертами ее в высшей степени святого и благопристойного существа, нравилась многим из них, но планка ее запросов, обязанная к тому же и необыкновенному воспитанию, была столь высока, что соответствовать ей брался не всякий.
Варенька уже поняла это и решила по-своему.

