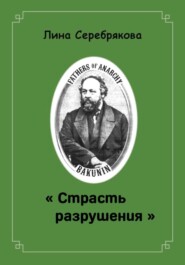
Полная версия:
СТРАСТЬ РАЗРУШЕНИЯ
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
Упершись ладонью в колено, Александр дипломатично взглянул на поэта. Он знал и эту историю, и еще многие, будучи не последним лицом в Гатчинском управлении.
– Зачем же так, Гаврила Романович? Вас, я слыхал, приблизили, чин немалый дали. Служить-то надобно же. На благо Отечества?
Державин насмешливо и горделиво хмыкнул.
– Моя служба – поэзия и правда! Похвальных стихов, курений благовонных никогда не писал. С моих струн огонь летел в честь богов и росских героев. Суворова, Румянцова, Потемкина! Я не ручной щегол, я Державин! Ха!
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой,
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: Пой, птичка, пой!
– Стыдись, Александр! У тебя есть состояние, сиречь независимая жизнь, а ты печешься о клетке. Не дури! Отец-то прав. Так ли, Василий Васильевич? – обратился Державин к Капнисту.
Тот качнул головой, усмехнулся.
– Нелегко возражать, "когда суровый ум дает свои советы". Государственная служба есть первейшая обязанность дворянина. Однако и родительская воля должна быть почитаема и принимаема во внимание. Тут строгие размышления надобны.
Державин вскочил, упер руки в бока и пустился мелкими шажками по веранде, притоптывая каблуками и приговаривая.
Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если мир за то бранится,
Что иду прямой стезей?
Пусть другие работáют,
Много мудрых есть господ:
И себя не забывают
И царям сулят доход.
Но я тем коль бесполезен,
Что горяч и в правде черт, –
Музам, женщинам любезен
Может пылкий быть Эрот.
Утром раза три в неделю
С милой музой порезвлюсь;
Там опять пойду в постелю
И с женою обоймусь.
Он запыхался, хлопнулся на свой стул и орлом глянул на всех из-под густых бровей.
Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог!
Я – Державин!
Раздались рукоплескания.
– Продолжим в саду, друзья мои! – мягко пригласил всех Львов.
Сад и прилегающий к нему парк в этом имении также несли печать тонкого художественного вкуса его хозяина и создателя. Каких только пород деревьев из ближних и дальних земель не произрастало тут, каких цветов не красовалось и не благоухало на клумбах! Весело и отрадно было на дорожках, огражденных цветущими длинными газонами, подстриженными кустами, рядами фруктовых и редкостных заморских деревьев. В затейливом чередовании, где раньше, где позже, зацветали-отцветали всевозможные растения, постоянно услаждая вкус цветом и ароматом.
А осень? Даже в самые грустные дождливые дни в саду творилась волшебная сказка, так обдуманно, в живописном сочетании увядающих листьев посажены были деревья.
А пруды, устроенные выше и ниже по склонам, с водопадами и гротами, фонтаном, где плавали золотые рыбки? А беседка, откуда можно любоваться красотами, изобретательно превратившими обычный лесной холм в произведение живого искусства?
Везде ощущался одушевленный гений Николая Львова.
К разговору об отставке Бакунина больше не возвращались. Указы Павла , его странности, незабвенные времена Екатерины, новые переводы Карамзина, и последнее приключение с поэтом Иваном Дмитриевым заняли внимание гуляющих.
– Наш Иван Дмитриев вышел себе в отставку в чине полковника, вознамерившись посвятить свой талант поэзии, – рассказывал Александр Бакунин, бывший самым осведомленным, – как вдруг его хватают чуть ли не посреди ночи, везут, как зачинщика подготовки покушения на Павла .
– Как это? – не поверил Державин, – ужели сие возможно?
– Сие даже весьма просто, Гаврила Романыч! Увы. Но слушайте, слушайте! В скорое время ошибка обнаруживает себя сама. И царь, желая извиниться перед Дмитриевым, и не воображая себе ничего превосходнее военной лямки, возвращает того на службу и дает чин обер-прокурора Сената! Славно?
– Славно, – скривил гримасу Капнист. – Теперь пойдут ему чин за чином что ни год. Помяните мое слово.
– С ним ведь Карамзин дружен? – спросил Львов.
– Он его и открыл, в своем "Московском журнале", – сказал Державин. – Я там премного помещался. А хороша проза Карамзина!
Пой, Карамзин! – и в прозе
Глас слышен соловьин.
– А кстати, – проговорил хозяин имения, – Завтра мы с Василием Васильевичем продолжим труды над стихами и баснями нашего незабвенного Хемницера. Царства ему небесного!
– Аминь!
Все перекрестились.
Иван Иванович Хемницер умер тринадцать лет назад, не дожив до тридцати девяти лет. Друг и спутник Львова по заграничным путешествиям, он писал прелестные басни и сказки, пронизанные светом его личности. Жил одиноко и любил повторять горькие слова Дидро: " Трудно и ужасно в наше время быть отцом, потому что сын может стать либо знаменитым негодяем, либо честным, но несчастным человеком". Таким человеком был сам Иван Хемницер. По совету и хлопотами Львова в 1782 году его назначили генеральным консулом в турецкий город Смирну. Отъезд оказался роковым. Поэт болезненно переживал свое одиночество. Незадолго до смерти он пророчески написал о себе: "Жил честно, целый век трудился, и умер гол, как гол родился". Эти стихи были вырезаны на надгробном камне его могилы.
– Все его произведения надлежит издать в полном виде. В трех частях, – повторил Львов. – Все, все, что осталось в бумагах – сочинения, письма. Мы с Василием Васильевичем почти все уже собрали и поправили… В этом мой неотложный долг перед ним.
Глаза Николая Львова увлажнились. Он считал себя невольной причиной несчастья.
Все помолчали. В тенистом парке было прохладно, журчание чистых струй, бегущих мелкими водопадами по круглым, уже замшелым валунам, настраивало на возвышенно-философский лад.
– Где-то он сейчас, наш Иван Иванович? Нет его с нами, одни стихи.
– "Иль в песнях не прейду к другому поколенью? Или я весь умру?" – тихо вздохнул Капнист. – Как же в молодости страшился я смерти! Ныне, с возрастом, не так уже. Страх и надежда суть два насильственные властители человека, и нет от них убежища в жизни.
Львов повернулся к Державину.
– Ты, Гаврила Романович, должен бы согласиться с Василием.
– Пожалуй. Молодые страсти жгут огнем, – задумчиво откликнулся тот.
Помолчал, вспоминая, и прочитал с поэтическим чувством.
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет – и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.
– Это я в тридцать лет. Сейчас, в пятьдесят, другой уж я.
Все суета сует! я, воздыхая, мню,
Но, бросив взор на блеск светила полудневный,
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится Вселенна.
– Дай поживу еще двадцать лет, что-то скажется? Негоже на творца сваливать, самому понять надобно. Что-то пойму?
Друзья достигли округлой беседки-ротонды и разместились на ее скамьях. "Прекрасен мир" по-прежнему простирался перед взором в широкой и светлой красе.
– Уходит столетие, – проговорил Василий Капнист. – Сколь блистательное для Российской государственности! Сколь славное для русского оружия! Придут ли, родятся ли в девятнадцатом веке великие умы, подобные тем, что явлены были в нашем отечестве в осьмнадцатом веке? "Еще кидаю взор – и все бежит и тьмится."
Александр Бакунин, прищуря голубые глаза, тоже словно всмотрелся в будущее.
– Будучи свидетелем ужасного возмущения парижан, разрушивших в озлоблении старинную Бастилию, нахожусь я в опасении, как бы пример их не оказался пагубным соблазном для соседей в Европе и в России. Новый Пугачев, новый Разин, дикое воодушевление толпы… – он передернул плечами.
– Толпа предводится чувствованием, – согласился Капнист.
– А кто зароняет в юношество опасные неотразимые мысли? Лучшие умы человечества! Чудо! Я сам подпал под их обаяние, пока не увидел баррикады. Воспитание юношества – вот важнейшее дело родителей и государства, – с чувством говорил Бакунин. – Предчувствие мое тревожится. Не минуют меня будущие грозы…
– Рано всполохнулся, – усмехнулся Капнист, – и не женат еще. Наперед знать никто не может и кликать беду не надобно. Приготовляйся загодя, ищи невесту благородного происхождения, здесь ты прав. Грозы будущего никого не минуют, в тишине не проскочишь жизнь свою, драгоценный уец.
Державин и Львов молчали. Первый, кивая головой, вспоминал свою единственную боевую кампанию против народных армий Емельяна Пугачева, где отличился, повесив на воротах двух мятежников, другой благодушно смотрел на друзей, подумывая, чем бы занять их к вечеру, после обеда. Богато одаренный и разнообразно талантливый, он был еще и тонким музыкантом, и собирался посвятить музицированию тихий светлый вечер.
Василий Капнист уловил его душевную светлоту.
– Прекрасно общежитие достойных людей! – с наслаждением посмотрел он. – Сколь мило существовать вместе! Сирая вселенная есть понятие, огорчающее человека.
– Уединение тоже благо, – с улыбкой возразил Львов.
– Поскольку изощряет в нас ощущение нужды быть вместе.
Разговор вновь принимал обильное философическое направление, но тут Гаврила Романович, нетерпеливо повернулся к Львову и легонько ударил его по плечу.
– А я, Николай, подобно тебе, пустился в Анакреоновы луга. Что, в самом деле? Жизнь есть небес мгновенный дар, любовь нам сердце восхищает. А посему:
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.
– Браво, – рассмеялся Львов, – это направление мало известно в русской словесности. Любовь и жизнь… как их разнять? Поэзия наша в долгу перед ними. Вот, кстати, последний перевод из Анакреона.
Напиши ее глаза,
Чтобы пламенем блистали,
Чтобы их лазурный цвет
Представлял Паллады взоры;
Но чтоб тут же в них сверкал
Страстно-влажный взгляд Венеры,
И с приветствием уста
Страстный поцелуй зовущи.
– Прехвально, Николай. Ужо порезвлюсь я в лугах анакреоновых, чует сердце. Однако, по мне, русская Параша во сто крат милей и краше его Паллады с Венерою.
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни – клад.
… Через неделю Александр Бакунин отправился в Петербург хлопотать об отставке. В конце осени того же года он навсегда поселился в Премухино.
Глава первая
Мишель отвернулся от зеркала, поглядывая в которое рисовал свой автопортрет, и быстрыми умелыми движениями карандаша стал накладывать тени на воротник и отвороты куртки. С листа бумаги смотрел лобастый кудрявый подросток с крупным ртом, высокими скулами и требовательным взглядом внимательных глаз. Сходство уже получилось, остались мелочи отделки. Оттенив плечи и фон, Мишель поставил дату 1827 год и подписал: "Портрет не кончен, так как я и сам еще не кончен".
– Папенька, – побежал он через весь дом в кабинет отца, – посмотрите на мой портрет. Похоже, да?
Александр Михайлович, уже седой, полноватый, с мягкой улыбкой взял портрет, и далеко отнеся его от глаз, внимательно рассмотрел.
Это была уже третья проба сына в рисовании самого себя, и каждый раз он заметно прибавлял в общей схожести, и все более терял в усидчивых завершающих подробностях. Но поскольку Мишель и сам заметил это в своей подписи, да обернул недостаток в достоинство, отец, с легким вздохом полюбовавшись работой, не стал выговаривать сыну о пользе прилежания.
– Изрядно получилось, – сказал он. – А теперь поди к сестрам, почитайте вместе "Робинзон Крузо". Книгу прислали недавно, на английском, весьма поучительное и интересное чтение. Поди.
– Папенька… – Мишель нерешительно посмотрел на отца.
Много раз он смотрел так, желая узнать о своей "тайне", но папенька, словно перехватывал взгляд и поспешно отсылал его прочь.
– Поди к сестрам, Мишель. Почитайте до обеда, – уклонился он и на сей раз.
… Александру Михайловичу было уже за пятьдесят. Многое произошло в его жизни за протекшие тридцать лет. Он жил в царствование уже четвертого царя.
В первые же годы, приняв на себя ведение хозяйства, он твердой рукой взял бразды правления, употребив весь ум и образованность на пользу своему семейству. И столь успешно повел дела земледельческие, что в скором времени смог приступить к делам строительным. По совету Львова одел камнем деревянный дом, украсил его новыми окнами, портиками и колоннами. Старая деревенская обитель приобрела благородно-классические очертания, не уступающие лучшим творениям усадебной архитектуры. По проекту же Николая Александровича поставил и красавицу-церковь.
И, разумеется, взрастил прекрасный сад с редкостными породами растений, частью позаимствованными у соседа и друга, частью заказанными на дальней стороне. Благоухающая красота окружила дом, расположилась на ближнем холме. Не оказались забытыми и пруды, гроты, ручейки. И, наконец, беседка, любимое место для вдохновенного уединения!
Премухино преобразилось.
Сии труды составили Бакунину славу рачительного и властного хозяина, процветающего помещика. Не довольствуясь сельскими радостями, Александр Михайлович далеко успел и на государственной службе. В царствие Александра Благословенного, которого он любил за то, что его любила бабка его, Великая Екатерина, вошел он в Тверское дворянское общество и много пригодился отечеству своим дипломатическим умом, образованием, честностью, за что был удостоен избрания губернским Предводителем дворянства.
Главнейшее же событие в его жизни свершилось в 1809 году.
Тогда пожаловал к нему старинный приятель Павел Маркович Полторацкий. Заехал он запросто, по-соседски, всего-то недели на две, но зато в обществе своей падчерицы Варвары Муравьевой. Юной красавице было всего восемнадцать лет. Она принадлежала к обширному роду Муравьевых, своей обильностью обогативших свою фамилию. Кого только не вмещало их родовое древо!
Подобно всем молоденьким девушкам, Варваре Александровне нравилось испытывать свои чары и кружить головы столичным молодым людям, гвардейским офицерам. Ах, ах, сколько их увивалось вокруг нее на зимних балах в Санкт-Петербурге! Ах, ах!
Александр Бакунин был уже немолод. Любовь поразила сорокалетнего холостяка, словно удар молнии. Он вспыхнул, как факел! Он обезумел. Вокруг нее столько молодых красавцев! У него нет ни малейшей надежды! Он ослеплен, он не владеет собой, жизнь без любимой женщины теряет для него ценность. Возраст, проклятый возраст! Он вдруг ощутил себя стариком! Никогда, ни разу не происходило с ним ничего подобного, он не представлял, что такое вообще возможно, и что он, Александр Бакунин, способен на такое в свои годы, в своей давно расчерченной жизни!
Пожар разгорался. Мучимый безнадежной страстью, он потерял грань самосознания, он чуть не застрелился в порыве отчаяния. Он, он, сын века просвещения!
К счастью, все эти беспорядки происходили на глазах его бдительной сестры.
– Александр, – недоумевала Татьяна Михайловна, – что с тобой творится? Объясни мне, прошу тебя, дорогой брат!
– Я погиб, Танюша, я пропадаю безвозвратно!
– Что за глупости, мой друг! На все есть манера.
– Я в огне, я готов на все… Без Варвары Александровны пулю в лоб.
– Опомнись, брат. Грех какой! Ступай к себе и будь покоен. Я позабочусь о твоем счастии. Бог милостив. Ничего не предпринимай до моего возвращения.
Не медля ни минуты, она устремилась к Полторацким. И там уговорила, умолила, убедила Варвару Александровну принять предложение брата, а ее родню согласиться на этот брак.
О, чудо!
Стараниями родственников дело уладилось к свадьбе, и два старинных рода соединились в счастливом браке.
В первые годы молодые часто наведывались в Тверь. Там в Путевом дворце располагался двор великой княгини Екатерины Павловны, сестры Императора, и ее мужа принца Ольденбургского. Будучи женщиной просвещенной, имея вкус к поэзии и истории, Екатерина Павловна ценила общество людей высокообразованных. Частым гостем ее двора был Николай Михайлович Карамзин, он читал здесь главы своей "Истории государства Российского" самому Александру . Бывал и Державин, уже выпустивший в свет игривые "Анакреонтические песни". Они приоткрыли новые пространства для русской лирики, но так и не ответили его духовным исканиям:
– Не то, не то! – отмахивался он. Бывали здесь и Капнист, и другие члены кружка Львова, осиротевшие после его смерти в 1803 году. Здесь Александр Михайлович вступал в почтительные споры с Карамзиным, в особенности, когда речь заходила об истории Европы.
Но после военной грозы 1812 года Бакунины и зимой перестали покидать Премухино.
За тринадцать лет у них родилось одиннадцать детей. Сначала две девочки, Любинька и Варенька, потом сын Михаил.
В ту ночь зловещие тучи сдвигались на небе, борясь друг с другом, гром и молнии терзали их, дождь лил как из ведра. Вспышка… и вековой дуб был расщеплен ударом, часть его с шумом повалилась у самого окна. В эту минуту раздался крик младенца.
Осмотрев новорожденного мальчика, доктор качнул головой, быстро взглянул на отца. Тот прикусил губу. Младенец мужского пола, первый сын его, оказался с изъяном по мужской части. Свершилось! Что за характер, что за судьба ждет такого человека?..
– Характер необузданный и скачущий, силы необъятной, вобравший порывистые наклонности обоих родов. Брак в будущем возможен, но потомство – ни в коей мере. Многие осторожности надобны при воспитании этого младенца.
''Какие осторожности? – захолонуло сердце. – С кем можно советоваться?'' В умных книгах его библиотеки на всех языках не оказалось ни единой строчки о том, что стало насущной необходимостью для главы семейства.
"Не навреди"– решил он и не стал вмешиваться вообще.
В последующие годы родились Танюша и Александра, потом пять мальчиков, здоровеньких, складных. Последней появилась на свет Сонечка, умершая во младенчестве.
Семейное счастье было долгим-долгим. Александр Бакунин оказался прекрасным отцом-пестуном, святость родительского долга была для него законом.
"Не быть деспотом своих детей"– пометил он в "Записках для самого себя", помятуя о характере родителей, и, может быть, зная свой собственный.
Физику, географию, космографию, литературу, рисование, живопись, ботанику, все, что знал и читал на пяти языках, что продумал, написал – все передавал он ясноглазым быстроумным отпрыскам. Он стал для них богом, справедливым, терпимым, бесконечно любящим.
Мать учила музыке и пению, ей помогали учителя, гувернеры и гувернантки. Поэму "Осуга" пели стройным детским хором. Ее сочинял в течение всей жизни в Премухино, словно вел семейный дневник, сам Александр Михайлович. Сколько прекрасных лет провела вместе эта семья, сколько восхитительных незабываемых событий сохранили в памяти дети!
В 1816 году пришла весть о кончине Гаврилы Державина. Позже дошло и последнее стихотворение. Оно завершило долгое борение его духа с мирозданием.
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
"Мудрец должен жить долго, – задумался тогда Александр Михайлович в своей беседке. – Через него задает свои вопросы человечество. Жизнь не озабочена ни славой, ни памятью, она есть нечто совсем иное… Поживи великий Державин еще двадцать лет, глядишь, и благословил бы каждое мгновение своего пребывания на земле".
…
В двадцатых годах грянули небывалые тревоги. Троюродными братьями приходились Варваре Александровне четыре будущих декабриста: Никита Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы и Артамон Муравьев, двоюродными братьями – другие Муравьевы – Александр и Михаил. И молоденький Ипполит Муравьев.
… В просторной коляске ехали по тракту три молодых человека. Двое офицеры – Артамон Муравьев и Сергей Муравьев-Апостол, и братишка его Ипполит. Молодые, полные жизни. У Артамона на правой руке красовалось выколотое порохом имя жены VERA, он поглаживал и целовал его. Ехали долго, томительно, но разговоры только накалялись.
– Кто мне растолкует, – пожав плечами, говорил Артамон, – что мы потеряли в Премухино? Ужели старик Бакунин в своей глуши более сведущ в переворотах?
Сергей Муравьев-Апостол отвечал со всей серьезностью.
– Бакунин – свидетель французской революции, доктор философии, член Туринской академии. Его почта приходит из всех стран на всех языках. Выслушаем его мнение. О своих намерениях умолчим.
На эти слова взметнулся юный Ипполит.
– Каких намерениях? Сбросим царя, введем конституцию.
Старший брат с грустной любовью погладил его по голове.
– На кой ляд ты примкнул к Тайному обществу, вьюнош? Отбеги, пока не поздно.
Ипполит так и дернулся.
– Никогда! Муравьевы не отступают! Ты – мой старший брат, за тобой в огонь и в воду.
– Пожалей хоть отца с матерью, котенок!
– Я сказал.
Сергей вздохнул.
– Дурачок зеленый. Давайте-ка остановимся, подышим лесным воздухам. Я кое-что расскажу.
Они вышли.
В скуповатом его рассказе словно воочию, в сию минуту, братья увидели двух молодых офицеров, самого Сергея и его друга Павла Пестеля, участников Бородинской битвы, победителями гуляющих по Парижу в тысяча восемьсот четырнадцатом году. Город наводнен русскими войсками. В Сене нагишом купаются казаки, стирают, чистят лошадей. По стенам домов висят прокламации.
«Русский царь обещает покровительство и защиту.
Вива, Александр!»
Барышни-парижанки хватают за руки рослых военных, взбираются на седла. Французские юноши настолько под впечатлением от бородатых казаков с ножами на поясе, что уже отращивают бороды, дабы походить на русских дикарей-победителей. Казаки пьют вино, торопят.
– Быстро, быстро.
– О, бистро́, бистро́!
Калмыки, одетые в кафтаны, шапки, с луками через плечо и колчанами стрел на боку, водят верблюдов.
Павел Пестель и Сергей Муравьев-Апостол пробираются сквозь толпу.
– Где она, эта гадалка «Мадам Ленорман»? Наполеон выслал ее из Парижа, а теперь она вновь тут как тут.
– Все возвращается, – замечает Сергей. – Я тоже вернусь в Корпус инженеров путей сообщения.
Пестель одобряет.
– Для мирного времени отличный выбор.
– И знаешь ли, с кем я сижу на одной скамье? Не угадаешь. С Великим князем Николаем Романовым. Превосходный инженер.
Пестель строго взглядывает на него.
– Будущий Император! Запомни.
Сергей замедляет ход.
– Ошибаешься! Будущий Император – Константин, наш боевой соратник.
– У Константина нет законных наследников, – голос Пестеля непререкаем. – В интересах династии Царем станет Николай Романов. Не завидую.
Красавцев-офицеров шаловливо останавливают две парижанки, касаются пальчиками эполет, тянут из ножен «золотую шпагу».
– Ах, прелесть! Ах, страшно!
Польщенный Пестель учтиво щелкает каблуками, беседует на изящном французском.
– Это наградное оружие, мадемуазель. Называется «золотая шпага». Мой друг получил его за храбрость в семнадцать лет.
– Ах, ах! И у вас такая же! Вы оба храбрецы!
Идут дальше. Пестель морщит щеку.
– Наивный воздух свободы! А дома в России мы найдем дикое рабство. Доколе?
Сергей задумчиво сводит брови.
– Мой умудренный зять Бакунин застал самое начало французской революции. Вот на этих улицах. И не принял ее.
– Значит, ему удобно иметь рабов. Увы. Владеть людьми как собственностью есть дело постыдное. Да где она, эта контора, черт побери? А, вот.
На стене скромная вывеска «Салон мадам Ленорман». Для посвященных. Офицеры входят. Небольшое фойе, скамьи. Дверь к мадам Ленорман.
Первым входит Сергей. Черноволосая не старая женщина раскладывает карты. Сергею кажется, что карты светятся и шевелятся. После одного-двух вопросов гадала умолкает, глядя на расклад своих карт. Сергей ждет.
– Что вы мне скажете, мадам? Хоть одну фразу.
– Одну скажу, – отвечает он со вздохом. – Вас повесят.

