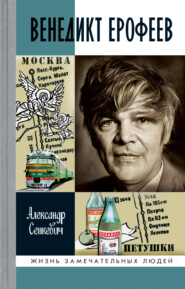скачать книгу бесплатно
Как нам дается благодать[161 - Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подг. текста А. А. Николаева. М., 1980. Т. 1. С. 199.].
Для Венедикта Ерофеева такие старомодные понятия, как милосердие (сочувствие), справедливость и сострадание, оставались не пустым звуком.
Когда люди забывают о вчерашнем дне, то и само время, отшатнувшись от них, куда-то прячется, притворившись вечностью. Но это еще было бы полбеды. Другое дело, что этот позавчерашний день, постоянно напоминая о себе, бочком-бочком, но всеми силами пытается протиснуться в современную жизнь и занять в ней прежнее доминирующее место. В таком мнимо вечном, нескончаемом времени существует и Веничка, герой поэмы «Москва – Петушки». И будет находиться до тех пор, пока люди прячутся от времени и друг от друга и от самих себя.
Некоторая часть жизни Венедикта Ерофеева прошла в постоянных перебежках из одного угла необъятной страны в другой. Таким своеобразным путем он пытался не впасть в грех уныния и избежать участи деда, а также осужденных на лагерные сроки отца и брата. В «Записных книжках 1975 года» о себе и своих чувствах он сказал словами песен на стихи Марка Самойловича Лисянского[162 - 1913–1993.], Евгения Ароновича Долматовского[163 - 1915–1994.] и Анатолия Владимировича Софронова[164 - 1911–1990.]: «Я по свету немало хаживал», «И домой возвращайтесь скорей» и «Дай руку, товарищ далекий»[165 - Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 131.].
Все это так, но главная причина его цыганской жизни, как я предполагаю, была понятна как дважды два четыре. Венедикт Ерофеев долгое время находился во власти комплексов и страхов, связанных с его пребыванием в детском доме, где среди детей существовала четкая иерархия во взаимоотношениях. Критерием того, кто начальник, а кто подчиненный, выступали не умственные способности человека, а физическая сила и нахрап. Венедикт Ерофеев, понятное дело, не хотел возвращаться к запомненной им с детства, как сейчас сказали бы, «дедовщине». Он, чтобы избежать призыва в армию, постоянно менял места своей работы и проживания.
Существовал еще другой испытанный и хорошо известный среди советской интеллигенции способ «отмазки» от воинской повинности через психоневрологический диспансер. Как я знаю, несколько всемирно известных российских художников, представляющих неофициальное искусство, поступили подобным образом и со временем легально отбыли в чужеземные страны. Некоторые из них представляют дело таким образом, будто оказались в психушке насильственным путем – как диссиденты. Карательная психиатрия, замечу в скобках, практиковавшаяся в СССР в брежневские времена, восходит к XIX веку, и первой страной, ее применившей, были Соединенные Штаты Америки. В каких-то начинаниях не мы одни оказываемся «впереди планеты всей».
Для Венедикта Ерофеева отсидеться в психушке ради получения «белого билета» было бы жульничеством и очковтирательством. На такой обман он не пошел бы. Совесть бы не позволила.
В беседе с Сергеем Куняевым и Светланой Мельниковой в 1990 году на даче в Абрамцеве Венедикт Ерофеев вспоминает: «С 1962 по 1976 год я не стоял на военном учете. В 1976-м пришел становиться – так они схватились за голову. Можно было меня наказать, посадить на полгода, а тут 14 лет человек спокойно устраивается на все работы, не имея ни прописки, ни учета»[166 - Куняев Сергей: Беседа с Венедиктом Ерофеевым // http://vysotsky.ws/index.php?snowtopic=409.].
Наконец, измотавшись от этого нескончаемого бега, Венедикт Ерофеев, как сам того себе пожелал, обрел снова дом – осел на одном месте в проезде Художественного театра (ныне Камергерский переулок), в самом центре Москвы. Впервые он пошел на компромисс с самим собой. А что ему еще оставалось делать, оказавшись без документов и постоянного угла для ночлега? Только женившись на москвичке, он обрел и то и другое.
Изо всех сил Венедикт Ерофеев пытался не быть одураченным той жизнью, которая шла вокруг него. С ней у него не сложилось доверительных отношений. Он уверовал, что недалек тот час, когда она ненароком раздавит и его тоже. Каждый его день в ожидании худшего был наполнен страданием.
Пройдет некоторое время, и в СССР произойдут серьезные перемены – горбачевская перестройка. Венедикт Ерофеев встретит ее с радостью.
На протяжении многих лет Владимир Муравьев и Венедикт Ерофеев общались спорадически, но основательно. Они откровенно обсуждали различные, самые «запретные» темы. Эти темы, если их сформулировать в общем виде, касались соотношения причины и следствия в жизни человека, общества и культуры. Автору поэмы «Москва – Петушки» хотелось понять обусловленность одних событий другими, их невидимую простым глазом подоплеку.
Обращу внимание на основную черту прозы Венедикта Ерофеева. В ней присутствуют одновременно описание сиюминутного, преходящего и ощущение вечности, что уже само по себе является неотъемлемым признаком настоящей поэзии в отличие от обычного стихотворчества. Вероятно, этот парадокс предопределил жанр произведения «Москва – Петушки» – поэма.
Поэт и прозаик Андрей Михайлович Тавров очень убедительно закрепил в слове свое понимание «вечности». Да простит меня читатель за длинную цитату, но лучше и проще не скажешь: «Существует много свидетельств контактов с “вечностью”, и все они сходятся на том, что это выход из времени, или, как написано в “Апокалипсисе”, модус бытия, где “времени больше не будет”. Итак, “вечность” – это вневременный план жизни. Это та ее область, где время больше не течет, а вернее, еще не течет. Это не бесконечность времени, как понимают “вечность”, например, любители вечных адских мук для особенных злодеев. Это другое. Грубо говоря, это бескрайнее озеро, в котором ВСЕ возможные и невозможные варианты всех жизней и событий на свете, но из которого еще не течет ручей. Но вот ручей потек – образовалось время, о котором писал Державин: “Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей”. Время всегда было злым, уносящим, лишающим. Но и развивающим, становящим, ведущим к расцвету. Так или иначе, любой его обитатель относится ко времени с недоверием и страхом, в силу хотя бы того, что оно, земное время, кончится для него вместе с его жизнью и от факта смерти, к которому оно влечет, не уйти. Но поэзия всегда знала про вечность. Про отсутствие времени, про состояние полноты вне угроз истребления. Про вневременный фактор, в котором ты – в полноте, в котором ты – счастье. Поэзию-то и любили, и желали прежде всего за то, что она приобщала к этому блаженному плану, вводила в разрыв времени»[167 - Тавров А. Формальные призраки вечности в стихе // http://literratura.org/criticism/556-andrey-tavrov-formalnye-priznaki-vechnosti-v-stihe.html.].
Более авторитетным собеседником в вопросах подобной метафизики для Венедикта Ерофеева мог бы стать писатель Юрий Витальевич Мамлеев[168 - 1931–2015.].
Юрий Мамлеев занимал две комнаты в коммунальной квартире в доме 3 в Южинском переулке. Его аудитория была достаточно начитанна и образованна для разговоров на философские, эзотерические и метафизические темы. Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой», приводит описание этого пестрого сообщества Игорем Дудинским, журналистом и издателем: «Южинский стал точкой отсчета для следующих поколений, аккумулятором идей, который всех потом питал. Там учили идти во всем до предела. Там бредили, освобождая ум. Там обожествлялся процесс, верили, что Бог – это постоянный поиск. Это была упертая, экстатическая антисоветчина в чистом виде, без всяких прилагательных»[169 - Васькин А. А. Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой. М., 2019. С. 315.].
Но его окружения Венедикт Ерофеев на дух не переносил, хотя их собрания изредка посещал, как и его антипод Александр Андреевич Проханов[170 - Игорь Авдиев вспоминает о литературных тусовках в присутствии Юрия Мамлеева: «На Колхозной площади была примечательная квартира, где собирались писатели-сатанисты во главе с Мамлеевым. Они поили, кормили и заставляли слушать свои произведения. Помню, Венедикт угощался и упрямо, безжалостно после каждого прочитанного опуса твердил подпольным мэтрам: “Говно!”» (Авдиев И. Одна страничка из «Книги судьбы» // Новое литературное обозрение. 1998. № 1).]. К тому же в 1974 году Юрий Витальевич вместе с женой Марией Александровной не по своей воле отбыл в Корнеллский университет, в город Итаку, штат Нью-Йорк, и Ерофееву опять пришлось рассуждать о потусторонних материях с Григорием Померанцем, Леонидом Ефимовичем Пинским[171 - 1906–1981.], Владимиром Муравьевым. Впрочем, рядом с ним еще оставались мудрые и талантливые люди: поэт, прозаик и этнограф Ольга Седакова, поэт и переводчик Александр Леонидович Величанский[172 - 1940–1990.], а также его друг, культуролог и интеллектуал Игорь Авдиев вместе с «любимым первенцем» Вадимом Тихоновым.
Что поделаешь, людей вокруг него толпилось много, а поговорить практически было не с кем. За бутылкой (и не одной) шутки шутили, анекдоты рассказывали, каламбурили, себя старались показать. Не то что в те недавние времена, когда он учился на филологическом факультете МГУ и общался в общежитии со своими любознательными сокурсниками. Из этой компании в недалеком будущем вышли выдающиеся филологи – Александр Константинович Жолковский, Борис Андреевич Успенский, Александр Павлович Чудаков[173 - 1938–2005.].
Глава пятая
Соломинка для утопающего
Говоря о Венедикте Ерофееве, нельзя не обратить внимания на его любовь к классической музыке, о чем вспоминают многие его друзья и знакомые. Казалось, он родился с оркестром в голове.
«Музыкальный талант, – сказал Гёте, – проявляется так рано, потому что музыка – это нечто врожденное, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из жизни. Но все равно явление, подобно Моцарту, навеки пребудет чудом, и ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы Всевышний повсеместно творить свои чудеса, не будь у него для этой цели необыкновенных индивидуумов, которым мы только дивимся, не понимая: и откуда же такое взялось»[174 - Эккерман И.-В. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. с нем. Н. Манн; вступ. ст. Н. Вильмонта; коммент. и указатель А. Аникста. М., 1981. С. 397.].
Иосиф Бродский считал музыку лучшим учителем композиции. Говоря о ней, он подчеркивал, что она научает писателя композиционным приемам, но, «разумеется не впрямую, ее нельзя копировать». По мысли поэта, «в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется»[175 - Цит. по: Петрушанская Е. М. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2004. С. 206.].
Владимир Муравьев убедительно и ясно выразил органичную связь прозы Венедикта Ерофеева с музыкой: «Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью. При этом словесность рассматривалась как некая ипостась музыки. У него было обостренное ощущение мелодически-смысловой стороны слова, интерес к внутренней форме слова, если угодно. Для него вообще необыкновенно важна была музыка, он совершенно жил в ее стихии, он знал, понимал и умел ее слушать. Он воспринимал именно звучание. То же для него и звучащее слово. Смысл как словесная мелодия ему особенно был близок. Еще будут писать о мелодических структурах “Петушков” и “розановской” прозы»[176 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 578.].
Наталья Шмелькова подтверждает особую приязнь Венедикта Ерофеева к музыке Сибелиуса: «Одним из любимых композиторов был Сибелиус. Особенно часто он слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непрерывно заводил Четвертую симфонию композитора. Сказал: “Послушаю мою Родину”…»[177 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Наталья Шмелькова // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 613.]
Музыка финского композитора Яна Сибелиуса[178 - 1865–1957.] вызывала в памяти Венедикта Ерофеева картины природы его родного Кольского полуострова: скалистые холмы с деревцами на них, озера, северное сияние и шуршание ветра. Он любил в музыке Сибелиуса всё, им сочиненное: его симфонические поэмы и сюиты, его хоровую музыку.
К музыке австрийского композитора Антона Брукнера[179 - 1824–1896.] Венедикт Ерофеев был также неравнодушен. Вероятно, из-за ее глубокой религиозности. В его творчестве симфонии занимают господствующее место. Их часто сравнивают с готическими соборами, настолько они монументальны, возвышенны и торжественны по тону[180 - Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и дополн. Л. О. Акопяна. М., 2001. С. 143–144.].
Творчество еще одного композитора, на этот раз из Богемии, оказывало на Венедикта Ерофеева сильнейшее воздействие – симфонии Густава Малера[181 - 1860–1911.]. В них сталкиваются бурлящие потоки бунтующего духа. В этой музыке существовали темы и мотивы, уже знакомые Венедикту Ерофееву по его личному опыту. Он словно прослушивал в этой музыке свою жизнь. Она была выражена композитором в свободном и неожиданном чередовании разных эмоций: от горестных вспышек отчаяния, которые на какие-то мгновения гасились и умиротворялись чувством сопричастности природе, до трагической отрешенности от всего, казавшегося только что родным и близким.
Владимира Муравьева поддержал Александр Михайлович Леонтович[182 - 1928–2016.], физик и любитель классической музыки, приятель и собеседник Венедикта Ерофеева. Он подтверждал его увлеченность музыкой определенных композиторов: «Мы познакомились в дачном поселке Абрамцево, Веня жил у Делоне, крупного математика, члена-корреспондента. Потом Борис Николаевич умер, и следующие хозяева выгнали Ерофеева, потом он жил у Грабарей. А Грабари – наши соседи, и когда Веня увидел, что у меня не только дома, но и на даче огромная коллекция пластинок, то стал приходить слушать музыку, а кроме того, брал у меня пластинки. Таким образом я мог воочию убедиться, какие у него вкусы. Скажем, часто он брал Шуберта, очень любил Брукнера. На мой взгляд, Брукнер – один из самых великих композиторов, он отражает то, что отразил Достоевский в литературе, – чудовищную внутреннюю противоречивость – но это мало кто чувствует. Мы однажды с Веней вместе слушали его Четвертую симфонию. Но у него были неординарные вкусы, например, он очень прохладно относился к Моцарту. <…> Он был очень сдержан. Но я же видел, как он реагировал на хорошую музыку. Если человек по-настоящему слушает музыку, то она его прошибает. Веня очень волновался. Сжимался весь и сидел в напряжении. Настоящее слушание ведь требует нервов. Он очень любил Сибелиуса, что меня тоже очень поразило. Немногие знают, что Сибелиус – действительно гениальный композитор. Но, правда, не всегда вкус Ерофеева меня удовлетворял. Например, Высоцкого я резко не люблю. А он его отстаивал. Правда, Веня никак это не аргументировал, он вообще никогда не спорил, если с ним не соглашались, – он просто замолкал. Самое тяжелое в общении с Ерофеевым для меня, как ученого, была невозможность ничего обсуждать. Если его пытались вытянуть на спор, было только хуже: он замыкался, и тогда его уже никуда нельзя было сдвинуть – он отключался. Мне кажется, в нем вообще не было стремления к анализу»[183 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Александр Леонтович // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 586–587.].
Кто такой Делоне, упомянутый Александром Леонтовичем? Борис Николаевич Делоне[184 - 1890–1980.], крупный математик, член-корреспондент АН СССР, был дедом поэта и правозащитника Вадима Николаевича Делоне[185 - 1947–1983.], одного из семи человек, вышедших в 1968 году на символическую демонстрацию на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Венедикт Ерофеев уважал Вадима Делоне за его порядочность и выделял среди других диссидентов. Писатель жил на даче № 41 Бориса Николаевича Делоне в поселке академиков Абрамцево с лета 1975 года вплоть до смерти 17 июля 1980 года ее арендатора. Борис Николаевич относился к Венедикту Ерофееву с большой симпатией. Ему импонировали его открытость и откровенность. Он и сам относился к людям подобного, уже исчезающего психологического типа.
После смерти Бориса Николаевича Венедикт Ерофеев несколько месяцев провел на даче Александра Епифанова, внука известного художника и реставратора, академика АН СССР Игоря Эммануиловича Грабаря[186 - 1871–1960.], а затем оттуда съехал, переселившись в дом бывшего первого управляющего поселком академиков В. А. Исаева. Дом этот отапливался, и в нем можно было жить зимой. Но, повздорив с женой хозяина дома, Венедикт Ерофеев надолго там также не задержался. И летом со своей второй женой Галиной Носовой он снял дачу в генеральском поселке, находившемся неподалеку. А «потом они совсем уехали, когда поняли, что никакого постоянного пристанища они там не найдут» – так объяснил сложившуюся ситуацию знакомый Венедикта Ерофеева Сергей Григорьевич Толстов (литературный псевдоним Рокотов), писатель, сценарист и внук известного историка, этнографа, археолога, члена-корреспондента Сергея Павловича Толстова[187 - 1907–1976.]. Вместе с тем, как он утверждает, в Абрамцеве «они периодически появлялись». Предсмертным пристанищем для Венедикта Ерофеева стала дача Толстовых, где он отметил свой последний Новый год.
Сергей Толстов вспоминает: «Когда Ерофеев уже был тяжело болен в 1989 году, я предложил ему пожить у меня на даче зимой. В доме было газовое отопление, они еще дровами запаслись. Здесь они прожили с октября 1989-го до конца марта 1990-го. Я приезжал сюда редко. Он уехал отсюда в Москву и через несколько недель лег на Каширку. У него уже были метастазы. До этого он перенес уже две операции – в 1985 и в 1988 годах. Дар речи он потерял, говорил в аппарат. <…> Последний раз на Каширку он лег почти сразу после возвращения из Абрамцева, буквально через несколько дней»[188 - Поселок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей поселка / Авт. – сост. Н. Ю. Абрикосова. М., 2004. С. 233.].
Приведу для подтверждения того, насколько была важна музыка для душевного состояния Венедикта Ерофеева, его запись в дневнике: «Если бы я вдруг узнал откуда-нибудь с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу… Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери»[189 - Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 452.].
Венедикт Ерофеев в письме старшей сестре Тамаре Гущиной так объясняет свою любовь к музыке: «…как говаривал Демокрит[190 - Около 460 до н. э. – 370 до н. э.], “быть восприимчивым к музыке – свойство стыдливых”, а я стыдлив»[191 - Ерофеев В. Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // Театр. 1991. № 9. С. 125.].
Александр Леонтович, высказываясь по поводу музыки в поэме «Москва – Петушки», заглянул в суть его манеры письма. Ведь далеко не все литературоведы, особенно с докторскими степенями, пришли в восторг от «плебейской», шпанистской прозы Венедикта Ерофеева. Вот что он сказал: «Я пробовал исследовать упоминание музыки в “Москве – Петушки”. Я вообще считаю, что “Москва – Петушки” – это экскурс во всю культуру человечества, особенно в русскую. И музыка как элемент культуры здесь тоже участвует. Мне кажется, что ассоциации, которые возникают, когда Ерофеев упоминает музыку, играют очень большую роль в поэме, но поскольку музыка – это второй язык, который мало кто знает, то многое нужно пояснять. (С Мусоргским, например, ассоциируется сам Веня.)»[192 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Александр Леонтович // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 587.].
Петр Вайль, словно ссылаясь на Александра Леонтовича, продолжил его размышления о музыкальных пристрастиях Венедикта Ерофеева: «Любимцы – Шостакович, Брукнер, Сибелиус – художники с ярко выраженным романтическим пафосом, в их музыке кипят сильные эмоции. А вот “игровой” Моцарт странным образом не откликался в открыто игровом Ерофееве. Не исключено, что на уровне абстрактного звука он позволял себе те чувства, которые не желал артикулировать в словах»[193 - Вайль П. Пророк в отечестве // Независимая газета. 1992. 14 мая. С. 7.].
Самое забавное, что Петр Вайль, и не только он один, чутко улавливая социально-политическую подоплеку творчества Венедикта Ерофеева, часто не знал, что сказать по существу, когда речь заходила о более тонких материях в сочинениях писателя. Не отсюда ли у него появляются скоропалительные и немотивированные выводы? Иногда ради красного словца его заносило в риторику, напоминающую ругань. Так и здесь, в чем убедится читатель, он непостижимым образом словно взмывает вверх и смотрит на Венедикта Ерофеева с небес строгим и осуждающим оком Бога Отца Саваофа: «Есть ощущение, что этот забубенный алкаш сознательно и рационалистически воспитывал себя. И безразличие к окружающим, даже к беззаветно преданным ему апостолам, нивелировка этического градуса работали на обострение эстетических переживаний. А тонкости Ерофеев достиг тут невероятной. Плебейский аристократизм – возможен такой оксюморон? Восторг высшего эстетства – ставить пластинку, чтобы под излюбленный аккорд симфонии падать с грохотом с печи. Такому позавидовал бы Оскар Уайльд, жаль, у англичан камины: свалишься, так не “с”, а “в”. Не прозрениями, а знаками культуры усеяны его богоискательство и сам приход к католицизму. Строить гипотезы на столь интимный счет – занятие сомнительное, можно лишь отметить высокую степень книжных поисков. Это свидетельство и декадентского состояния российской культуры, и трезвого, аналитического склада ума конкретного Венедикта Ерофеева»[194 - Вайль П. Пророк в отечестве // Независимая газета. 1992. 14 мая. С. 7.].
Сколько людей, столько и мнений. Александр Леонтович сетовал, что у Венедикта Ерофеева не было стремления к анализу, а Петр Вайль упрекает его в книжности создаваемых текстов и аналитическом складе ума. Кто же из них прав? Рассудить их возможно, только повернувшись лицом к Востоку, чего мы не привыкли делать. Но глупо веками стоять задом (или спиной) к восходящему солнцу. Вскоре на страницах этой книги такой поворот в сторону Востока произойдет и многое в творчестве Венедикта Ерофеева объяснится само собой. Об одной особенности восточной методологии я все-таки скажу сейчас. В том мире, который открывается внутреннему сознанию буддиста или даоса, между точками зрения Александра Леонтовича и Петра Вайля на Ерофеева нет никакого противоречия. Ведь то, о чем они рассуждают, относится к сознанию повседневному, а не к медитативному. И потому-то их суждения не имеют принципиального значения для постижения самой сути явления.
Сделав небольшое отступление в мир восточной философии, продолжу разговор о музыке.
Музыка на короткое время выдергивала Венедикта Ерофеева из хаоса современного мира. Ирония выполняла ту же роль в его жизни и творчестве. С одной стороны, она была реакцией на хаотичную жизнь, которую он вел, а с другой – попыткой снизить страх перед рушащимся на его глазах миром и заключить этот существующий и несущий гибель хаос в рамки более или менее упорядоченного бытия. Фридрих Шлегель[195 - 1772–1829.], философ, поэт и писатель, обозначал иронию как «ясное осознание хаоса»[196 - Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 69.].
Музыка входит в жизнь каждого человека чуть ли не с пеленок. Особенно при тех средствах массовых коммуникаций, которые используются людьми сегодня. Трудно представить себе человечество без музыки. Звуковая природа мира отражена в ней – в обрядах, песнях, танцах, жертвоприношениях. Известный немецкий музыковед Хариус Шнайдер[197 - 1903–1982.] обращался к мудрости Древнего Китая – даосизму, чтобы глубже понять первоначальную роль музыки: «Первым воспринимаемым проявлением созидания является звук, который в силу традиций исходит из дао (в процессе изменения и становления всех вещей на основе даосизма), из первоначальной бездны, из пещеры, из singing ground (звукового фона), из сверкающего солнца, из открытого рта божества, из музыкального инструмента, символизирующего Создателя»[198 - Цит. по: Боффи Г. Большая энциклопедия музыки. М., 2008. С. 9.].
Понятие дао (путь) находится в основе концепции даосизма, основоположником которого по традиции считается Лао-цзы, живший в VI–V веках до н. э.
Из предисловия к книге «Дао. Гармония мира»: «Всё, что существует, произошло от дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него вернуться. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. Дао недоступно чувственному восприятию, его нельзя выразить, или, по словам Лао-цзы, “знающий не говорит, говорящий не знает…”. Однако задача человека – познать дао, живя в единстве с природой, не нарушая “гармонии мира”. Это возможно, если придерживаться принципа недеяния и сохранять в себе чистоту ребенка, говорит Лао-цзы, имя которого можно перевести не только как “Старый мудрец”, но и как “Старый ребенок”»[199 - От издательства // Дао: Гармония мира. М., 2000. С. 5.].
Венедикт Ерофеев в «Записных книжках 1967 года» пересказал даосскую легенду, приводимую Джеромом Дейвидом Сэлинджером[200 - 1919–2010.]: «Князь Му, повелитель Цинь, искал человека, которому можно было поручить покупку несравненного скакуна. И такого человека ему порекомендовали: Чу Фан-Као. И послан был Чу Фан-Као на поиски коня. И три месяца он искал, и нашел. И доложил, что лошадь найдена. “Она теперь в Шахью”, – сказал он. “А какая это лошадь?” – спросил князь. “Гнедая кобыла”, – был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный, как ворон, жеребец. Князь Му негодовал: он не умеет даже назвать масть, – что же он понимает в лошадях? Но привели коня – и оказалось, что он поистине не имеет себе равных. И придворный мудрец По Ло сказал князю Му: “Я не осмелюсь сравнить себя с Чу Фан-Као. Ибо он проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечает ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей”»[201 - Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 539–540.].
Венедикту Ерофееву удавалось наступающий на него внешний хаос бытия нейтрализовать гармонией внутри себя. В этом ему содействовала музыка. В сущности, чем чаще он ее слушал, тем больше оказывался защищенным от всякого рода искушений. Появившееся от страха быть раздавленным жизненными обстоятельствами его обожание музыки стало постоянным и прочным. Теперь было трудно сказать, от чего он больше зависит – от алкоголя или от музыки. Как и невозможно было предвидеть, кто из них одержит над ним победу. Свое отношение к особой роли музыки в его внутреннем мире он высказал в дневниковой записи: «Я последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет “ум и сердце”, делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри»[202 - Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 248.].
Сознание Венедикта Ерофеева было насыщено даосскими размышлениями. Благодаря им жизнь, которую он вел, наделялась смыслом, а его художественный дар обретал перспективу.
Проза Венедикта Ерофеева с ее глубинным содержанием, с ее особой композицией, выстроенной на попеременной смене нарастающих и ниспадающих ритмов, с ее водоворотом причудливых образов, с ее контрапунктами, настойчивыми лейтмотивами и неожиданными стилистическими эффектами безусловно соответствует музыкальным канонам.
Насколько была важна для Венедикта Ерофеева музыка, говорит запись в одном из его блокнотов, датируемая 1972 годом: «Музыка – средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумелости писать музыку»[203 - Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 29.]. Он также записал себе на память последнее предложение в статье Николая Васильевича Гоголя[204 - 1809–1852.] «Скульптура, живопись и музыка». Эта статья – моление Богу: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»[205 - Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 281.]
Напомню читателю предыдущие гоголевские строки. Они важны для установления важного и неоспоримого для Венедикта Ерофеева факта: искусство имеет непосредственное отношение к укреплению в человеке нравственного чувства. Оно появилось как средство, облагораживающее и возвышающее человека: «О, не оставляй нас, Божество наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокой мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. <…> Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, – и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял всё радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку – стремительно обращать нас к Нему»[206 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1949–1950. Т. 6. С. 21.].
По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой (Носовой), Венедикт Васильевич «музыку не просто любил, а обнимал, поглощал»[207 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Галина Ерофеева // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 605.]. Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.
Перенеся психологически точное наблюдение Георгия Адамовича[208 - Георгий Викторович Адамович (1892–1972) – поэт, литературный критик и переводчик.] с судьбы поэта-эмигранта Бориса Поплавского на Венедикта Ерофеева, можно сказать, что им созданное «остается свидетельством веры в одно только музыкальное начало творчества, или как завещание человека, для которого музыка была соломинкой утопающего»[209 - Адамович Г. В. Литературные беседы: Кн. 1 («Звено»: 1923–1926) / Вступ. ст., сост. и прим. О. А. Коростылева. СПб., 1998. С. 272.].
К этой мысли непосредственно восходит убеждение Венедикта Ерофеева о крепких нервах и неуязвимости композиторов: «Ни один композитор не покончил с собой и не умер насильственной смертью»[210 - Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. С. 61.]. Что на это скажешь? Остается только этим людям позавидовать.
Я обнаружил в писателе Венедикте Ерофееве черты личности молодого человека из первой половины XIX века. Глядя на него, вспоминаются строки Александра Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть[211 - Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799–1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950–1951. Т. 5. С. 11.].
Но даже при огромном уважении к Венедикту Ерофееву я никоим образом не соотношу его с кем-то из писателей того времени. Орхидеи не растут на капустном поле. У меня хватает здравого смысла не ставить его рядом с гением, о котором поэт Аполлон Григорьев сказал, что он – наше всё. Вместе с тем именно Александр Пушкин всесторонне описал в поэзии и прозе тот тип личности, к которому в какой-то степени принадлежит автор поэмы «Москва – Петушки». Перед нами глубоко верующий человек, но отнюдь не фанатик. Это философ, свободный в мыслях и поступках, в меру образованный, отдающий должное Гомеру и Платону, с понятиями чести и достоинства, книгочей, но не ограничивающий свои читательские интересы только классической литературой. А вот без классической музыки чувствующий себя потерянным. Совсем уж ему тогда становится пакостно и одиноко.
Венедикт Ерофеев в движениях был пластичен. В пространстве двигался легко и красиво – умел обращать на себя внимание. С возрастом становился ветреником. Искал и находил эмоциональную разрядку в общении с кокетливыми и смазливыми девицами. Нередко переходил черту дозволенного. И одновременно Венедикт Ерофеев производил впечатление мужа, чтившего святость домашнего очага. По крайней мере никому со стороны не позволял усомниться в порядочности его самого и его возлюбленных.
Вот и блистал Венедикт Ерофеев начиная с конца 1970-х годов в кругу своих многочисленных поклонниц и почитателей. А что было до того времени, лучше не вспоминать. В общем, пришлось ему в жизни несладко. Ведь он, как заметила литературовед и критик Татьяна Касаткина, «в отличие от тайного советника Иоганна фон Гёте, не заставлял своих героев совершать опасные для жизни поступки за себя, он сам совершал их за всех своих героев»[212 - Касаткина Т. Философские камни в печени // Новый мир. 1996. № 7. С. 228.]. Но знал Венедикт Ерофеев, и никто не переубедил бы его в том: всё в конце концов заканчивается. В худшую или лучшую сторону – уже не столь важно. Как он записал в блокноте: «Ничто не вечно, кроме позора»[213 - Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С 439.].
Позор как раз ему не грозил. Не из-за того, что он был безупречен во всех отношениях, а потому, что зло не путал с добром. Четко видел и то и другое. Себе никогда не изменял и в людях приспособленчество презирал. Венедикт Ерофеев даже ради того, чтобы увидеть небо в алмазах, не стал бы кривить душой. Музыка, постоянно в нем звучащая, не позволила бы. Если такое искушение в нем и появилось бы, он знал, как ему поступать. Сказал об этом откровенно в поэме «Москва – Петушки»: «Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу»[214 - «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва – Петушки // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 133.].
Сегодня на такой максимализм мало кто решится. А надо бы!..
От души радуюсь, когда люди высказывают свои мысли прямо и смело, без всяких оговорок. Например, как это сделал Александр Генис: «После провала путча 91-го года, ознаменовавшего конец советского режима, возникла насущная необходимость понять, кто из писателей сумел пережить падение прежней власти. Дело в том, что в те эйфорические времена в одночасье пала грандиозная литературная система, которая либо украшала, либо уродовала, но, главное, питала нашу общественную жизнь на протяжении нескольких поколений. Крах коммунизма и отмена цензуры упразднили ту самую словесность, с которой эта же цензура так яростно боролась. В пропасть рухнула целая литература. И дело тут не в отдельных именах и названиях, а в самой мировоззренческой системе, без которой она не могла функционировать»[215 - Генис А. Обживая хаос. Русская литература в конце XX века // Континент. 1997. № 94. С. 277.]