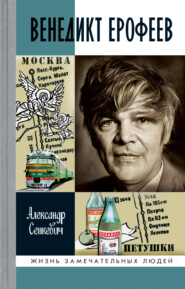скачать книгу бесплатно
Ту жизнь, которую в 1970-е годы вела компания Венедикта Ерофеева из Владимира, красочно описала вхожая в нее киноактриса Наталья Четверикова. Затронула она и круг чтения Венедикта Ерофеева и его близких друзей: «В те годы мы с жадностью поглощали всё, что контрабандой приходило с Запада. Обладая сокровищами – книгами отца Александра Меня, русских религиозных философов – и зная, что за эту “антисоветскую” литературу грозит срок, мы тем не менее рисковали читать ее даже в общественном транспорте, то и дело оборачиваясь, – не стоит ли сзади чекист? Наша в какой-то мере подпольная жизнь в компании “владимирских” была наэлектризованной мыслью. Несмотря на закрытость, некую кастовость, сюда, как к магниту, притягивались незаурядности, “бродяги и артисты”. Друзья Ерофеева были богемой особого свойства – нетипичные православные, интеллектуалы высокой духовности и беспощадной иронии одновременно. Но самый ироничный, Веня, тяготел к универсальному христианству, не был крещен и стоял на религиозном перепутье»[104 - Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938–1990)]. М., 2008. С. 143–144.].
Венедикт Ерофеев, попав в Москву, вскоре оказался среди действительно образованных и талантливых людей. Они не читали что ни попадя, а только то, что было им по душе и соответствовало их интересам. С этими людьми, как своими сверстниками, так и намного его старше, читатель познакомится на страницах этой книги. Венедикту Ерофееву повезло. Он оказался, как говорил поэт Давид Самойлов[105 - Давид Самуилович Кауфман; 1920–1990.], «в кругу себя». С 1970-х годов, после написания поэмы «Москва – Петушки», его окружение составляло несколько десятков человек.
Я подозреваю, что автор поэмы «Москва – Петушки», оказавшись в Москве, да еще в Московском университете, на первых порах возрадовался и некоторое время чувствовал себя в полном согласии с жизнью. Эйфорическое состояние молодых людей тех дней точно передано в фильме «Я шагаю по Москве», режиссером которого был Георгий Николаевич Данелия[106 - 1930–2019.], а сценаристом Геннадий Федорович Шпаликов[107 - 1937–1974.]. Вскоре эйфория исчезла, зато жажда читать и создавать настоящую, а не суррогатную литературу осталась. Процесс, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, пошел! И начался он намного раньше, чем предполагал последний генеральный секретарь ЦК КПСС.
У меня до сих пор хранятся переплетенные ксероксы книг, изданных за рубежом. Это двухтомники сочинений Анны Андреевны Ахматовой[108 - 1889–1966.] и Осипа Эмильевича Мандельштама[109 - 1891–1938.] вашингтонского издательства «Международное литературное содружество» и «Неизданные письма» Марины Цветаевой парижской «Имка-Пресс», вышедшие в свет в 1964, 1968 и 1972 годах. Они были отксерены в 1974 году Еленой, в девичестве Старокадомской, женой архитектора Геннадия Александровича Огрызкова[110 - 1948–1997.]. Она работала на предприятии с редким по тем временам лазерным копировально-множительным оборудованием. Позже Геннадий Александрович стал известнейшим и любимым его прихожанами священником. В последние годы своей жизни он был настоятелем храма Вознесения Господня («Малое Вознесение»), что находится в Москве напротив консерватории на Большой Никитской улице.
Намного больше таких же поэтических сборников, отпечатанных на пишущей машинке и аккуратно переплетенных, перешли от Венедикта Ерофеева его сыну и внукам.
Я вспоминаю московские интеллектуальные посиделки моих друзей из пишущей и уже печатающейся братии во второй половине 1960-х годов. Они обычно сопровождались легкой выпивкой. Небольшой мужской компанией пили обычно водку или коньяк. Комнаты, где мы встречались, менялись от случая к случаю, но почти в каждой из них на нас со стены смотрел фотопортрет Эрнеста Хемингуэя[111 - 1899–1961.] (его Венедикт Ерофеев на дух не переносил) в свитере крупной вязки. В 1970-е годы к фотопортрету добавились низкий столик с бутылками вина и лежащий на нем номер журнала «Playboy». В начале 1980-х бутылок на столике становилось больше, номера журнала «Playboy» посвежее, а на стене вместо Эрнеста Хемингуэя радовала глаз репродукция работы кисти Пикассо или оригинал какого-нибудь отечественного художника-неформала. К тому же в ящиках письменного стола или где-то еще на невидном месте лежали машинописная перепечатка романов Генри Миллера в переводе (еще не изданном) Николая Пальцева, романы Александра Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом», также в самиздатовском исполнении, и ксерокопии сочинений Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Бориса Леонидовича Пастернака[112 - 1890–1960.]. Особым спросом пользовались романы Евгения Замятина «Мы» и Андрея Платонова «Чевенгур» в парижском издании «Имка-Пресс» и «тамиздатовские» издания: «Котлован» (этот роман очень нравился Венедикту Ерофееву), политологические исследования Милована Джиласа «Новый класс» и «Беседы со Сталиным», а также «Технология власти» Абдурахмана Авторханова. Перепечатанный моей женой Инессой Ким на папиросной бумаге «Архипелаг ГУЛаг» выдавался на две ночи исключительно порядочным людям. Ту же самую литературу читал и Венедикт Ерофеев. У него было гораздо больше возможностей с ней ознакомиться, чем у меня. Особенно после публикации поэмы «Москва – Петушки».
Единомыслия не было не только у обычных обывателей, но и в семьях идеологических генералов и маршалов. Например, как пишет Елена Игнатова в книге «Обернувшись», внук академика Исаака Минца, «авторитета в области истории КПСС и становления советской власти», Виктор Санчук «писал крамольные стихи и мечтал бежать за границу»[113 - Игнатова Е. Указ. соч. С. 154.]. А что читали дети и внуки членов политбюро – можно только предполагать. По крайней мере не Георгия Маркова и Сергея Сартакова.
Триумф лжи и ханжества, казалось, был повсеместным. Лучше Бориса Пастернака об этом не скажешь: «Я один, всё тонет в фарисействе». Однако из моего окружения на баррикады никто никого не звал. Книги и любовь – вот что нас притягивало, утешало и сплачивало. Через них мы искали и находили свою тихую заводь, остерегаясь одного: самим бы не покрыться тиной! Лишь немногим доставалась гавань с выходом в открытое море.
Портрет Сталина в полный рост долго занимал почти всю стену перед входом в полуподвальное помещение на факультете журналистики МГУ. Там располагалась военная кафедра гуманитарных факультетов. Портрет убрали в начале ноября 1961 года – как только ночью 31 октября тело вождя вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлевской стены.
Наши надежды оказались преждевременными. Вскоре поблекшему образу вождя стали потихоньку возвращать прежний вид, а его кровожадность осторожно оправдывать. Он опять восставал из праха в ореоле державной мощи. Вот откуда, на что обратил внимание Вячеслав Курицын, в текстах последующего поколения после писателей-шестидесятников появились «ирония, стилизация, демонстративная объективированность, усмешка (и очень часто скептическая)»[114 - Курицын В. Указ. соч. С. 173.].
Мы взрослели, и с годами романтическая фронда уходила сама по себе. То же самое происходило и с Венедиктом Ерофеевым. Как точно отметил Вячеслав Курицын, книги учили нас одиночеству[115 - Курицын В. Указ. соч. С. 172.]. Запрещенные в СССР издания обсуждали исключительно среди «своих», в узком кругу здравомыслящих друзей, а не в случайном разговоре с первым встречным. Как это повелось в России спокон веку.
Венедикт Ерофеев с первого взгляда на незнакомого человека и произнесенных им нескольких слов уже знал, что тот собой представляет. Вслед за героем романа Томаса Манна[116 - 1875–1955.] «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом» он мог бы также назвать себя «человеком умеренным и сыном просвещения»[117 - Манн Т. Доктор Фаустус: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом / Пер. с нем. С. Апта, Н. Манн. М., 1959. С. 399.].
Для многих писателей и читателей, сверстников Венедикта Ерофеева, он возник как будто бы из ниоткуда. Взлетел, как ракета, из народной гущи, и нате вам, – оказался на олимпе. Между тем назвать его талантливым малообразованным самородком из народа было бы не то что опрометчиво, а абсолютно неверно. Ведь он сочинял свое с оглядкой на шедевры писателей-классиков и на труды великих философов. Их труды хорошо знал и многое из прочитанного мог бы изложить с абсолютной точностью, обладая цепкой и тренированной памятью. О его обширной эрудиции свидетельствуют как его «Записные книжки», так и художественные произведения.
В изданной еженедельником «Аргументы и факты» «Большой иллюстрированной энциклопедии» обращено внимание на сюрреалистический характер прозы Венедикта Ерофеева. Отмечается присутствие в ней элементов литературной буффонады, обыгрывание идеологических штампов, а также использование разговорной речи, включая сквернословие[118 - Большая иллюстрированная энциклопедия: В 32 т. М., 2010. Т. 10. С. 73.].
В своем сочинительстве Венедикт Ерофеев не пускался на всякого рода ухищрения. Сюжеты его повести «Записки психопата», поэмы «Москва – Петушки», пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» незамысловаты. Основное действо не выходит за рамки неприкаянной и тягостной человеческой жизни. Читателя захватывает прежде всего острота переживаний автора и его героев, а не вызывающие их события, большей частью достаточно заурядные.
В прозе Венедикта Ерофеева непонятно, о чем конкретно написано. Она не о сумасшедших и спившихся людях, не о тайнах любви и тем более не о чувственных наслаждениях. Сотворить что-то остренькое, пикантное, сосредоточиться на сексе было не в духе писателя. Эротика с ее голой чувственностью его не интересовала. И уж совсем он был чужд литературной поденщине.
Невозможно до конца разобраться, какие страсти и переживания автора стоят за поступками персонажей поэмы «Москва – Петушки» и пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Вероятно, этому мешает чрезвычайная экспрессивность повествования, создающая разноголосицу смыслов. Создается обманчивая иллюзия, что Венедикт Ерофеев изливает всё, что приходит ему в голову, не обращая никакого внимания, как его полная свобода самовыражения будет восприниматься целомудренным и неискушенным читателем.
Отличие прозы Венедикта Ерофеева от произведений того времени в том, что в ней отсутствует какая-то тайная суперзадача. При этом окунаться во что-то сиюминутное, непотребное и пошлое было ему также малоинтересно. Другое дело, что сумеречное существование, в котором проводят жизнь его герои, иногда озаряется вспышками таких чувств и эмоций, что, кажется, продлись они чуть дольше – и запылает весь мир.
Вместе с тем он был далек от мысли: да гори оно всё синем пламенем!
Глава третья
Венедикт Ерофеев и семья Владимира Муравьева
Владимир Сергеевич Муравьев безоговорочно признан мемуаристами другом, собеседником Венедикта Ерофеева. К тому же в течение полутора лет он был его сокурсником на филологическом факультете МГУ, где они познакомились. Ерофеев и Муравьев жили какое-то время в одной комнате в университетском общежитии на Стромынке. Их койки стояли рядом[119 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 572.]. В 1987 году Владимир Муравьев стал крестным отцом писателя. Они знали друг друга и общались 35 лет. И различались, по словам Муравьева, «скорее по образу жизни, чем по образу мышления»[120 - «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 573.].
Появление Владимира Муравьева в жизни Венедикта Ерофеева означало обретение товарища, близкого по умонастроению и литературным интересам. Он благодаря этой в общем-то случайной встрече попал в среду необыкновенных людей. Ирина Игнатьевна Муравьева[121 - 1920–1959.], мать Владимира Сергеевича, была литературоведом, занималась изучением французской и датской литературы. Ей принадлежит изданная в 1959-м и переизданная после ее смерти в 1961 году «Молодой гвардией» в серии «ЖЗЛ» книга о Хансе Кристиане Андерсене[122 - 1805–1875.]. Общий тираж двух изданий книги по меркам сегодняшнего дня был немыслимый – 170 тысяч экземпляров.
Отчимами Владимира Муравьева были Елеазар Моисеевич Мелетинский[123 - 1918–2005.], филолог, историк культуры и основатель исследовательской школы теоретической фольклористики, и Григорий Соломонович Померанц, философ, культуролог, эссеист.
Не так много известно, с кем из представителей «сталинской эпохи» (кроме его преподавателей) встречался в неформальной обстановке Венедикт Ерофеев, учась на филологическом факультете Московского государственного университета. Как ни странно, о его личной жизни конца 1980-х годов, когда он был, как говорил о себе Игорь Северянин, «повсеместно обэкранен» и «повсесердно утвержден», мы знаем намного больше, чем когда он пребывал в неизвестности. Обычно бывает наоборот. Публичная известность писателя уводит в тень, а точнее, «засекречивает» его личную жизнь. Исключение составляют звезды массовой культуры. Во многих опубликованных незадолго перед его смертью интервью он часто нес всякую шокирующую околесицу, словно в подражание эстрадным звездам самого низкого пошиба.
Для Венедикта Ерофеева семья Владимира Муравьева во второй половине 1950-х и в начале 1960-х годов стала одним из безопасных пространств интеллектуального общения и духовной поддержки. Григорий Соломонович Померанц и его жена Ирина Игнатьевна Муравьева относились к людям легенды. Особенно Ирина Игнатьевна. Ее независимая, иногда счастливая, иногда злополучная личная жизнь достойна романа. По крайней мере одна такая повесть, «Любимая улица», уже существует. Ее написала Фрида Абрамовна Вигдорова[124 - 1915–1965.]. Эта писательница и журналистка получила всемирную известность благодаря сделанной ею в феврале 1964 года записи судебных слушаний по делу Иосифа Бродского. Этот материал носит название «Судилище».
Людмила Сауловна Суркова, со школьных лет подруга Ирины Игнатьевны Муравьевой, достаточно подробно рассказала о ней и Григории Соломоновиче Померанце в статье, опубликованной в январском номере 2014 года журнала «Семь искусств».
Жили две девочки из интеллигентных семей в Смоленске. Знакомы были с шести лет, а подружились в десятом классе: «Она показалась мне еще привлекательней, чем в детстве, – высокая, тонкая, легкие движения, легкая походка, короткие светлые волосы вразлет, блестящие ярко-голубые глаза, вздернутый нос. И негромкий, но проникающий в душу голос. Она по-прежнему легко заводила знакомства, но оставались с ней только те, кто был ей интересен»[125 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Семья Иры Муравьевой относилась к смоленской интеллектуальной элите. В их доме встречались местные литераторы, художники, композиторы, ученые. Ее отец, Игнатий Фадеевич, преподавал математику в педагогическом институте. Мать, Людмила Степановна, урожденная Владимировская, в прошлом учительница, стала домохозяйкой, занималась воспитанием и образованием детей. Ирина с детства читала на немецком и английском языках и имела склонность к сочинительству. Как вспоминает Людмила Суркова, «она была прирожденным писателем». Пережила ее семья и трагедию. В 1937 году арестовали и сослали в Сибирь ее старшего брата, Владимира Игнатьевича, талантливого поэта, состоявшего в литературном объединении, которым руководил Александр Твардовский.
Долгое время Ирина Муравьева не вступала в комсомол. Но в конце концов пошла на компромисс с собственной совестью и в десятом классе стала комсомолкой, как все ее однокашники и однокашницы. Не хотела своей фрондой привлекать к себе внимание членов приемной комиссии института, куда она решила поступать.
Отец Ирины Муравьевой был серьезно болен туберкулезом легких. Позднее эта хворь перешла и к ней. Людмила Суркова рассказывает о пренебрежительном, наплевательском отношении Муравьевых к средствам самозащиты от этой страшной болезни. Трогательна причина такого отношения. Она свидетельствовала об огромной любви и уважении к главе семейства – Игнатию Фадеевичу: «Туберкулезным больным необходим чистый воздух, но у Муравьевых было душно и пыльно – боялись простудить отца. Из-за этого и окна не открывали. Спали они на диванах, покрытых пыльными коврами, в этих диванах хранились не менее пыльные книги. Я спросила Иру, почему у отца нет отдельной посуды. Она объяснила, что нельзя огорчать отца, он будет чувствовать себя, как прокаженный. Меня это ошеломило – когда я заболела туберкулезом, меня держали в изоляции, выделили отдельную посуду, открывали форточку и вынесли все вещи, в которых скапливалась пыль»[126 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Непонятно, в кого из родителей пошла Ирина, импульсивная, своенравная и красивая девушка, которая даже в более зрелые годы медлила расставаться с молодостью.
Ирина Муравьева наконец-то влюбилась всерьез в красавца, хорошо говорящего по-немецки Сергея Моисеенко, известного ей еще по школе. Он уехал в Москву и поступил там в Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского. Перед войной узаконивание матримониальных отношений было не в моде, но жениху и невесте все-таки пришлось прибегнуть к услугам загса – для офицеров в связи с их перемещениями по стране регистрация брака была необходима.
Людмила Суркова вспоминает, что замужество нисколько не изменило свободного нрава и раскованных манер ее подруги: «Когда Сергей сдавал в Москве сессию, Ира вела себя, с моей точки зрения, слишком свободно: пила, курила, сидела у мальчиков на коленях. Когда я высказала ей свое мнение, она ответила, что лучше ее легкомыслие, чем мое тугодумие. И почему не развлечься в свое удовольствие – никому это не повредит»[127 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Жизнь шла своим чередом. Игнатий Фадеевич дожил до рождения первого внука – Владимира. Затем Ирина родила второго сына Леонида, в будущем ставшего реставратором и художником. После замужества Ирина Игнатьевна переехала в Москву, к мужу, который продолжал учебу в Артиллерийской академии. Стипендия у Сергея Моисеенко была большая, так что ее хватало и на повседневную жизнь, и на театры, и на посещение Третьяковской галереи и Музея нового западного искусства живописи, ликвидированного в 1948 году по личному распоряжению И. В. Сталина в результате борьбы с формализмом.
Наступил 1941 год. Ирина с Сергеем жили в Чугуеве, неподалеку от Харькова. Там проходили учения слушателей академии. Мать Ирины, Людмила Степановна, воспитывала внуков в Смоленске. Людмила Суркова вспоминает: «Володя, крепкий увесистый бутуз, исполнял распоряжения бабушки, но втихомолку действовал быстро и разрушительно»[128 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Как только началась война, академия прямо из Чугуева передислоцировалась в Узбекистан, в город Ташкент. В письме, посланном из Ташкента Людмиле Сурковой, Ирина Муравьева сообщала малоприятные новости. Сергей изменился до неузнаваемости: стал груб, вмешивается в воспитание детей, к ней пристрастен и ревнует к каждому мужчине, а сам встречается с какой-то спортсменкой, утверждая, будто только для того, чтобы вызвать ее ревность. Атмосфера неприязни друг к другу накалялась. Особенно после того, когда Сергей, шантажируя ее самоубийством, приставил к виску пистолет и нажал на курок. То ли обойма была пустой, то ли произошла осечка, но выстрела не последовало. Сергей и задолго до женитьбы был склонен к депрессии. С женой он иногда говорил в таком тоне, словно она проштрафившийся солдат. Ирина стала замечать, что его психика не совсем в норме. Ко многому она могла относиться снисходительно, но постоянно выносить до неузнаваемости изменившегося Сергея было выше ее сил[129 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Человек решительный и волевой, она не покорилась обстоятельствам. Строки Александра Пушкина поддержали ее в принятом решении: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег». Этой обителью для Ирины Игнатьевны с сыновьями на какое-то время стал город Петрозаводск.
Учась на филологическом факультете Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте, Ирина Муравьева познакомилась с Елеазаром Моисеевичем Мелетинским. Он читал лекции по истории зарубежной литературы. Уже после его первых лекций она почувствовала к нему необъяснимую, но искреннюю симпатию. Это была еще не любовь, но то застенчивое и одновременно пылкое чувство к мужчине, когда до спазмов в горле хочется, чтобы он наконец-то обратил на тебя внимание. И он обратил на нее самое пристальное внимание. Вскоре сделал ей предложение выйти за него замуж. Ирина Игнатьевна согласилась, и они с мальчиками переехали в Петрозаводск, где Елеазар Моисеевич Мелетинский заведовал кафедрой литературы в Карело-Финском государственном университете. Но их семейное счастье длилось не более двух лет. В 1949 году по всему Советскому Союзу, как цунами, прошла кампания борьбы с космополитизмом. (Возвращаясь к этим стародавним для Венедикта Ерофеева событиям, он записал в одном из своих блокнотов: «О повальных арестах и судах 47–48 гг. В те же годы песня Блантера на слова Фатьянова: “На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест”»[130 - Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 177.].
В самом начале кампании в петрозаводской газете появилась статья о «космополитических извращениях» на кафедре литературы и «прежде всего у заведующего кафедрой». Этой статье предшествовал донос на Мелетинского, написанный человеком, от которого никто этого не ожидал. В мае 1949 года Елеазар Моисеевич был арестован, осужден на десять лет и этапом отправлен отбывать срок в Каргопольлаге в Архангельской области.
Тут я хочу добавить, что до знакомства с Ириной Игнатьевной Елеазар Моисеевич уже хлебнул тюремной баланды. Он воевал на Южном фронте, был помощником начальника разведотделения дивизии. Дивизия оказалась в окружении, и командир распустил личный состав. Теперь каждый сам должен был выбираться из окружения. Елеазару Моисеевичу это удалось, но как «окруженец», продолжая воевать на Кавказском фронте, он постоянно находился под подозрением сотрудников Особого отдела. По первому доносу его арестовали 7 сентября 1942 года, обвинив в измене и шпионаже. Ему дали срок, больший, чем он мог ожидать. Десять лет исправительно-трудовых лагерей «за антисоветскую агитацию с целью разложения Красной армии». Как ни цинично об этом говорить, ему повезло: в тбилисской тюрьме он заболел воспалением легких, которому сопутствовали дистрофия и цинга. Обращу внимание читателя на место заточения Мелетинского: Грузия. Республика, в которой большая часть населения сохраняла православную веру. Специальная комиссия (подавляющее большинство – грузины) признала Мелетинского тяжело-больным и истощенным и в числе других таких же заключенных он был выпущен на свободу 15 мая 1943 года. Через Баку он добрался до Ташкента. Не сразу, а после многих попыток Елеазар Моисеевич добился зачисления в аспирантуру Среднеазиатского государственного университета, в котором спустя время стал преподавать. В 1945 году защитил кандидатскую диссертацию «Романтический период в творчестве Ибсена»[131 - Мемория. Елеазар Мелетинский // https://polit.ru/news/2017/10/22/meletinsky/.].
Именно судьба Елеазара Моисеевича Мелетинского и лично он сам повлияли на воспитание чувств и развитие ума Владимира Муравьева. Нельзя не заметить, что все многочисленные беды своего наставника Владимир Сергеевич пережил, как свои, хотя во время его ареста ему было только десять лет. Более того, спустя некоторое время они с матерью почувствовали, что в какой-то степени виновны в этой очередной несправедливости, которая обрушилась на Елеазара Моисеевича. А почему они стали терзаться такой мыслью, объясняет Людмила Суркова:
«Иру каждую ночь допрашивал следователь. Глаза ослепляла яркая лампа – была такая пытка. Но она не сдавалась, ничего не отвечала. Утомившись ее молчанием, следователь пошел на уловку: “Вот вы его защищаете, а он вам изменял. Прочитайте письмо к любовнице”. Ира и глазом не моргнула: “Ну и что? Я это знала!” Ничего она не знала, сразу в сердце ударило. Пока следователь перелистывал страницы, разыскивая письмо, Ира заметила знакомый почерк – донос написал Сергей! Наконец следователь отпустил Иру: “Скажите спасибо, что вы Муравьева. Нас люди с такой фамилией не интересуют”. Ира с детьми, как декабристка, поехала за мужем в Сибирь. Учительствовала в сельской школе. Было холодно и голодно»[132 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Вволю отрыдавшись, страна проводила его в последний путь. Упокоила в мавзолее рядом с В. И. Лениным. И на сердце у советских граждан немного полегчало. С его уходом будто бы полегчало и всей природе. Вороны, на удивление остальным птицам, каркали веселыми голосами. Даже весна наступила раньше обычного. В 1954 году из ГУЛага вернулись Елеазар Моисеевич Мелетинский и сидевший с ним в том же лагере его друг Григорий Соломонович Померанц.
Людмила Суркова вспоминает: «В ожидании реабилитации Ира работала в эстонском городе Тапа, опять в школе. Дали ей комнату; как всегда, образовалась интересная компания. Но приехал муж и уговорил Иру переехать в Москву, где жила его мать в просторной трехкомнатной квартире»[133 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.]. Елеазар Моисеевич мог бы заранее предположить, что для его матери болезная Ирина Игнатьевна с двумя детьми встанет поперек горла. Чему тут удивляться, крупные ученые редко обладают обычной житейской сметкой. В общем, как говорят в интеллигентных семьях, отношения Ирины Игнатьевны со свекровью не сложились. Да и самому Елеазару Моисеевичу, сказать по правде, тоже было трудно жить с женой, прежний муж которой написал на него донос.
Обращусь опять к воспоминаниям подруги Ирины Игнатьевны: «За время длительной разлуки оба изменились, их удерживала только взаимная жалость. Муж с любовницей (о которой рассказывал следователь) уехал на юг и попросил своего друга, Григория Померанца, тоже филолога-востоковеда и товарища по лагерю, присматривать за женой. От изнурительных переживаний у Иры обострился туберкулез, она слегла в больницу. Гриша навещал ее почти ежедневно. С первой встречи любовь нахлынула на них, как лавина, объединившая их взаимной нежностью, духовной близостью и обоюдным счастьем. Это был щедрый подарок судьбы. Они оба даже помолодели на вид. Ира стала прихорашиваться, приоделась, красила губы, чтобы скрыть проступающую от болезни синеву. Больше они не расставались. Ей было 36 лет, ему 38. Но так хорошо им еще никогда не было»[134 - Суркова Л. Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). Воспоминания и переписка // http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49.].
Григорий Соломонович Померанц окончил в 1940 году литературный факультет Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) им. Н. Г. Чернышевского.
Венедикта Ерофеева привел в 1956 году в узенькую семиметровую комнатку, похожую на пенал в общежитии монаха Бертольда Шварца из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», его новый товарищ Владимир Муравьев. Там жила с новым мужем Григорием Померанцем его мать Ирина Игнатьевна. Здесь Венедикт Ерофеев обнаружил людей, существование которых предполагал, но с которыми лично знаком не был. К тому же через друзей и бывших преподавателей Григория Соломоновича из МИФЛИ он получил доступ к литературе самиздата.
Но самым оглушительным для него событием было знакомство, а затем дружба (к сожалению, по времени короткая) с матерью Владимира Муравьева – Ириной Игнатьевной. В ней не было ничего заоблачного, не от мира сего. Ее естественность в общении завораживала. Красота во всех ее проявлениях – вот что постоянно искушало. Она тянулась и к человеку, который рядом, и к звездам, которые едва видны. Она ушла к этим звездам 30 октября 1959 года. Умерла Ирина Игнатьевна на операционном столе. Ей делали операцию на легком. Из жизни Венедикта Ерофеева ушел друг, о котором можно было только мечтать.
По образу жизни трудно представить себе более разных людей, чем Владимир Муравьев и Венедикт Ерофеев. Один – педант и трудоголик, нашедший опору в повседневной творческой работе, а также в семье и детях. Другой – вольный странник, творящий по вдохновению, любящий одиночество и относящийся безответственно не только к самому себе, но и к первой жене и сыну. Однако при этом было в Венедикте Ерофееве и Владимире Муравьеве что-то общее, объединяющее.
Например, особенностью характеров Владимира Муравьева и Венедикта Ерофеева была закрытость для посторонних всего, что относилось к их личной жизни. Они не затрагивали в своих разговорах ничего личного, интимного. Эта врожденная или благоприобретенная деликатность выделяла их обоих в той инакомыслящей и близкой к диссидентам среде, где накладывать табу на что-либо скабрезное считалось плохим тоном. Эта «привычка к неприятию всяческих табу, установленных обветшалой моралью», как вспоминает искусствовед Елена Борисовна Мурина, шла от творческой интеллигенции первых лет существования Советского государства. Такой прямотой в обсуждении личных отношений отличалась, например, Надежда Яковлевна Мандельштам[135 - 1899–1980.], вдова великого поэта[136 - См.: «Посмотрим, кто кого переупрямит…»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / Сост. П. М. Нерлер. М., 2015.].
Владимир Муравьев, напротив, из своего бастиона закрытости при его сдержанности чувств даже носа не высовывал. А распахивать душу настежь для него представлялось совсем уж порочной и самоубийственной затеей.
Несколько слов о Владимире Сергеевиче Муравьеве. С этим выдающимся филологом и литературным переводчиком меня свела судьба в 1960-е годы во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, куда в 1965 году я поступил на работу в отдел Востока вскоре после окончания Института восточных языков при МГУ.
Когда я появился в «Иностранке», Владимир Муравьев работал в ней почти пять лет. Он окончил в 1960 году филологический факультет МГУ и заметно выделялся среди молодых сотрудников библиотеки обширной эрудицией, научной основательностью и литературным талантом.
Анна Андреевна Ахматова назвала Владимира Муравьева самым умным молодым человеком его поколения. В общении со своими библиотечными коллегами он был любезен, немногословен и застегнут на все пуговицы. Избегал в общении с людьми фамильярности. При разговоре с кем-то соблюдал дистанцию в прямом смысле этого слова. Беседующий с ним человек находился почти в метре от него. Остается добавить, что Владимир Сергеевич – автор двух книг о творчестве англо-ирландского писателя Джонатана Свифта[137 - 1667–1745.], статей об английской классической и современной литературе.
Я обратил внимание, что первая из книг Муравьева о творчестве Джонатана Свифта, озаглавленная автором «Путешествие с Гулливером (1699–1970)», создавалась в то же время, что и поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» – в конце 1960-х годов. К тому же из печати они вышли с разницей в один год: книга Владимира Муравьева в Москве в 1972 году в издательстве «Книга» тиражом 80 тысяч экземпляров, а книга Венедикта Ерофеева в Иерусалиме в 1973 году в альманахе «Ами» тиражом 300 экземпляров.
Владимир Муравьев определил временны?е границы своего путешествия с Гулливером в 301 год. В таком хронологическом сдвиге существовал обдуманный автором замысел: ввести в свое повествование проблематику также и того общества, в котором он родился и существует. Не он первый, не он последний использовал в подцензурной печати подобный прием. Мало-мальски образованному читателю уже с первых страниц книги о Гулливере становилось ясно, о чем в ней пойдет речь. Сочинение Владимира Муравьева представляет собой не только исследование молодого ученого, но и социально-политический и сатирический по духу памфлет на острые темы современной жизни. То же самое впечатление оставляет поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки», написанная языком более чем разговорным. Сопоставление мною этих двух книг ждет читателя впереди. Оно полезно еще и для понимания близости и различия в художественно-философском подходе двух писателей к общей теме – судьбе человека в контексте современного мира.
Владимир Муравьев также получил известность как переводчик с английского языка произведений О. Генри, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Уильяма Фолкнера, Мюриэл Спарк, Ивлина Во и других американских и английских писателей. На меня сильное впечатление произвел его перевод книги-новеллы Вашингтона Ирвинга[138 - 1783–1859.] «Альгамбра». Наиболее известна работа Владимира Муравьева над трилогией «Властелин колец» английского писателя Джона Роналда Рейела Толкина[139 - 1892–1973.], которую он начал совместно с Андреем Андреевичем Кистяковским[140 - 1936–1987.], а после его смерти 30 июня 1987 года завершил в одиночку.
Андрей Кистяковский с 1978 года участвовал в работе созданного Александром Исаевичем Солженицыным[141 - 1918–2008.] Фонда помощи политическим заключенным, а после ареста Сергея Дмитриевича Ходоровича, его распорядителя, принял на себя руководство этой правозащитной организацией.
Чтобы объяснить психологию социального поведения этих в то время далеко не старых, но уже и не совсем юных инакомыслящих людей, среди которых жил и с которыми общался Венедикт Ерофеев, и понять, откуда берут начало их взгляды, обращусь к воспоминаниям Сергея Ходоровича. Вот что он ответил в лагере начальнику изолятора, спросившему, за что его посадили: «Причина-то в том, что для меня полностью неприемлемо коммунистическое мировоззрение. Я придерживаюсь мировоззрения христианского, а друг с другом они несовместимы. И если мое мировоззрение не скрывать и пытаться жить по нему, то неизбежно попадешь в лагерь. В этом-то и есть истинная причина ареста…»[142 - Ходорович С. Не участвовать в несправедливости… // https://memorial.krsk.ru/memuar/H/Hodorovich.htm.]
Сергей Ходорович не мог смириться с неписаным законом всеобщего обоюдного надувательства, который чуть ли не с первых дней октябрьского переворота свалился на население огромного государства как снег на голову. Вскоре этот закон стал определяющим в отношениях людей, занятых строительством общества развитого социализма и живущих утопической надеждой превратить его в общество коммунистическое. А если сказать еще короче: «Не хотел Сергей Ходорович существовать в системе, созданной на лжи и страхе». Находиться постоянно среди людей, которые врут как дышат и при этом фанатично верят в свое вранье, – на самом деле для человека нравственного и законопослушного тяжелое испытание. А если он еще человек умный, тогда это сплошной ужас!
Отдавая должное Владимиру Муравьеву в его благотворной роли в творческой жизни автора поэмы «Москва – Петушки» второй половины 1950-х и начала 1960-х годов, я не собираюсь делать из него ангела во плоти. Нина Васильевна Фролова, сестра Венедикта Васильевича, и его невестка Галина Анатольевна Ерофеева вспоминают некоторые не совсем адекватные поступки ерофеевского друга по отношению к литературному наследию писателя. Об этих странностях поведения Владимира Муравьева также пойдет речь в этой книге. Китайский философ древности Конфуций недаром предупреждал: «Никогда не дружи с человеком, который не добродетельнее тебя»[143 - Цит. по: Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков / Сост. и пер. Н. П. Макаров. М., 1998. С. 114.].
На протяжении многих лет Владимир Муравьев и Венедикт Ерофеев общались спорадически, но основательно. Они откровенно обсуждали различные, самые «запретные» темы. Эти темы, если их сформулировать в общем виде, касались соотношения причины и следствия в жизни человека, общества и культуры. Автору поэмы «Москва – Петушки» хотелось понять обусловленность одних событий другими, их невидимую простым глазом подоплеку.
Глава четвертая
Не всякая сказка – людям указка
Настоящим, а не мнимым апофеозом пошлости стала «пьяная» электричка, отошедшая 24 октября 1998 года от Курского вокзала по маршруту «Москва – Петушки» и обратно. Она была до отказа набита нетрезвыми пассажирами. Погода стояла солнечная, настоящая золотая осень, да и существовал подходящий повод почтить память любимого писателя – шестидесятилетие Венедикта Васильевича Ерофеева. Представители фирмы «Кристалл» бесплатно вручали пассажирам электрички шкалики водки и бутылки с дешевым портвейном в таком количестве, что можно было напиться до потери сознания. Вместе с тем закуска к водке в виде бутербродов не предлагалась бесплатно, а продавалась втридорога. Впрочем, раздавались бесплатно два плавленых сырка «Дружба». Устроители этого празднества следовали совету из поэмы «Москва – Петушки»: «Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от поверхностного атеизма»[144 - «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». «Москва – Петушки» // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 157.]. Вот почему по прибытии в город Петушки пьяная орава пассажиров бросилась в станционный буфет и мигом его опорожнила. Но это случилось потом. А пока электричка находилась в Москве, гремел духовой оркестр столичной милиции. Пластиковые ящики, тара для бутылок, пустыми валялись по всему перрону вокзала. Телевизионные камеры со словоохотливыми журналистами запечатлели это событие чуть ли не как новый национальный праздник России. Это было бы полбеды. Куда хуже, что некоторые филологи с учеными степенями, маститые ученые, живущие не только в России, подхватили и разнесли по свету легенду о русском супералкаше, гениально описавшем самого себя и свое бытие. Для них писатель и его герой слились в одно лицо.
Автобиографическая сущность поэмы «Москва – Петушки» неоспорима. Однако ее главный герой Веничка все-таки не духовный двойник Венедикта Ерофеева.
Среди некоторых читателей распространилось мнение, что при своей жизни писатель шел на поводу у сильно пьющей публики и часто ей потворствовал. Он словно бы понимал, что созданный им образ слился с ним и его увековечил. Более того – сделал на долгие годы предметом культа. А где экзальтация и шумные восторги, там на восстановление истины особо рассчитывать не приходится.
На эту аберрацию читательского зрения обратил внимание его товарищ, известный профессиональный фотограф Виктор Баженов. Он одного года рождения с Венедиктом Ерофеевым, окончил исторический факультет МГУ, поступив на кафедру искусствоведения. Он часто общался в Москве с писателем. Вот что он сказал: «Читатели напрямую соединяют облик забулдыги, разлюли малина Венички с автором Венедиктом Ерофеевым. Но между образом и автором всегда существует некая дистанция. Читатели считали, если и мы пьем, то с ним мы ровня. Однако если с “Веничкой”, считай, каждый мог распить и “слезу комсомолки”, и “сучий потрох”, и четвертинку в электричке, то к Венедикту так просто на кривой козе не подъедешь. Общаясь, никто из нас не фамильярничал, называя его Веничкой, даже те, кто с ним был на “ты”. Мы знали ему цену, и Венедикт ценил достойное окружение. Как пел Высоцкий, “В наш тесный круг не каждый попадал”»[145 - Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.].
Те люди, кто увидел в поэме «Москва – Петушки» только алкогольный бред, опьянены до беспамятства самими собой – своим талантом и ученостью или своей полной бесшабашностью. Однако большую часть подобной публики составляют люди малообразованные, зато крикливые, наглые и упорные в своем невежестве. Тем и другим не было и нет дела до остальных смертных. Как и до страны, в которой они родились и худо или бедно существуют.
Также в немалом количестве появились другие читатели, которые еще при жизни писателя превозносили его до небес по одной только причине: они полагали, что его проза – дерзкая политическая агитка, очередная талантливо написанная антисоветская прокламация. О таких людях Венедикт Ерофеев говорил с нескрываемой неприязнью: «Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное был бы оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут очень и очень изучать»[146 - «Все, что делается в России, – безвозвратно». Интервью. «Умру, но никогда не пойму…». С писателем беседовал И. Болычев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 518.].
Эти люди досаждали ему своими декларациями и настырным характером. А в душе большая часть из них хотела любым путем «свалить на Запад» и вести там спокойную, вполне буржуазную жизнь. В конце концов многие из них так и поступили[147 - Ренэ Герра (род. 1946), известный французский славист, хранитель художественного и литературного наследия крупнейших представителей двух волн русской эмиграции, пишет об этих людях в книге «О русских – по-русски»: «Третью волну составляли люди уже с советским менталитетом, хотя среди них встречались и достойные: Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Василий Аксенов, Юрий Мамлеев, Владимир Войнович, Борис Хазанов, Владимир Марамзин, Александр Исаевич Солженицын, конечно. Я обычно адресую третьей эмиграции одну довольно жесткую, но справедливую, я так думаю, фразу: первая эмиграция покидала родину с любовью к России, а представители второй и особенно третьей волн уезжали с ненавистью к этой стране. Я не сужу – только констатирую факт: такая ненависть существовала! А ведь многие были членами КПСС, ВЛКСМ, литературными функционерами со всеми причитающимися благами. Их печатали в престижных журналах, выпускали их книги, но тем не менее они, как только смогли, уехали. То же самое могу сказать и о художниках, хотя с художниками всё по-другому: они не очень-то вмешивались в политику, меньше были на слуху, они не печатались в “Вопросах литературы”, “Литературной газете”, в “Новом мире”, “Знамени”, “Звезде”… Никого не осуждая, замечу, что, возможно, именно ненависть позволила их детям так быстро ассимилироваться. То есть для исчезновения первой эмиграции потребовалось около пятидесяти лет, а здесь – всего лет десять. Что вполне соответствовало цели французской политики – ассимиляции» (Герра Р. О русских – по-русски. СПб., 2015. С. 439).].
Не отрази Венедикт Васильевич столь неожиданно просто и пророчески беспощадно в контексте вечных ценностей нашу советскую повседневность, существующую и по сей день не только в личных воспоминаниях, но и в массовом сознании моего поколения как привычный и единственно правильный образ жизни, его сенсационная известность времен горбачевской перестройки и первой половины 1990-х годов давным-давно сошла бы на нет.
К тому же с ходом времени понимаешь всю значимость его творчества для новой русской литературы, которую с ее появлением на свет критики назвали «другой» или «второй», отличной по мыслям, языку и сюжету от большинства сочинений советских авторов.
Взгляните на фотографии Венедикта Ерофеева разных лет и сравните их с изображениями (даже тщательно отретушированными) многих публичных людей, наших современников. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы увидеть разительное расхождение между их внутренним миром и его. Морды и лицо. Недаром говорят: лицо – зеркало души. Знаю, что утром хорошо бы внимательно посмотреть на себя в зеркало. А затем, выйдя из дома, в течение дня попытаться не совершать ничего предосудительного. Тогда, может быть, хотя бы на чуть-чуть улучшишь облик своей физиономии.
Венедикт Ерофеев уже внешним видом ошеломлял женщин. Ольга Мироновна Зиновьева, вдова писателя Александра Александровича Зиновьева[148 - 1922–2006.], философа, логика, социолога, художника и поэта, вспоминает: «У него были феноменального цвета пшеничные волосы и ясные потрясающе голубые глаза! Очень красивый человек и во взгляде, и в высказываниях»[149 - Беседа с Ольгой Мироновной Зиновьевой. Беседовал Олег Назаров // Солидарность. 2007. № 16 (25). 25 апреля. С. 14.].
Вероятно, общее впечатление от молодого человека было настолько сильным, что его светло-русые волосы остались в памяти Ольги Зиновьевой как волосы пшеничного цвета. Впрочем, если быть точным, глаза у Венедикта Ерофеева, по свидетельству людей, его хорошо знавших, были не голубыми, а серо-голубыми. Нина Васильевна Фролова, сестра писателя, в разговоре со мной, говоря об отце и его братьях, вспоминала: «Все Ерофеевы рослые, светловолосые, с серо-голубыми глазами, кроме дяди Вани – он небольшого роста, кареглазый, черноволосый».
А вот что о первой встрече с автором поэмы «Москва – Петушки» поведала мне Кира Александровна Сапгир, в 1970-е годы жена поэта Генриха Вениаминовича Сапгира[150 - 1929–1999.]. Теперь она известная писательница, живущая во Франции и часто навещающая Россию. Андрей Георгиевич Битов[151 - 1937–2018.] назвал предисловие к ее автобиографическому роману «Дисси-Блюз» «Фанни Каплан третьей эмиграции». И попал в яблочко. Чем-чем, а сентиментальностью Кира Сапгир не отличается. Она персонажей своего романа настолько вывернула наизнанку, что их прототипы чуть было не ушли в монастырь замаливать прежние грехи. Тем более что в постраничных примечаниях были раскрыты их настоящие имена и фамилии.
Этой бескомпромиссной, не склонной к сантиментам молодой женщине, увидевшей впервые Венедикта Ерофеева, показалось, что перед ней предстал находящийся слегка под хмельком высоченный, благородного вида король из романтического романа. Она едва сдержалась, чтобы не броситься к нему с распростертыми объятиями. Чего другого, а вот эту женскую экзальтацию Венедикт Ерофеев вряд ли выдержал бы даже при всей его аристократической невозмутимости. Кира Сапгир помнит, как она все-таки сделала ему глубокий книксен, придержав модную по тем временам кисейную юбчонку. Еще ей запомнился удивленный взгляд его серо-голубых глаз, направленный не на ее лицо, а на руки. Ее ногти были ярко-красными, как крупные ягоды клюквы.
А теперь я приведу отрывок из воспоминаний Виктора Баженова. Он описывает Венедикта Ерофеева неузнаваемо изменившимся, не похожим на того, кого он видел прежде: «Премьера в Доме кино. У Зайцева (Алексей Никифорович Зайцев[152 - 1939–2018.] – актер, общий друг Баженова и Ерофеева. – А. С.) роль в фильме. Фойе, лестница, опершись о перила, стоит рядом с Лешей какой-то человек. Вроде знакомое лицо. Где-то его видел. Сразу не признал – Ерофеев. Пропали статность и красота. Сильно похудел, осунулся. Пиджак висит как на вешалке. Изможденный, измученный болезнью человек. Торчит трубка из горла, через нее говорит. Хрип, свист. Жизнь в ожидании смерти»[153 - Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.].
В литературе стало общепринятым представлять Венедикта Ерофеева идущим по жизни в обнимку с бутылкой. Мало кто до сих пор понимает, что поэма «Москва – Петушки» вовсе не о съехавшем с катушек алкоголике, жертве советской системы, не о коварстве бездушной власти, не о нашем беспокойном времени, а о русском человеке, каким он предстает в своих благородных и непотребных проявлениях в сказках, былинах, бывальщинах и анекдотах. О его незлобивости по отношению к жизни. О его вольнолюбии, простодушии, доброте и в то же время дикости, своеволии и взрывном характере.
Речь идет о национальном культурно-психологическом типе, черты которого формировались на протяжении многих веков. И одновременно это человек, живущий в обществе, где господствует советская мифология черно-белого мира и присутствует вечная угроза войны.
В поэме «Москва – Петушки» писателю удалось воссоздать эти как национальные, так и сугубо советские особенности бытия настолько достоверно и впечатляюще, что многие цитаты из нее вскоре стали афоризмами. Такая посмертная судьба его самого и популярность его произведений дали Александру Генису повод сказать: «С каждым годом все труднее поверить, что образ Венички скрывал настоящего, а не вымышленного, на манер Козьмы Пруткова, автора. Кажется, что Веничка соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из мистической атмосферы, в которой вольно дышит его проза»[154 - Генис А. Частный случай: Филологическая проза. М., 2009. С. 247.].
Уже только одно это представление о нем выделяет Венедикта Ерофеева среди многих современных русских писателей. Не стоит особо заморачиваться тем, что Венедикт Ерофеев часто находился подшофе. Лучше воспринимать такое его состояние как неустранимое проявление неизлечимой болезни, развивавшейся на фоне находящейся в преддверии распада огромной страны, которую он любил. Так стоит ли скептически относиться к тому, что его писательство и эта болезнь поддерживали и подпитывали друг друга. В его жизни так оно и было. Сам Венедикт Васильевич не выяснял, что у него первично, а что вторично: страсть к выпивке или к сочинительству?
Я думаю, что для оправдания собственного пьянства в разговоре о благотворной, психотерапевтической роли спиртного ему пригодились бы высказывания американских писателей, профессионалов в этом сомнительном деле. Эрнест Хемингуэй как-то обронил: «Интеллигентный человек вынужден иногда напиваться, чтобы вынести общение с дураками». Теннесси Уильямс[155 - 1911–1983.] обратил внимание на другое общественное явление, существующее с незапамятных времен: «Ложь – это система, в которой мы живем. Алкоголь – единственный выход из этого замкнутого круга».
Более конкретно высказалась на этот счет героиня фильма шведского кинорежиссера Роя Андерссона «Ты, живущий»: «Мне это надо? Быть обреченной на проклятое существование, полное дерьма, фальши и прочей дряни? И при этом оставаться трезвой? Разве можно требовать и надеяться, что несчастный человек выдержит все это на трезвую голову?»
Тем более, добавлю уже от себя, если этот человек обладает живым воображением и острым умом.
Выскажу одно предположение, которым ни в коем случае не собираюсь защищать алкоголизм. Беспробудное пьянство подводит человека, еще сохраняющего рассудок, к четкому пониманию того, что составляет стержень человеческой личности, когда ее распад неминуем.
Герой Венедикта Ерофеева не признает приоритета государства над самим собой и предпочитает жить вне социальной иерархии. Ему чужда сакрализация государственной власти и не присущи покорность раба и легковерие идиота. Он выпрыгнул из всего телесного, тленного и устремился туда, где у времени и пространства совершенно иные параметры и координаты. Кстати, разумом он абсолютно не понимает этого вожделенного рая, к тому же неизвестно где находящегося, но сердцем и душой его хорошо чувствует и представляет. Словом, ситуация возникает чисто российская: иду туда – не знаю куда, найду то – не знаю что. И как всегда, чтобы не сойти с ума от такой неопределенности, выручает внутренний голос: «Ложись спать, утро вечера мудренее».
Бытие Венедикта Ерофеева в самом деле полно загадок. Одна из них почти неразрешимая. Почему он, находившийся долгое время в алкогольной зависимости, не оскудел интеллектуально и не очерствел сердцем? Случай редчайший и удивительный в истории судеб русских писателей.
Обращусь к психиатру и художнику Андрею Георгиевичу Бильжо, который общался с Венедиктом Ерофеевым в психоневрологическом стационаре: «Венедикт Ерофеев лежал у нас много раз, и в Кащенко, и потом, когда мы переехали на Каширку. Удивительно, что при его махровом алкоголизме, описанном в “Москве – Петушки”, при множестве “белых горячек”, с которыми он поступал, в нем совершенно не было алкогольной деградации личности. В этом смысле он был уникальным пациентом, достойным описания в специальных психиатрических трудах на тему алкоголизма. Он абсолютно выпадал из типичного течения болезни. Вне запоев это был совершенно рафинированный интеллигентный человек»[156 - Шевелев И. Петрович сегодня – это Леонардо вчера: [Интервью с Андреем Бильжо] // Время МН. 2000. 10 июня. С. 6.].
Не случайно же автор поэмы «Москва – Петушки» называл самого себя человеком «сюрпризным»![157 - Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 125.]
Это мнение профессионала. Можно сказать, доки в своем деле. К тому же Андрей Бильжо известный художник-карикатурист, живописец и юморист. Человек из одной компании с Венедиктом Ерофеевым. Конечно, при желании его можно заподозрить в заинтересованности представить своего товарища в лучшем свете, чем он выглядел на самом деле. Но такого же мнения о Венедикте Ерофееве Андрей Анатольевич Архипов, известный ученый, филолог. Он преподавал на филологическом факультете МГУ, в Институте русского языка им. А. С. Пушкина, в Московской духовной академии и семинарии, в двух американских университетах: Стэнфордском и Южной Каролины. Работал научным сотрудником в Институте высших гуманитарных исследований при Российском государственном гуманитарном университете. Андрей Анатольевич человек верующий, познакомился с писателем на Пасху 1969 года и многократно с ним общался. Приведу его свидетельство о том, как алкоголизм воздействовал на умственные способности Венедикта Ерофеева. Ведь известно, что это хроническое психическое заболевание, сравнимое с шизофренией и старческим слабоумием, приводит к разрушению умственных и творческих способностей человека.
Вот что пишет Андрей Архипов: «Считалось, что в обществе Ерофеева надо непременно “выпивать”, потому что он сам в таких случаях “выпивал”. В читающем обществе сложилось представление, что Ерофеев был пьяница, алкоголик. Я считаю, что это поверхностное представление, что оно неправильно по существу. Я понимаю дело так (вкратце, конечно). Веничка был погружен в глубокую грусть (об этом все говорят). Когда он смеялся, он как бы выныривал из своей печали. А потом возвращался в нее. Я думаю, что когда-то в ранней юности или в детстве он пережил какое-то ужасное событие или приступ страха, который дал ему увидеть ничтожество, пошлость и гнусность мира и людей. Это был, возможно, самый важный опыт в его жизни. Он давал В[еничке] определенную мудрость пессимизма, определенное превосходство над мелкостью жизни. Алкоголь отгораживал его от этого ничтожества людей и жизни вообще. Но у алкоголя была и еще одна “функция”. В[еничка] был по природе сангвиником. Этот сангвинический темперамент то и дело прорывался через его грусть. И я думаю, что В[еничка] не хотел потерять эту грусть, не хотел утратить связанное с ней презрение к миру. И, конечно, алкоголь помогал ему погружаться обратно в страдание. Я видел Ерофеева в разных степенях опьянения или похмелья, но никогда не видел, чтобы его покинул разум: разум оставался трезв. Ну и так далее. Я мог бы продолжать это рассуждение. Важно одно, важно, что он не был алкоголиком. Это примитивное упрощение»[158 - Цит. по: Шталь Е. Н. Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 27.].
В писательской среде (и не только в ней одной) Венедикт Ерофеев долгое время выглядел чужеродной личностью. Его жизнь шла вразрез с ее основными установками. Она отличалась отсутствием взаимопонимания с властью, щепетильностью во взаимоотношениях с людьми и христианским миролюбием.
Странностью своего поведения он напоминал наследного принца Эдуарда из повести Марка Твена «Принц и нищий», оказавшегося волей обстоятельств среди нищих и бродяг на месте своего двойника оборвыша Тома Кенти. Идеалом Венедикта Ерофеева был мир, где люди по отношению друг к другу сохраняют доверие и честность не только на словах, но и на деле.
Венедикт Ерофеев с малолетства столкнулся с безразличием государства к судьбе отдельного человека. Оно создавало для людей ситуации, из которых, казалось, не существовало выхода. Оставалось только смириться с тем, что происходит вокруг вопреки здравому смыслу. Судьбы умершего в тюрьме, а перед тем приговоренного к расстрелу деда и посаженных в лагерь отца и старшего брата стали тому примером. Что было, о том забудем, вычеркнем из памяти и пойдем дальше, а куда – сами не знаем, но старшие товарищи подскажут. Вот эту слабодушную позицию подневольного человека Венедикт Ерофеев не перенял. Даниил Александрович Гранин[159 - 1919–2017.] отметил еще одну особенность той, еще совсем недавней эпохи: «Милосердие никогда не поощрялось советской властью…»[160 - Гранин Д. А. Все было не совсем так. М., 2013. С. 399.]
А прежде как было? В качестве ответа процитирую поэтические строки Федора Ивановича Тютчева, сочиненные им 27 февраля 1869 года:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,