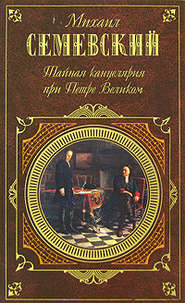 Полная версия
Полная версияТайная канцелярия при Петре Великом
Жгучей, страстной, порывистой натуре Петра была нужна не такая женщина; ему нужна была не безмолвная, вельми целомудренная царица, одна из тех цариц, к которым, по словам Котошихина, не допускали иноземных послов из боязни, что государыня-царица не сказала бы какой-нибудь глупости «и от того пришло б самому царю в стыд».
«Она глупа!» – говаривал Петр о первой супруге. Следовательно, он прямо считал ее такой царицей, «от которой пришло б ему в стыд»; итак, нужна была женщина, взросшая не в русских понятиях. Ему нужна была такая подруга, которая бы умела не плакаться, не жаловаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом кстати отогнать от него черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду; такая, которая бы не только не чуждалась его пирушек, но сама бы страстно их любила, плясала б до упаду сил, ловко и бойко осушала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, крепкая мышцами, высокогрудая, со страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая – словом, женщина, не только по характеру, но даже и в физическом отношении не сходная с царицей Авдотьей, – вот что было идеалом Петра; его подруга должна была уметь утешить его и пляской, и красивым иноземным нарядом, и любезной ему немецкой иль голландской речью с каким-нибудь послом ли иноземным, с купцом ли заморским, иль иноземцем-ремесленником… Понятно, что такая женщина не могла встретиться Петру в семействах бояр в конце XVII столетия; в России он ее мог только найти в Немецкой слободе… Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу, она-то и сделалась последним поводом к заточению царицы.
И мы убеждены, вопреки Устрялову, что никаких более важных побуждений, кроме названных нами, не было со стороны Петра; но и их было достаточно для Петра: он отринул от своего ложа жену, даровавшую ему наследника престола.
Как бы то ни было, но дело, к великому соблазну народа, свершилось: царь развелся с женой и затем с необыкновенной энергией начал гасить огнь мятежный.
Кремлевские стены покрываются трупами, московские площади обливаются кровью стрельцов, восставших против «иноземческаго» царя, против бояр да князей, против немцев и немецких нововведений; почти все стрельцы героями умирали за старую Русь, погребаемую Петром, недаром же и доселе народ поет про стрелецкие казни:
Из кремля, кремля, крепка города,От дворца, дворца государеваЧто до самой ли Красной площади,Пролегала тут широкая дорожка.Что по той ли по широкой, по дороженьке,Как ведут казнить тут добра молодца,Добра молодца, большого боярина,Что большого боярина, атамана стрелецкого,За измену против царского величества.Он идет ли молодец – не оступается,Что быстро на всех людей – озирается,Что и тут царю не покоряется.Пред ним идет грозен палач,В руках несет остер топор;А за ним идет отец и мать,Отец и мать, молода жена;Они плачут, что река льется,Возрыдают, как ручьи шумят,В возрыданьи выговаривают:«Ты дитя ли наше милое,Покорися ты самому царю,Принеси свою повинную,Авось тебя государь-царь пожалует,Оставит буйну голову на могучих плечах».Каменеет сердце молодецкое,Он противится царю, упрямствует,Отца-матери не слушает,Над молодой женой не сжалится,О детях своих не болезнует.Привели его на Красную площадь,Отрубили буйну голову,Что по самы могучи плечи.В продолжение одного октября месяца 1698 года в разные дни восемь длиннейших процессий стрельцов протянулись по улицам столицы: их везли и вели на кровавое побоище. Москва приобыкалась к подобным картинам:
Как из славного села Преображенского,Что из того приказу государева,Что вели казнить доброго молодца,Что казнить его, – повесить;Его белы руки и ноги скованы,По правую руку идет страшен палач,По левую идет его мать родная.Но не легки еще были подобные картины для русского народа, не легко было и самому виновнику страшных зрелищ – царю Петру Алексеевичу. «От мысли о бунтовавших стрельцах, – говаривал он в это время, – гидр отечества, все уды во мне трепещут; помысля о том, заснуть не могу. Такова сия кровожаждущая саранча!»
По свидетельству одного из близких к нему людей, Петра дергали тогда по ночам такие конвульсии во всем теле, что он клал с собой в постель одного из денщиков и только держась за его плечи мог заснуть; судорожное подергиванье головы, шеи и лицевых мускулов в Петре усилилось со времени избиения стрельцов. «Юный фаворит» был с ним неразлучен; Петр сильно привязался к нему; он видел в Алексашке будущего надежнейшего и преданнейшего из своих слуг, ничем не связанного с ненавистной для него стариной; в Меншикове для Петра вырастало поколение его ставленников, его «птенцов»… От внимания народа не ускользнула эта любовь к юноше, и он поспешил объяснить ее, разумеется, на свой лад.
– К Алексашке Меншикову, – говорил, между прочим, московский гость Романов одному из своих знакомых, – государева милость такова, что никому таковой нет!
– Што ж, – отвечал знакомый, – молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему милостив.
– Тут Бога и не было; черт его с ним снес… вольно ему, что черт в своем озере возится, желает, что хочет!»[74]
В то время, как Петр скасовывает стрельцов, а в народе бродят самые черные истолкования нередко чистых чувств и симпатий Петра, обратимся к той, в обществе которой отдыхал Петр в это полное крови и ужаса время.
Постараемся проследить, с какого времени и при каких обстоятельствах возникло расположение Петра к Анне Монс; что это была за женщина, окончательно «остудившая» его к царице и ускорившая решение ее горькой участи, что это за женщина – которой, по свидетельству иноземцев, отдав сердце, Петр непременно бы отдал и корону всея России, если бы только на его любовь красавица ответила такою же страстью? Нечего и говорить, что вследствие всех этих обстоятельств Анна Ивановна выступает из ряда дюжинных любовниц великих персон и заслуживает нескольких страниц в очерках истории царствования Петра Великого.
На правом берегу Яузы, исстари, еще со времен Ивана Грозного, особою слободою поселены были иноземцы разных вер и наций; Немецкая слобода была как бы особым городом, резко выделявшимся как по своему внешнему виду, так и по образу жизни своих обитателей. Разоренный и уничтоженный «в нужное и прискорбное время», т. е. в начале XVII века, «Кукуй-городок» снова возник при царе Алексее.
Шотландцы, голландцы, англичане, французы и другие иноземцы, доселе раскинутые по всей Москве, водворены были теперь в новоиноземческой слободе. Отведенные под нее пустыри быстро покрылись прекрасными домиками, огородами и садами; над слободой возвысились иноземческие кирки, и жизнь совершенно особая потекла на Кукуе. Тут были люди всех наций, разных вероисповеданий, языков, «художеств и ремесл». Подле дома генерала подымалось жилище немецкого гостя, близ доктора – жил какой-нибудь виноторговец, далее – золотых дел мастер, плотник и другие ремесленники; генералы и полковники-иноземцы большею частию жили в слободе; из негоциантов здесь были заметнее других дома Кельдермана, «Московскаго государства повереннаго и чести достойнаго» Даниеля Гартмана, Яна Любса, золотых дел мастера Монса и другие. Тут же жили семейства покойных служилых иноземцев, как, например, генерала Гамильтона и других. Несмотря на сословные отличия и разность занятий, иноземцы, говоря вообще, жили незамкнуто в своих семьях или в небольших кружках. Жизнь общественная, при первых благоприятных для иноземцев обстоятельствах, получила в Кукуй-городке широкое развитие, особенно тогда, когда Московское правительство, в лице Петра, стало им покровительствовать. Почти всех хорошеньких дам и девиц, а красавицами изобиловала слобода, можно было встретить на любой вечеринке у какого-нибудь негоцианта. Вечерние сходки были беспрерывны; на них обыкновенно старики и важные иноземцы собирались в отдельном покое, дымили трубками да осушали стаканы, а молодежь без устали танцевала в соседних покоях; тут были и бесконечный польский, и гросфатер, и какой-то танец с поцелуями; пляски, зачастую начатые в 5 часов пополудни, оканчивались к 2 часам утра; устали и церемоний не знали; простота и свобода доходили до грубости; ссоры, драки между подгулявшими кукуйцами были ежедневно…
Тем не менее, люди приезжие невольно дивились тому, как весело проводили время жители иноземческой слободы; не проходило почти ни одного вечера, чтоб они не сходились друг к другу с женами, дочерьми, племянницами…
В то время, когда русская боярыня или боярышня отвешивала поклоны за торжественными обедами московской знати либо церемонно лобызалась с почетными гостьми по воле хозяина дома; в то время, когда от этих теремных красавиц трудно было добиться других ответов, кроме «да», «нет», «не знаю», в это время на другом берегу Яузы, в семействах и общих собраниях иноземцев, царили относительная свобода, веселье и простота.
Мудрено ли после этого, что пылкий Петр, никак не могши примириться с обрядностью и торжественностью русского быта тогдашних бояр, всей душой полюбил частную и общественную жизнь иноземцев.
Мы не станем, вслед за Устряловым, уверять, что молодого монарха с первых же годов тянула на Кукуй-городок жажда получить от иноземцев «образование для себя и для своего народа»; кто знает молодость Петра (а Устрялову была она известна лучше, чем кому-нибудь другому), тот хорошо знает и то, что государь, по крайней мере в первое время, ласково протянул руку чужеземным пришельцам вовсе не с такою высокою целью, а просто ради веселого и приятного препровождения времени.
Но действительно эти веселые пирушки на Кукуе сделались школою для Петра, и притом такою школою, из которой вынесенное далеко и далеко не все было доброе; здесь-то Петр, по выражению народа, излишне «почал веровати в немцев», недаром же народ с такою ненавистью и озлоблением относился к кукуйцам.
Впрочем, Петр мало интересовался симпатией или антипатией народа; Немецкая слобода довольно рано сделалась для него отраднейшим уголком в Москве; здесь он задолго еще до заграничной поездки переходил от одной потехи к другой, здесь слагались у него планы смелых походов его на берега Черного моря,[75] здесь за чарами пива и водки выслушивал он длинные и, без сомнения, хвастливые рассказы иноземцев о красотах заморской жизни; здесь, наконец, Петр вкусил радости любви…
Иоанн Монс, уроженец города Миндена, что на Везере, по известиям Корба, был золотых дел мастер; по словам других современников, между прочим посла Гвариента, Монс был виноторговец.
Быть может, оба ремесла служили средством существования этого семейства. Оно прибыло в Россию во второй половине XVII столетия: Монс приехал из города Миндена с двумя аттестатами от городских властей о его способностях и учении, с женой, весьма заботливой хозяйкой, и с несколькими детьми. Рассказы и письма кукуйцев, прежних выходцев из-за границы, родственные связи и, наконец, что самое важное, надежды на обогащение – привлекли Монса в столь отдаленную Московию.
В грамотах, привезенных им с собой, сказано было, что Иоанн в имперском вольном городе Вормсе два года обучался с большим успехом «бочарному мастерству»; без сомнения, это же ремесло, а затем более выгодная спекуляция – виноторговля – и дали средство Монсу к безбедному существованию.
У него было три сына; из них нам известны Филимон и Виллим, и две дочери: Модеста, в русском переводе – Матрена, и Анна.
С домом старика Монса хорошо был знаком с самого приезда своего в Россию, т. е. с 1676 года, знаменитый Лефорт; гуляка, поклонник женской красоты, он часто бывал у виноторговца и ухаживал за хорошенькими дочерьми; из них старшая скоро вышла замуж за иноземца Федора Балка.
Если верить Гвариенту, а не верить ему нет основания, младшая из сестер Монс сделалась любовницей ловкого женевца.
Монсы, по словам Гюйсена, принимали Лефорта очень гостеприимно. Потом, когда при стрелецком восстании Лефорт выказал свою приверженность царю и был за то награжден высокими государственными званиями, тогда он из похвального великодушия (слова Гюйсена) остался признательным к Монсам, возвышал их и вообще старался сделать эту фамилию соучастницею своего счастия.
Так объясняет причину возвышения Монсов Гюйсен, известный воспитатель царевича Алексея и автор хвалебных брошюр о Петре I. Дело, как кажется, было проще; ни о каком похвальном великодушии речи не было; Лефорт всегда старался потешать своего державного питомца, доставлял ему всякого рода развлечения и, разумеется, как на веселую и приятную утеху указал на красавицу Монс…
Анна Ивановна, по словам более правдивого Гвариента, сделалась фавориткой обоих друзей.
Почти одновременно с любовью к Монс, около 1692 года, начинается охлаждение Петра к его законной супруге; он неохотно с ней переписывается, не отвечает на ее письма, не обращает внимания на ее упреки; в 1693 году государь бьет ее брата Аврама Лопухина, бьет по щекам за ссору его с Лефортом. Вскоре царица с глубокою скорбью пишет к мужу: «Только я бедная, на свете безчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровьи своем. Не презри, свет мой, моего прошения…» Но «свет» не внемлет ее пеням и, между поездками на Белое море, между воинскими потехами в окрестностях Москвы, ищет отдыха не у нее, «безчастной», а в обществе Лефорта и своих друзей, в доме красавицы Кукуй-городка.
Можно представить себе после этого, с каким негодованием смотрела царица Авдотья на Немецкую слободу; и станем ли мы винить ее, вслед за Устряловым, за то, что она считала кукуйцев за нехристей и развратников: ведь слободская немка оторвала от ее ложа «лапушку свет Петрушеньку».
Между тем государь два раза слетал под Азов:
Под тот ли под славный под Азов город,Что под те ли стены белокаменныя,Ах под те ли под раскаты, под высокие…А тут путешествие за границу; Петр оставляет жену под надзором бояр и духовных, им и поручает удалить ее в монастырь; что же до Анны Монс, то ее осыпает подарками и, в знак благоволения, берет с собой ее старшего брата Филимона.
Народ не замедлил подметить разрыв царя с царицей и глухо заговорил о том, будто бы бояре бьют уже государыню по щекам…
Таковы были отношения Петра к двум женщинам, когда весть о стрелецком восстании заставила его преждевременно возвратиться в Москву. Мы видели, как с первого же вечера вспыхнула в нем прежняя страсть к Анне Ивановне. Отсюда значение ее все более и более растет.
Насколько же заслуживала безвестная немка любовь Петра?
Иностранцы и преимущественно немцы отзываются о ней с большими похвалами. Helbig, например, сводит отзывы всех об Анне Монс, и на основании этого свода выходит, что «эта особа служила образцом женских совершенств: с необыкновенной красотой она соединяла самый пленительный характер; была чувствительна, не прикидывалась страдалицей; имела самый обворожительный нрав, невозмущаемый капризами, не знала кокетства, пленяла мужчин, сама того не желая, была умна и в высшей степени добросердечна». Кроме этих отменных качеств, по уверениям тех же немцев, Анна была до такой степени целомудренна, что на любовные предложения Петра отвечала решительным отказом.
Эти восторженные отзывы немцев, вызванные желанием возбудить сочувствие к судьбе своей единоземки, разлетаются при первом знакомстве с подлинными документами и с рассказами беспристрастных современников. Так, целомудрие было не в характере Анны Ивановны; с легкой руки Лефорта она всецело отдалась Петру; об этом заговорили везде: в домах иноземцев, в избах простолюдинов, в колодничьих палатах.
– Относил я венгерскую шубу к иноземке, к девице Анне Монсовой, – говорил, между прочим, немец, портной Фланк, аптекарше Якимовой, – и видел в спальне ее кровать, а занавески на ней золотые…
– Это не ту кровать ты видел, – прервала аптекарша, – а вот есть другая, в другой спальне, в которой бывает государь; здесь-то он и опочивает…
Затем аптекарша пустилась в «неудобь-сказываемыя» подробности.
– Какой он государь, – говорит о Петре колодник Ванька Борлют в казенке Преображенского приказа одному из своих товарищей-колодников, – какой он государь! Бусурман! В среду и пятницу ест мясо и лягушки… царицу свою сослал в ссылку и живет с иноземкою Анною Монсовой…
Петр решительно стал смотреть на нее как на будущую свою супругу-царицу: смерть Лефорта, лишив его любимейшего друга, в то же время избавила царя от совместника и вывела из неловкого положения «верную» ему Анну – так она подписывала свои письма.
В конце апреля 1699 года государь отправился в последний поход под Азов, и его суб-супруга поспешила завязать с ним нежную переписку; к сожалению, из нее уцелело только пять писем Анны Монс, но их довольно, чтоб судить о характере корреспонденции и о характере писавшей; что до ответов Петра, то они не дошли до нас: их, как кажется, уничтожили в год разрыва государя с его фавориткой.
Уцелевшие письма Анны к государю писаны по-русски, за исключением подписей и маленьких приписок ее руки частью на немецком, частью на голландском языках, но, так как Анна по-русски писать не умела, то русский текст писан рукой секретаря.
В этих письмах мы находим обычные пожелания: «милостивейшему государю Петру Алексеевичу» желаю «многолетняго здравия и счастливаго пребывания», затем убедительнейшая просьба: «дай государь милостиво ведати о своем государском многолетном здравии, чтоб мне бедной о твоем великом здравии всем сердцем обрадоваться»; впрочем, подобных просьб расточать, кажется, доводилось не много, так как в пяти письмах Анны мы находим две ее благодарности государю за его ответы: «Челом бью милостивому государю за премногую милость твою, что пожаловал, обрадовал и дал милостиво ведать о своем многолетнем здравии чрез милостивое твое писание, об котором я всем сердцем обрадовалась, и молю Господа-Бога» и проч., «и дай Бог, чтобы нам вскоре видеть милостивое пришествие твое».
Из этих церемонных, официальных фраз можно думать, что Петр не доводил еще Анну до излишней с ним короткости, но, однако, тут же мы находим знаки нежных забот «Аннушки» о своем герое.
Она хлопочет, по его просьбе, достать несколько скляниц какой-то «цедреоли»; «вельми печалится», что не удается ее достать; жалеет, что у нее «убогой крыльев нет», а «если бы у меня убогой, – пишет Анна Монс, – крылья были и я бы тебе, милостивому государю, сама принесла (цедреоль)».
В ожидании, пока вырастут крылья, или, по крайней мере, добудет заветный напиток, «вернейшая до своей смерти» Анна Ивановна посылает «четыре цитрона и четыре апельсина», чтоб государь «кушал на здоровье», а наконец посылает и цедреоли двенадцать скляниц, причем просит не гневаться: «больше б прислала, да не могла достать».
С такими нежными заботами относительно государя, казалось бы, Анна Ивановна решительно должна была приковать к себе эту пылкую натуру: так и случилось, но ненадолго.
Красавица, ангелоподобное существо, какою изображают ее чувствительные немцы, не любила Петра; она и отдалась-то ему только из корысти, ради собственной прибыли и возвышения своей фамилии. Еще не успев заявить себя ничем, кроме как посылками апельсинов, цитронов и цедреоли, никакими более важными подвигами преданность своему благодетелю, Анна уже торопилась вмешаться в разные тяжбы и ходатайствовать перед государем в делах, которые вовсе до нее не касались. Много ли уцелело ее писем к Петру, а в двух из них она просит за вдову Петра Салтыкова в деле ее с Лобановым, молит о перенесении этого дела из одного приказа в другой и о том, чтоб не чинить правёж[76] людям Салтыковой. Впрочем, на первые разы Анна Монс просит осторожно, с оговорками: «Пожалуй, государь, не прогневайся, что об делах докучаю милости твоей».
И, между тем, продолжала докучать не только о чужих делах, но спешила позаботиться о составлении собственного достатка. «Благочестивый великий государь, царь Петр Алексеевич, – писал секретарь под диктовку Монс, – многолетно здравствуй! О чем, государь, я милости у тебя, государя, просила, и ты, государь, поволил приказать Федору Алексеевичу (Головину) выписать из дворцовых сел волость: и Федор Алексеевич, по твоему государеву указу, выписав, послал к тебе, государю, чрез почту; и о том твоего государева указу никакого не учинено. Умилостивися, государь, царь Петр Алексеевич, для своего многолетняго здравия и для многолетняго здравия царевича Алексея Петровича, свой государев милостивый указ учини…»
Не находя еще убедительным такой, в высшей степени странный (в устах виновницы ссылки царицы), аргумент, как подарок волости – «для многолетняго здравия царевича», – Анна Ивановна собственноручно приписала: «Я прошу, мой милостивейший государь и отец, не презри мою нижайшую просьбу, ради Бога, пожалуй меня, твою покорнейшую рабу до моей смерти А. М. М.».
Все эти убеждения и заклинания были не более как приличием; Анна Ивановна могла обойтись и без них: Петр с полною готовностью выполнял все ее просьбы и, мало этого, несмотря на известную свою бережливость в отношении к женщинам, доходившую до скупости, осыпал красавицу щедрыми подарками; довольно упомянуть об одном из них, чтоб судить об остальных: государь подарил ей свой портрет, осыпанный драгоценными камнями на сумму в 1000 рублей! Кроме этого, Анна Ивановна получила несколько имений с разными угодьями и выпросила себе ежегодный пенсион; внимание к ней государь распространил до того, что на счет казны выстроил ей в Немецкой слободе, близ кирки, огромный – конечно, по тогдашнему времени – палаццо.
Не довольствуясь этим и увлекаемая частью собственными склонностями к стяжанию, частью убеждениями матери, Анна Ивановна, как уже мы видели, стала мешаться в разные тяжбы; она и ее родные не жалели своих клиентов и собирали от них много драгоценностей… Подобные вмешательства тем легче были для Монс, что, по свидетельству Гюйсена, даже «в присутственных местах было принято за правило: если мадам и мадемуазель Монс имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то о том делались особенные пометки и вообще Монсам в делах до их имений должно было оказывать всякое содействие». «Они этим снисхождением так широко воспользовались, – продолжает Гюйсен, – что принялись за ходатайство по делам внешней торговли и употребляли для того нанятых стряпчих (адресатов и ходатаев по делам)».
Дела довольно разнообразного свойства обделывались при посредничестве Анны Ивановны; расскажем со слов современника одно из таких дел.
В 1699 году состоял в Москве на службе артиллерийский полковник – иноземец Krage, как кажется, именно тот, который пушечными залпами под Воскресенскою обителью спас Кукуй от огня и ножа стрельцов; однажды пьяный гайдук Krage в присутствии барина избил и изуродовал минера Серьера. Гайдука наказали кнутом; минер не удовольствовался этим и по выздоровлении подал на полковника счет, что стоило ему леченье; хлопоты свои Серьер начал через фаворитку царя, и «ея дочь», говорит Плейер; но австрийскому послу два раза удалось защитить полковника: минер получил отказ в своей претензии, но на беду случилось, что Krage как-то поссорился с девицею Монс и тем навлек на себя ненависть всего семейства; в то время, когда Krage неосторожно ссорился с Монс, противник его вызвался у этой госпожи заведывать ее делами и хозяйством и так умел к ней подбиться, что та, по выражению Плейера, «настойчиво ходатайствовала за него у царя», и Петр, вопреки двукратному отказу в претензии минера, приговорил Krage к штрафу в 560 рублей.
Государь, под влиянием кукуйцев, по выражению народному, все более и более «онемечивался»; в этом влиянии, разумеется, значительную долю имела и обворожительная Анна Ивановна; в январе 1700 года на всех воротах Москвы появились строгие объявления всем мало-мальски зажиточным русским людям зимою ходить в венгерских кафтанах или шубах, летом же в немецком платье; мало этого, отныне ни одна русская дворянка не смела явиться пред царем на публичных празднествах в русском платье…
И «все то, – заговорил народ, – найде нам скорбь и туга велия по зависти диавольской и пришельцев иноверных языков; влезли окояннии татски, яко хищницы волцы в стадо христово!»
Военные тревоги, страшная борьба с «северным героем», занимавшая молодого государя, давали полный простор действовать в собственную пользу «пришельцам иноверных языков»; этой цели верна была все время Анна Ивановна.
Обогатившись от щедрот своего благодетеля, сластолюбивая немка скоро забыла все благодеяния государя, забыла, что шкапы и гардероб ее наполнены ею же выпрошенными драгоценными подарками… она изменила ему и отдала свое сердце саксонскому посланнику Кенигсеку…
Эта личность нам мало известна; знаем только, что в 1702 году он поступил в русскую службу и сопровождал царя Петра в его походах. Новая связь была искусно скрыта, и недостойная подруга Петра была до такой степени нагла, что, уж изменивши ему, не стыдилась еще выпрашивать и получать от него подарки. А подарки были не малоценны: они состояли ни больше ни меньше как из русских крестьянских душ.
Так, в январе 1703 года Анна Ивановна получила в свое владение село Дудино в Козельском уезде, 295 дворов со всеми угодьями.



