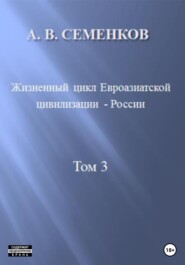 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 3
Стоглав определил, чтобы иконописцы непременно держались древних образцов, чтобы архиереи по епархиям установили за иконописью строгий надзор и запрещали писать иконы от самоизмышления, не по старым образцам, и людям неискусным и худой нравственности. В образец для мастеров он рекомендовал известного инока, иконописца Андрея Рублева († 1430). Вскоре после Стоглава началось волнение из-за икон, поднятое дьяком Иваном Висковатым.
В своей работе мастера обращаются к давно известным иконографическим схемам, которые особо почитались благодаря их древности, и обогащают их новыми подробностями. Вместе с тем, во многих случаях иконография и композиция икон делаются настолько усложненными, что утрачивается цельность образа. Лики в иконах становятся строгими, хмурыми и непроницаемыми, – это изображения непреклонных наставников. С точки зрения догматики, русская икона XVI века сохраняет свое значение как отражение небесного первообраза, как средство общения молящегося с высшим миром. Однако художественные перемены настолько велики, что они во многих случаях снижают эту первейшую, важнейшую функцию православной иконы. Она часто становится лишь иллюстрацией догмы, лишь напоминанием о высшем мире, но не посредником в общении с ним.
При митрополичьем и царском дворах создаются живописные мастерские, куда собирают иконописцев со всей страны. Иконопись Москвы в XVI веке сохраняет и укрепляет свою ведущую роль в русском искусстве. Москва часто привлекает к выполнению заказов мастеров из других местных центров, в частности, из Новгорода и Пскова. В итоге именно столичное искусство становится образцовым и официальным. Особенности старых местных школ постепенно нивелируются, остаются лишь сравнительно небольшие стилистические различия. Правда, возникают и расцветают новые школы, в тех регионах, которые в XVI веке переживают хозяйственный и культурный расцвет, – в Поволжье и в нескольких областях Севера.
Выделяется несколько стилистических вариантов иконописи. На рубеже XVI–XVII веков в Москве сформировались два течения в живописи, условно называемые по фамилиям их ревностных сторонников «годуновским» и «строгановским». Первая из них годуновская школа, названа так потому, что большинство произведений было исполнено по заказу Бориса Годунова. Это художественное направление тяготело к строгому стилю икон и монументальной росписи XV–XVI веков, но обнаруживала так же типичную для мастеров XVI века любовь к царственной пышности. Художники этого направления стремились следовать монументальным образам Рублева и Дионисия. При иллюстрировании псалтырей эта школа возрождала старую традицию оформления рукописей рисунками на полях.
Строгановская школа иконописи, сложился в конце XVI века в среде иконописцев царского двора. Эта школа культивировала мелкое, щегольски-утонченное письмо, сочетая краски с золотом и серебром. Иконы писались для домашних молелен богатых прихожан, ценителей изощренного мастерства. Лучшие мастера были москвичами: Прокопий Чирин, Никита, Назарий, Фёдор и Истома семьи Савиных, Стефан Арефьев, Емельян Москвин и др. Работы данных мастеров отличались изощренностью и тонкостью письма, орнаментальностью и обилием золота. На иконах появляется много бытовых сценок и деталей, фоном служат красивые пейзажи. Все это свидетельствовало о проникновении светских мотивов в церковную живопись. Мастера выполняли преимущественно заказы богатых купцов и предпринимателей Строгановых, по фамилии которых этот стиль и получил свое название. Владения Строгановых были на северо-востоке, вблизи Урала, с центром в городе Сольвычегодске. Строгановы были меценатами и очень любили изысканное искусство царских иконописцев. Вместе с тем иконы, украшающие храмы в Сольвычегодске, исполнены в совсем ином, монументальном стиле, и лишь отдельные черты иконографии и композиций выдают желание местных провинциальных художников воспроизвести приемы столичного искусства.
Московские «строгановские» мастера отстаивали своим творчеством понимание иконы как изображения, которое должно настраивать верующего на молитвенный лад. Еще в конце XVI века они стали писать иконы-миниатюры, рассчитанные на любование представленным в них ирреальным и прекрасным миром. Это мир изящных бесплотных фигур, благоговейных поз, узорных одежд, фантастических пейзажей, чудесных событий. Для работ мастеров этой школы характерна несколько изнеженная красота и беззащитная слабость святых в расцвеченных одеждах, фон со сложным фантастическим пейзажем.
Но, в отличие от старых икон, например от произведений Андрея Рублева, «строгановские» произведения скорее лишь напоминают о небесном мире, чем его воспроизводят или отражают. Они побуждают не только к молению, но и к рассматриванию, восхищению своими золотыми контурами и мелкими искусными орнаментами. Их желтые и оливковые фоны словно закрывают от верующего небесный мир, сосредоточивают внимание на формальной красоте изображения. «Строгановские» иконы вызывают в памяти и памятники позднеготической европейской живописи, и восточную миниатюру, а отчасти и произведения итальянского треченто. Созданная скорее для коллекционеров, знатоков, любителей, икона «строгановской школы» осталась в русской иконописи как образец высокого профессионализма, артистичности, изощренности языка, но она свидетельствовала вместе с тем о постепенном умирании монументального моленного образа.
ГЛАВА 117. Общественно-политическая мысль. Формирование концептуальных основ государственной идеологии в XVI столетии
117.1. Общественно-политическая мысль XVI столетияXVI век был временем встречи и столкновения многих религиозных, культурных и идеологических традиций. Этот век явился началом переходного периода и борьбы консервативных воззрений и новых идей, ориентированных на реформы. В политической и духовной жизни Московской Руси возникли новые явления: евразийское геополитическое мышление, пришедший с Афона исихазм, проимперская доктрина «Москва – Третий Рим», книгопечатание, как начало нового цивилизационного этапа. С Балкан приходят переводы творений Дионисия Ареопагита, «Диоптры» Филиппа Монотропа. Складываются глоссарии энциклопедического типа, вроде Азбуковников. Полностью переводится в Новгороде и печатно издается Иваном Федоровым в Остроге на Украине Библия. Достигают наивысшего расцвета иконопись, летописание, агиография.
В публицистических произведениях этого периода с невиданным до того широтой и размахом обсуждались многие важные вопросы. Среди них: основы государственного устройства, характер и пределы царской власти, ее место во взаимоотношениях с духовными властями, положение в стране служилых людей и крестьянства. В некоторых произведениях открыто выражался протест против рабской и крепостной зависимости крестьян и холопов, унижения человеческого достоинства «меньшой братии» «сильными мира сего».
Складывание национальной идентичности Руси-России в XVI веке происходило по трем основным направлениям: Русь как носительница теократического идеала, унаследованного от Римско-Византийской империи, Русь как европейское национальное государство и Русь как преемница монгольских ханов. Постепенно возникает конфликт между возраставшей имперской мощью и идеалом Святой Руси, который в Новое время трансформируется в коллизию власти и мыслящей, отстаивающей нравственные идеалы частью общества. Максимализм власти породит максимализм способов противостояния ей, что активизирует разрушительные тенденции, которые взорвут впоследствии Российскую империю.
Обширный круг идей содержится в сочинениях таких мыслителей, как Епифаний Премудрый, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Григорий Сковорода, Артемий Троицкий, Иван Пересветов, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Александр Потебня, Зиновий Отенский, Вассиан Патрикеев и других мыслителей XV–XVI веков.
В самом начале XVI века возникли два произведения русской публицистики – «Послание о Мономаховом венце», автором которого был Спиридон Савва, и анонимное «Сказание о князьях владимирских», которое в своей фактической основе базировалось на «Послании». Именно эти сочинения стали основой официальной идеологии великокняжеской власти, поскольку основная их идея заключалась в том, чтобы собрать воедино ряд исторических преданий и легенд, и виртуозно объединив их в единую «логическую цепь», убедительно доказать знатность происхождения русского правящего дома, который вел свою родословную от знаменитого римского императора Августа.
«Послание о Мономаховом венце» имело своей целью подчеркнуть исконность самодержавного правления в России и право великих московских князей на верховную власть, а также обладание всеми исконно русскими землями, прежде всего теми, которые входили в состав Польско-Литовского государства. Кроме того, по мнению ряда авторов (Р. Дмитриева, А. Кузьмин, А. Сахаров), обращение к Древнему Риму как исходному пункту всей династии Рюриковичей, явилось своеобразным откликом русских публицистов на европейское Возрождение, в основе которого лежал повышенный интерес к античному миру. Основные идеи «Послания» Спиридона Саввы послужили фактической основой для создания нового трактата «Сказания о князьях владимирских», которое было подвергнуто совсем незначительной редакторской обработке, чтобы придать легендарному материалу еще «большую документальность и историчность».
В XVI веке продолжилась борьба двух основных течений в Русской Церкви – иосифлян и нестяжателей. Выдающимся памятником нестяжательской идеологии того времени стала «Беседа Валаамских чудотворцев Сергия и Германа», возникшая в 1551 году во время работы знаменитого Стоглавого собора в Москве. Вопрос о том, чьи социальные интересы отражала «Валаамская беседа», до сих пор не разрешен в исторической литературе. Профессор И.И. Смирнов заявлял, что в центре внимания этой «Беседы» был крестьянский вопрос. Его оппонент профессор Г.Н. Моисеева говорила, что, защищая сильную самодержавную власть, автор «Валаамской беседы» выступает последовательным защитником интересов дворянства. Профессор А.Г. Кузьмин резонно полагал, что идеи нестяжательства не укладываются в рамки какого-либо социального слоя вообще, однако некая симпатия к боярству, как высшему правящему сословию государства, в этом сочинении все же очевидна. Более того, по мнению А.Г. Кузьмина, «Валаамская беседа» – это памятник русской публицистики с резко выраженной светской направленностью, в котором чисто церковные споры отодвинуты на второй план, а на первое место поставлены проблемы государственного устройства. По сути, анонимный автор «Валаамской беседы» разрабатывает целую систему альтернативной самодержавию организации государственной власти в стране. Суть этой альтернативы заключается в том, что «власть» должна править вместе с «землей», в лице постоянного Земского совета, состоящего из представителей всех сословий, уездов и городов.
Выдающимся мыслителем первой половины XVI века был духовник царя, протопоп Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр. В 1550 году он написал «По-слание» Ивану Грозному, где активно отстаивал идею о высокой ответственности царя перед Богом и обществом, требующей устранения многих существующих бед и пороков, а именно: ненависти, гордыни, лихоимства, насилия и т.д. Конкретную программу реформ Сильвестр не предлагал. Однако в этом «Послании» достаточно четко прозвучала мысль о том, что царская власть должна находиться под опекой Церкви и руководствоваться в своей повседневной деятельности ее установлениями. В таком понимании задач царской власти Сильвестр, безусловно, смыкался со сторонниками иосифлянской доктрины. Наряду с этим ему не были чужды и основные элементы «нестяжательской» доктрины. Например, накануне знаменитого Стоглавого собора (1551) именно Сильвестр открыто заявил о необходимости ограничения монастырского землевладения, что вполне соотносилось с настроениями самого царя и многих членов Избранной рады, в первую очередь А.Ф. Адашева.
Одним из значительных явлений русской общественной мысли середины XVI века стали выступления И.С. Пересветова. Раньше считалось, что И.С. Пересветов – это некий собирательный образ, или даже псевдоним самого Ивана Грозного. Однако крупнейший знаток средневековой русской истории, профессор А.А. Зимин в своей работе «И.С. Пересветов и его современники» (1958) убедительно доказал, что он был реальной исторической личностью. И.С. Пересветов был выходцем из Литвы и долгое время в статусе ратного человека служил польскому, чешскому и венгерскому королям.
В период боярской «смуты», примерно в 1538–1539 годы, он прибыл в Россию и поступил на службу к великому московскому князю. За время своей службы, внимательно изучив внутреннее положение России, он разработал широкомасштабную программу реформ, и в сентябре 1549 года подал Ивану Грозному челобитную, в которой содержались несколько проектов государственных преобразований. Эта челобитная, а также ряд произведений И.С. Пересветова, в частности «Сказание о книгах», «Сказание о Магомет-Салтане» и «Сказание о царе Константине», дают представление о его политических и общественных взглядах. Свои идеи Иван Пересветов излагал в аллегорической форме. В «Сказании о Магмет-салтане» он рисует образ некой идеальной страны, якобы Турции, в которой правит царь, «философ-мудрый» Магмет-салтан. Мудрый царь строг к лживым вельможам. С продажных судей Магмет приказывает содрать кожу, набить ее бумагой и выставить получившиеся чучела в судах. «Без грозы нельзя правду в царство ввести. Как конь под царем без узды, так царство без грозы», – пишет Пересветов.
Главным пороком государства, обличению которого он посвятил многие страницы своих произведений, являлось засилье аристократии, ее произвол, неправедный суд и равнодушие к решению общегосударственных задач. Надо подчеркнуть, что И.С. Пересветов никогда не выступал против самой аристократии, он лишь подчеркивал тот факт, что в настоящий момент положение человека во властных структурах определялось не его личными заслугами и способностью принести пользу интересам государства и общества, а его «породой» и службой его предков.
Иван Пересветов был сторонником сильной самодержавной власти. Он выступал решительным сторонником централизованной дворянской монархии, настаивая на том, что на смену всевластию родовой аристократии должна прийти сильная царская власть. По его мнению, царь должен искать опору в служилом дворянстве, «воинниках», составлявших костяк русской поместной конницы. Только служилые дворяне, чье благосостояние всецело зависит от царских пожалований, способны на нелицемерную преданность государю. Царь должен ценить это и награждать за самоотверженную службу. И. Пересветов стал, пожалуй, первым идеологом и выразителем коренных интересов нового служилого сословия – провинциального поместного дворянства. Для достижения указанной цели он считал необходимым провести военную, финансовую и судебную реформы. Центральное место в его программе преобразований отводилось именно военной реформе, которая должна была кардинальным образом перестроить всю структуру военной организации и стать главным инструментом утверждения самодержавной монархии в России.
Взгляды И. Пересветова шли вразрез с официальной церковной доктриной. Но той резкой критики официальной Церкви, которая содержалась в работах европейских реформаторов и «гуманистов», у него нет и в помине. Более того, как верно подметил профессор А.Г. Кузьмин, идеалом И.С. Пересветова являлась неограниченная монархия, т.е. «правда», соединенная не с «милостью», как у Ф.И. Карпова, а с «грозой». Именно этот идеал, по мнению профессора А.Г. Кузьмина, и нашел свое зримое воплощение в опричнине.
Одним из ярких публицистов середины XVI века был Ермолай Еразм (Ермолай Прегрешный), который был выходцем из среды придворного духовенства, а посему во многом был сторонником иосифлянских теократических взглядов. Перу Ермолая Еразма принадлежит много различных сочинений: «Моление к царю», «Книга о Святой Троице», «Зрячая Пасхалия», «Поучение к своей душе» и даже светские произведения «Повесть о Петре и Февронии» и «Повесть о Василии Рязанском». Но самым известным его сочинением стала «Благохотящим царем правительница и землемерие», в котором впервые была поднята проблема бедственного положения крестьян. Многие труды его были написаны по поручению митрополита Макария, который достаточно высоко ценил и ум, и литературный талант протопопа кремлевского собора Спаса на Бору. В его сочинениях совершенно четко проявился и резкий протест не только против стяжательства светских вельмож и феодалов, но и против стяжательства своих коллег по монашескому ремеслу. В связи с этим обстоятельством некоторые советские и современные историки причислили Ермолая Еразма к числу первых крестьянских идеологов. Однако внимательный анализ его сочинений убеждает в том, что проблема бедственного положения крестьян интересовала автора лишь в той мере, в какой она отвечала интересам самих помещиков и государственных служилых чинов. Иными словами, он проводил прямую связь между благосостоянием крестьян и их владельцев, которые, как известно, составляли костяк поместной (дворянской) конницы.
117.2. Идеологическая доктрина «Москва – Третий Рим»В традициях Руси-России самодержавие не должно иметь своих «самостоятельных» нецерковных идеалов и целей. Оно призвано свидетельствовать о своем «подзаконном» отношении к заповедям Божиим самим фактом утверждения власти Царя в Таинстве Миропомазания. Вопреки расхожему взгляду, православная государственность России не претендовала на самоценность, в идеале смиренно довольствуясь ролью «ограды церковной». Целью такой власти является всемерное содействие попыткам приблизить жизнь народа во всем ее реальном многообразии к евангельскому идеалу. Иными словами, цель богоугодной власти – содействие спасению душ подданных, в соответствии со словами Божиими: «Не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего, и живу быти ему» (Иез. 33:11).
Богу угодно вверять сохранение истин Откровения, необходимых для спасения людей, отдельным народам и царствам, избранным Им Самим, по неведомым человеческому разуму причинам. В ветхозаветные времена такое служение было вверено Израилю. В новозаветной истории оно последовательно вверялось трем царствам. Первоначально служение принял Рим – столица мира времен первохристианства. Отпав в ересь латинства, он был отстранен от служения, преемственно дарованного православному Константинополю – «второму Риму» средних веков. Покусившись из-за корыстных политических расчетов на чистоту хранимой веры, согласившись на унию с еретиками-католиками на Флорентийском соборе 1439 года, Византия утратила дар служения. Служение перешло к «третьему Риму» последних времен – Москве, столице Русского Православного царства. Русскому народу определено хранить истины православия «до скончания века» – второго и славного Пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В этом смысл его существования, этому должны быть подчинены все его устремления и силы.
Принятое на себя русским народом служение требует соответствующей организации Церкви, общества и государства. Богоучрежденной формой существования православного народа является самодержавие. Царь – Помазанник Божий. Он не ограничен в своей самодержавной власти ничем, кроме выполнения обязанностей общего всем служения. Евангелие есть «конституция» самодержавия. Православный царь – олицетворение богоизбранности и богоносности всего народа, его молитвенный предстоятель и ангел-хранитель.
Вначале XVI века, в Новгороде была создана «Повесть о белом клобуке», которая впервые обозначила содержание новой идеологической доктрины «Москва – Третий Рим». Основная мысль этого трактата состояла в том, что после падения Рима и Константинополя именно Москва должна стать центром мирового христианства и оплотом вселенского православия, куда и должен быть перенесен патриарший престол. Светскую власть такая перспектива тогда вряд ли устраивала, особенно в условиях бесконечных и ожесточенных споров между иосифлянами и нестяжателями. Видимо, именно по этой причине патриаршество в России было учреждено только в 1589 году, то есть через полтора столетия после создания автокефальной Русской Православной Церкви и падения Константинополя.
Доктрина «Москва – Третий Рим», получила дальнейшее развитие в «Посланиях» старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, адресованных великому князю Василию III, которому автор предлагал стать и главой Русской Церкви. Центральный момент в «Посланиях» монаха Филофея – особая ответственность русского царя как последнего православного монарха. Этот момент требует осмысления с учетом господствовавших в ту эпоху эсхатологических чаяний. Послания Филофея пронизаны мироощущением последних времен. Царь – защитник и хранитель истинной православной веры, и от того, как исполняет он свое служение, зависит продление или сокращение сроков миробытия. Поэтому слова «а четвертому Риму не быть» – не похвальба, а предостережение: Бог дал нам последнюю возможность; если мы не воспользуемся ею, земная история придет к концу.
Таким образом, концепция «Москва – Третий Рим» не должна рассматриваться ни как проявление мании величия, ни как обоснование «московского империализма». Куда вернее видеть в ней эсхатологически окрашенное убеждение, в основе которого лежали идеи, воспринятые из средневековой Византии. При таком подходе становится ясным, почему Филофей столь решительно настаивает на нравственном очищении Русского царства, с судьбой которого связаны судьбы вселенной, на избавлении его от всякого зла и неправды. Его послания, провозглашающие Москву Третьим Римом, полны наставлений великому князю о том, как подобает ему осуществлять свою власть.
И Филофей, и Иосиф Волоцкий видели в великом князе Московском правителя и главу царства, которого Бог поставил Своим наместником на Земле, чтобы вести вверенный ему народ к конечному предназначению – спасению во Христе. Но то же призвание и у Церкви, а поскольку Церковь и государство, царство и священство имеют общую цель, они нераздельны.
Преп. Иосиф Волоцкий говорит о необходимости постоянного соотнесения царской власти с верховным Божественным законом – единственным критерием, позволяющим отличить законного царя от тирана. Согласно Иосифу Волоцкому, главная обязанность царя как наместника Божия на земле – забота о благосостоянии стада Христова. У царя обширные полномочия, но и не меньшие обязанности перед Церковью. Он должен повиноваться ее правилам и нравственному закону Христа. Истинно православный царь праведен и усерден в исполнении своего служения, верен христианскому долгу. Подобному царю надлежит повиноваться не за страх, а за совесть, сам же он ответствен лишь перед Богом. Царь, не отвечающий таким требованиям, – неправедный властитель, слуга диавола и тиран, поэтому подданные свободны от послушания ему.
У учеников преподобного Иосифа эта идея предстает в значительно смягченном виде. Но и они, раскрывая значение «симфонии», понимают ее в том смысле, что глава Церкви призван оказывать умеряющее воздействие на царя. Понадобилось немало времени, чтобы обе роли были опробованы на практике и претерпели трансформацию. Разумеется, в идеальном теократическом государстве, предстоящем духовному взору ревнителей симфонии, отношения государя и Церкви не знают вражды, соперничества или взаимного недоверия, ибо они дополняют и поддерживают друг друга. Право печалования, т.е. ходатайства церковной иерархии перед царем за осужденных, считалось одним из способов поддерживать равновесие между Церковью и государством и тем самым сохранять чистоту веры.
В сочинениях митрополита Даниила прослеживается попытка определить положение царской власти перед Богом. Он видел царя, прежде всего, служителем и исполнителем воли Божией, так что личные его достоинства оставались вне поля зрения. В Своем «многоразличном попечении о человеческом спасении Бог устроил власти в человеческих сынах в отмщение злодеям, в похвалу же благо творящим; да аще презрит человек страх Божий, да воспомянет страх властителей земных, да боящеся земных начальств не поглатают друг друга, якоже рыбы». Поэтому земные начальства суть слуги Божии, служащие Ему всеми находящимися в их распоряжении средствами, «одних людей милуя с рассуждением, а других страхом спасая». Характерно, что главное оправдание существованию земной власти митрополит Даниил усматривал в ее превентивной и карающей функциях. Тот же взгляд обнаруживается три века спустя в «анархическом монархизме» ранних славянофилов.
117.3. Идеологическое противостояние централизованной государственной власти и боярской олигархииПроблемы политического устройства и путей развития России нашли отражение в переписке Ивана Грозного и бежавшего в 1564 году в Литву Андрея Курбского. Обвиняя царя в деспотизме и бессмысленной жестокости, князь Курбский выступает за создание государства, в котором бы центральная власть признавала права аристократии и осуществляла управление, координируя действия с духовными и земскими соборами. Главным образом, Курбский призывает считаться с родовой знатью, «сильными в государстве избранном», «воеводами». По мнению князя, именно они составляют силу Руси, их стараниями покоряются «прегордые царства» и города. Иван отвечает, что не знает, что это за «сильные», что государство держится Божьим милосердием и его государевой персоной, а не судьями и воеводами. Он самодержец, сторонник абсолютной, ничем не ограниченной монархии. «А жаловати есьмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же», – так формулирует царь Иван свое политическое кредо.



