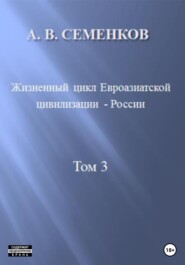 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 3
Глубокий анализ раскола русской духовно-религиозной жизни дает Н.А. Бердяев: «Ошибочно думать, как это часто раньше утверждали, что религиозный раскол XVII века произошел из-за мелочных вопросов обрядоверия, из-за единогласия и многогласия, из-за двуперстия и пр. Бесспорно, немалую роль в нашем расколе играл низкий уровень образования, русский обскурантизм. Обрядоверие занимало слишком большое место в русской церковной жизни. Православная религиозность исторически сложилась в тип храмового благочестия. При низком уровне просвещения это вело к обоготворению исторически относительных и временных обрядовых форм. Максим Грек, который был близок к Нилу Сорскому, обличал невежественное обрядоверие и пал его жертвой. Его положение было трагическим в невежественном русском обществе. В Московской России была настоящая боязнь просвещения. Наука вызывала подозрение, как «латинство». Москва не была центром просвещения. Центр был в Киеве. Раскольники были даже грамотнее православных. Патриарх Никон не знал, что русский церковный чин был древнегреческий и потом у греков изменился. Главный герой раскола, протопоп Аввакум, несмотря на некоторые богословские познания, был, конечно, обскурантом. Но вместе с тем это был величайший русский писатель допетровской эпохи. Обскурантское обрядоверие было одним из полюсов русской религиозной жизни, но на другом полюсе было искание Божьей правды, странничество, эсхатологическая устремленность. И в расколе сказалось и то и другое. Тема раскола была темой историософической, связанной с русским мессианским призванием, темой о царстве. В основу раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола. Раскольники начали жить в прошлом и будущем, но не в настоящем. Они вдохновлялись социально-апокалиптической утопией. Отсюда на крайних пределах раскола – «нетовщина», явление чисто русское. Раскол был уходом из истории, потому что историей овладел князь этого мира, антихрист, проникший на вершины церкви и государства. Православное царство уходит под землю. Истинное царство есть град Китеж, находящийся под озером. Левое крыло Раскола принимает резко апокалиптическую окраску. Отсюда напряженное искание царства правды, противоположного этому нынешнему царству. Так было в народе, так будет в русской революционной интеллигенции XIX века, тоже раскольничьей, тоже уверенной, что злые силы овладели церковью и государством, тоже устремленной к граду Китежу, но при ином сознании, когда «нетовщина» распространилась на самые основы религиозной жизни.
Раскольники провозгласили гибель московского православного царства и наступление царства антихриста. Аввакум видит в царе Алексее Михайловиче слугу антихриста. Когда Никон сказал: «Я русский, но вера моя греческая», – он нанес страшный удар идее Москвы, как Третьего Рима. Греческая вера представлялась не православной верой, только русская вера – православная, истинная вера. Истинная вера связана с истинным царством. Истинным царством должно было бы быть русское царство, но этого истинного царства больше нет на поверхности земли. С 1666 года началось в России царство антихриста. Истинное царство нужно искать в пространстве под землей, во времени – искать в грядущем, окрашенном апокалиптически. Раскол внушал русскому народу ожидание антихриста, и он будет видеть явление антихриста и в Петре Великом, и в Наполеоне, и во многих других образах»[45].
И далее Н.А. Бердяев отмечает: «Протопоп Аввакум верил в свое избранничество и обладание особой благодатью Духа Святого, он считал себя святым, целителем. Он говорил: «Небо мое и земля моя, свет мой и вся тварь – Бог мне дал». Пытки и истязания, которые вынес Аввакум, превосходили человеческие силы. Раскол подорвал силы Русской Церкви, умалил авторитет иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра. Но в расколе было два элемента – религиозный и революционный. Значение левого крыла раскола – беспоповства – в том, что он сделал русскую мысль свободной и дерзновенной, отрешенной и обращенной к концу. И обнаружилось необыкновенное свойство русского народа – выносливость к страданию, устремленность к потустороннему, к конечному»[46].
ГЛАВА 114. Процессы и тенденции развития русского языка и литературы в XVI столетии
114.1. Процессы и тенденции развития русского литературного языка в XVI столетииЯзыковая ситуация в Московском государстве в XVI–XVII веках характеризуется единством процессов, с одной стороны, расхождения форм языка, так что по мнению некоторых исследователей существовало двуязычие. И, с другой стороны, их взаимодействием и взаимопроникновением. В качестве причин расхождения между собою различных типов или жанрово-стилистических разновидностей литературно-письменного языка называют следующие обстоятельства. Во-первых, второе южнославянское влияние на официальную форму литературно-письменного языка и, происходившее одновременно с ним усиление народно-разговорных элементов в развивавшемся и обогащавшемся языке деловой письменности. Во-вторых, – различные темпы развития отдельных типов и разновидностей литературно-письменного языка. Официальная, книжно-славянская его разновидность искусственно задерживалась в своем развитии, не только продолжая хранить устарелые формы и слова, но и нередко возвращаясь к нормам древнеславянского периода. Язык же деловой письменности, стоявший ближе к разговорной речи, быстрее и последовательнее отражал все происходившие в ней фонетические и грамматические изменения. В результате к XVI веку различия между церковнославянским (церковно-книжным) и народно-литературным типом языка ощущались не столько в форме лексики, сколько в области грамматических форм.
Языковая ситуация складывалась таким образом, что подлинного двуязычия, при котором необходим перевод с одного языка на другой, в Московском государстве XVI века все же не было. В данном случае лучше говорить о сильно разошедшихся между собою стилистических разновидностях по существу одного и того же литературно-письменного языка. Если в киевский период можно выделить три основные жанрово-стилистические разновидности литературно-письменного языка: церковно-книжную, деловую и собственно литературную (или народно-литературную), – то московский период, и XVI веке в частности, имеет лишь две разновидности – церковно-книжную и деловую. Поскольку промежуточная, народно-литературная разновидность к этому времени растворилась в двух крайних разновидностях литературно-письменного языка. Таким образом, можно говорить о едином русском литературном языке, который характеризуется разнообразием языковых форм и типов или жанрово-стилистических разновидностей.
Развитие письменности сопровождалось изменением самой техники письма, приспосабливавшейся к возросшему спросу на книги и разного рода документы. Господствующим типом письма окончательно стала появившаяся в XV веке «скоропись» – беглое, ускоренное письмо.
114.2. ЛетописаниеЛетопись, как всякий другой жанр русской литературы, развивалась вместе с изменениями той среды, где ее создавали, и ею пользовались. Развивалась она как основной носитель политической и общественной мысли. К началу XVI века летопись из документа, дневника, «погодника» исторических событий, систематизированного собрания исторических материалов, своеобразного архива превращается в распространенное историческое повествование на основе активной переработки летописей предшествующего времени.
В XVI веке московское летописание, впитавшее общерусские традиции, достигло своего расцвета. Оно теперь было подчинено единому центру и единой цели – укреплению Российского государства, авторитета царской и церковной власти.
«Летописец начала царства» описывает первые годы правления Ивана Грозного, взятие Казани, реформы и доказывает необходимость установления царской власти на Руси.
Степенная книга. Тщанием митрополита Макария в Москве были собраны книжники, что способствовало расцвету книжного искусства. На этой почве возникло новое по жанру историческое сочинение – «Степенная книга», призванное сформировать стройную концепцию русской жизни. «Степенная книга» содержит расположенные по 17 степеням портреты и описания правлений великих русских князей и митрополитов, от Владимира I (Святославича) до Ивана IV. Создание этого летописного сборника приписывают митрополиту Афанасию, бывшему протопопу царской домовой церкви Благовещения. В основании этого громадного труда лежал замысел, согласно которому вся русская история со времен крещения Руси до царствования Иоанна Грозного должна предстать в виде семнадцати степеней (глав), каждая из которых соответствует правлению того или иного князя.
Лицевой летописный свод. В середине XVI века в окружении Ивана IV Грозного, и, возможно, при непосредственном участии самого царя был создан грандиозный летописный свод, отразивший новое понимание судьбы Руси, русской истории, и ее сокровенного смысла. Лицевой летописный свод (Никоновская летопись), воспринимаемый как историческая энциклопедия XVI века, представляет собой своеобразную всемирную историю от сотворения мира до середины XVI века. В нем обосновывается мысль о том, что Русь является наследницей древних монархий. Лицевой летописный свод (ЛС) освещает представления его составителей по различным проблемам от бытовых до мировоззренческих. В соответствии со значимостью, которая придавалось столь важной для национального самосознания работе, летописный свод получил самое роскошное оформление. В целом в ЛС насчитывается 10 тысяч листов, написанных на лучшей бумаге, специально закупленной из королевских запасов во Франции. В тексте размещено более 16 тысяч искусно выполненных миниатюр, изображавших историю «в лицах», за что собрание и получило наименование «Лицевого свода» (ЛС).
ЛС непревзойденный по размаху историко-литературный и художественный памятник, в котором представлена вся история человечества в виде смены великих царств. В нем была решена новая задача: соединить в единое целое изложение всемирной истории с библейских времен, через историю эллинистического Востока, древнего Рима, Византии к истории Российского государства. ЛС – совершенно новая летопись, возникшая в результате синтеза сведений из более десятка (только для русской части) источников. Компилятивное по форме произведение предстает перед читателем как новое явление своего жанра. Его характерная особенность заключается в составлении новых редакций житий, легенд, повестей, сказаний, т.е. произведений, имевших самостоятельную литературную традицию. Активное обращение к повествовательной форме изложения событий прошлого составителями ЛС превратило его в самое полное из когда-либо существовавших до того собраний летописных повестей, своего рода их антологию.
В ЛС раскрывается тема преемственности Константинополя и Москвы как мирового центра, средоточия «истинного православия»: «да нарицаешися отселе боговенчанный царь» – говорят от имени Константина Мономаха послы, возлагая корону на голову великого князя Владимира Всеволодовича.
Изложение истории Руси в русской части ЛС предстает, как повествование о пути «божественного промысла», обращенное к своим наиболее верным и последовательным приверженцам. Составители ЛС немало потрудились, чтобы доказать предопределенность исторического восхождения «государства Российского царствия», обусловленную споспешествованием небесных сил, и вечность, незыблемость его побед на предначертанном свыше пути. Главным же аргументом должна была стать идея «богоизбранности» «царства», персонифицированного в роде его государей. Руководствуясь идеей об особой роли Российского государства, составители ЛС перекроили исходный материал источников. Только род московских государей показан в ЛС ревнителем единства Российского государства, собирателем «Богом дарованного ему отечества».
Синодальный том (ГИМ, Ска., 962). 626 л., 1125 миниатюр. Содержит изложение российской истории в 1535–1542, 1553–1567 годы. Этот том подвергся существенной редакционной правке. Чья-то рука прямо на иллюстрированных листах сделала многочисленные дополнения, вставки и исправления. Новый, начисто переписанный экземпляр вошел в науку под названием Царственная книга (ГИМ, Син., 149). 687 л., 1281 миниатюра. Содержит изложение российской истории в 1533–1553 годы. На этом экземпляре та же рука сделала опять множество новых приписок и поправок. Похоже, редактором «Лицевого свода» был сам царь Иоанн IV.
Во второй половине столетия летописание исчерпало свои возможности. Стали появляться новые формы летописных произведений. Большое значение приобрели хронографы, в которых излагались события от сотворения мира до падения Византии, и раскрывалась особая роль Руси в истории христианских народов. Дальнейшее развитие получили исторические повести, в которых, как и прежде, преобладала героическая тематика: «Казанское взятие», «О хождении Стефана Батория на град Псков» и др.
Значительные изменения претерпевает литература путешествий. Развивались светские мотивы, в описание путешествий все чаще включают вымышленные сюжеты. Формируются новые жанровые разновидности путевых записок – «повести русских послов» («статейные списки», «росписи»), «отписки» землепроходцев.
114.3. Житийная литератураВ XVI веке создаются монументальные житийные своды. Жития для них специально перерабатываются, по возможности сглаживаются различия между ними, все подводится под общую государственную концепцию – обоснование государственного и церковного единства. Жития пишутся в официозном, пафосном, риторическом стиле, приподнято взволнованным старославянским языком. На период святительства всероссийского митрополита Макария, приходится расцвет жизнеописаний святых. Составленные при нем 12-томные, по числу месяцев, «Великие Четьи Минеи» – вершина развития жанра, и его зрелая канонизация. В Макарьевские «Четьи Минеи» были внесены все имевшиеся к тому времени русские жития. Самая подробная рукопись этих миней – Московского собора 1552 года в XIX веке издавалась археологической комиссией, которая, при содействии П.И. Савваитова и М.О. Кояловича, выпустила несколько томов житий за месяцы сентябрь и октябрь.
Литературно-идеологическим памятникам эпохи Ивана Грозного свойственна монументальность идеи и формы. Это относится к таким творениям, как «Великие Четьи-Минеи», «Стоглав», «Домострой» и другим памятникам. Четьи Минеи, составленные митрополитом Макарием и коллективом его многочисленных сотрудников, – это, по словам историка В.О. Ключевского, целая «энциклопедия древнерусской письменности». По его счету, в них 1300 житий, в т. ч. 40 житий русских святых, большинство которых было канонизировано на Соборах 1547 и 1549 года. Установление всецерковного чествования целого сонма русских святых около середины XVI века означало углубление исторически-церковного сознания в русском обществе, растущего интереса к отечественным подвижникам, ослабление зависимости от Восточной церкви.
Киевский митрополит Петр Могила собрал материалы, относящиеся к житиям, главным образом, южнорусских святых, а Киево-Печерские архимандриты Иннокентий и Варлаам продолжали его дело. Последний архимандрит привлек к участию в этой работе св. Димитрия, впоследствии митрополита Ростовского, который, пользуясь сборником Метафраста, Великими Четьи-Минеями Макария и другими пособиями, составил Четьи-Минеи святых всей Церкви. Отличие его труда от Великих Четьих-Миней в том, что в него вошло жизнеописание и южно-русских святых, опущенное в минеях митрополита Макария.
114.4. Публицистика. Общественно-политическая литератураНовые общественно-политические условия обусловили выдвижение на передний план новых проблем. Большое внимание в русской литературе начали уделять вопросам о самодержавной власти, месте и значении Церкви в государстве, международном положении России. Это способствовало развитию новых литературных жанров. XVI век часто называют веком русской публицистики, которая именно тогда начинает проникать и в летопись, и в «жития святых», и в деловую письменность, и в литературу, и даже в настенную живопись. В публицистической литературе нашли отражение напряженные поиски решения проблем жизни государства и общества, зарождались идеологическая и философская полемики. В центре внимания русской публицистики оказались проблемы самодержавной власти, места и роли Русской Церкви в жизни государства, положения самого государства в системе международных отношений и т.д.
Профессор И.У. Будовниц в своей работе «Русская публицистика XVI века» (1947) справедливо отметил «уныние» боярских публицистов того времени и их пессимизм в отношении будущего России. Поэтому многие из них, в частности, В. Патрикеев, Б. Беклемишев, Ф. Карпов и Г. Тушин, искренне переживая за будущее страны, оказались в лагере «нестяжателей». Большинство сочинений Ф.И. Карпова было уничтожено его идейными противниками, но все же некоторые из них, в частности, «Послания» Максиму Греку, Николаю Немчину, старцу Филофею и митрополиту Даниилу, сохранились. Во всех своих публицистических «Посланиях», автор, не углубляясь в существо чисто богословских споров, решительно возражал против ряда важнейших положений христианской догматики. В частности, он подверг резкой критике традиционный тезис церковников о «благости долготерпения», которому противопоставил «правду», «закон» и «милость», которые должны быть положены в основу мирского общежития.
Первые литературно-публицистические произведения поддерживали и обосновывали новую государственную политику. В «Сказаниях о князьях Владимирских» и в «Сказании о Владимире Мономахе» нашла свое выражение зародившаяся еще в конце XV века концепция наследственной связи русских государей с византийскими и римскими императорами. Эту идею поддержала Русская Церковь. В посланиях игумена Филофея великому князю Василию III были сформулированы основы концепции «Москва – третий Рим», ставший идеологической доктриной русского самодержавия.
Талантливый русский публицист Иван Пересветов в своих произведениях «Сказание о царе Константине», «Сказание о Магомете-Салтане» и др. изложил свою программу преобразований в стране. Идеал государственного устройства он видел в сильной самодержавной власти, опирающейся на поместное дворянство. И. Пересветов ратовал за возвышение людей по заслугам, а не по богатству и знатности. Чины и земли, по его мнению, следует давать не за знатность, а за личные заслуги. Тогда власть царя будет сильна и справедлива. Иван Пересветов подверг критике некоторые порядки в Русском государстве, в частности рабство и крепостничество. Он отметил, что «раб срама не боится и чести не добывает», поэтому только свободные люди могут заботиться о благе и славе страны.
Ермолай-Еразм – публицист, входивший в число Макарьевских книжников, полагал, что обязанностью царя является забота о подданных. Перу Ермолая Еразма принадлежит много различных сочинений, написанных по поручению митрополита Макария, который достаточно высоко ценил и ум, и литературный талант протопопа кремлевского собора Спаса на Бору: «Моление к царю», «Книга о Святой Троице», «Зрячая Пасхалия», «Поучение к своей душе» и даже светские произведения «Повесть о Петре и Февронии» и «Повесть о Василии Рязанском».
В самом известном его сочинении «Благохотящим царям правительница и землемерие» поднята проблема бедственного положения крестьян. В этом трактате он заявил, что предметом особого внимания царя должен стать крестьянский труд, на котором держится вся страна. Существующие законы и налоги разоряют пахарей. Необходимо всех их отменить и ввести продуктовую ренту, состоящую из одной пятой урожая. Однако внимательный анализ его сочинений убеждает в том, что проблема бедственного положения крестьян интересовала автора лишь в той мере, в какой она отвечала интересам самих помещиков и государства в целом. Иными словами, он проводил прямую связь между благосостоянием крестьян и их владельцев, которые, как известно, составляли костяк поместной (дворянской) конницы.
Своеобразной энциклопедией домашнего быта и моральных устоев XVI века является составленный при участии государственного деятеля времен Ивана Грозного протопопа Сильвестра «Домострой» – своего рода кодекс нравственности, определявший правила поведения человека, его обязанности в семье и обществе. Эти правила впоследствии стали классическим образцом патриархального уклада в семье. «Домострой» подчеркивал душеспасительность труда, возможность «праведного стяжательства», давал высокую по тем временам оценку женщине и т.д.
114.5. Книжное дело. Начало книгопечатанияРукописных книг в XVI веке стало значительно больше, но они по-прежнему были большой редкостью и ценностью. Достаточно сказать, что часто книга являлась вкладом состоятельных людей в монастырь и даже военным трофеем. Именно таким путем во время Ливонской войны (1558–1583) из Литвы на Русь попали многочисленные сборники, содержащие разнообразные сведения о природе – так называемые «Шестодневы».
Распространение письменности постепенно привело к вытеснению дорогого пергамента и не очень прочной бересты привозной европейской бумагой. Основным материалом для письма стала бумага, использовать которую начали еще в XIV веке. Бумагу доставляли из Италии, Франции, германских государств и Польши. Каждый сорт бумаги имел специальный водяной знак, который прямо указывал на ее происхождение. Например, для французской бумаги было характерно изображение различных фамильных и городских гербов, а для немецкой – изображение вепрей, орлов, быков и т.д.
Как правило, очень большие листы бумаги, поступавшие из-за рубежа, разрезались и склеивались в виде длинных свитков или столбцов, а иногда из разрезанной бумаги делались тетради. Из нескольких сшитых тетрадей делалась книга, которую заключали в массивную кожаную или деревянную обложку, украшенную серебряным или даже золотым окладом, бархатом и драгоценными камнями. В середине XVI века была предпринята попытка завести собственное бумажное дело в России. С этой целью на реке Уча под Москвой даже построили бумажную мельницу, однако просуществовала она недолго и через пару лет была разобрана.
В XVI веке происходил значительный рост производства рукописных книг, но они уже не могли полностью удовлетворить растущих потребностей государства и Церкви. Поэтому Иван Грозный обратился к митрополиту Макарию с предложением об организации в Москве Печатного двора, и предстоятель Русской Церкви, как гласит летопись, «зело возрадовался царьскому слову» и принял самое активное участие в организации печатного дела в стране.
Благодаря статье академика М.Н. Тихомирова «Начало книгопечатания в России» (1959) достоверно установлено, что начальной датой русского книгопечатания является 1553 год, когда была создана первая печатная книга «Триодь Постная». Затем в течение десяти лет было напечатано еще восемь книг, которые, как и первая, были анонимны, то есть в них отсутствовали сведения об авторстве, дате и месте издания.
Новый этап в развитии книгопечатания начался в 1563 году, когда на средства царской казны в Москве была построена новая типография на Никольской улице близ Кремля. Эту типографию возглавили Иван Федорович Московит (Иван Федоров) и его ученик Петр Тимофеевич Мстиславец.
Иван Федоров в 1529–1532 годы учился на богословском факультете Краковского университета и по возвращении в Москву вошел в ближайшее окружение митрополита Макария. По протекции митрополита он получил должность диакона в храме Николы Гостунского в Московском Кремле, и именно в этом качестве он и занялся организацией печатного дела в России.
В марте 1564 года из никольской типографии вышла первая, точно датированная русская печатная книга – «Деяния двенадцати апостолов» или «Апостол». В 1565 году в этой типографии была напечатана еще одна книга – «Часословец», или «Часовник». Однако на этом, вероятнее всего, просветительская деятельность первопечатника в Москве завершилась, поскольку других книг, созданных в никольской типографии, до сих пор не обнаружено.
Иван Федоров и Петр Мстиславец в 1568 году перешли в город Заблудов – родовое владение гетмана А.А. Ходасевича, где возобновили свою просветительскую деятельность. Причины их переезда в Литву до сих пор вызывают споры у историков. Большинство из них склоны объяснять это бегство из Москвы острым конфликтом первопечатников с новым митрополитом Афанасием и его ортодоксальным окружением. Однако, по мнению академика М.Н. Тихомирова, их переезд в Литву был согласован с самим Иваном Грозным, который был заинтересован в усилении влияния Русской Церкви на территории Литвы, давно ставшей полем битвы с Римско-католической Церковью.
В Заблудове первопечатники издали всего одну книгу – «Учительское Евангелие» (1569). После чего переехали во Львов, где основали новую типографию и издали ряд книг, в том числе «Псалтырь с Часословцем» (1570) и знаменитую «Азбуку» (1574). В 1578 году они вновь «подались в бега» и осели в городе Острог, во владениях князя К.К. Острожского, где прожили около трех лет, и издали еще несколько книг, в том числе «Хронологию Андрея Рымши» (1581) и «Острожскую Библию» (1581). Последние два года своей жизни Иван Федоров провел во Львове, где скончался в 1583 году и был похоронен в Онуфриевом монастыре.



