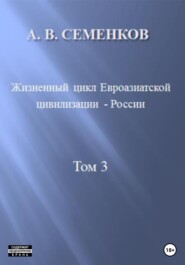 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 3
На протяжении XVII века усиливается тенденция государственного вмешательства в систему церковного управления. С XVI века установилась практика сбора государственных налогов с церковных владений Приказом Большого дворца. Там же решались и спорные судебные дела между мирянами и духовенством. Однако, как и в предшествующие периоды, государство стремилось установить собственный контроль над церковными доходами. Тем более, что в условиях после смутного разорения страны казна отчаянно нуждалась в средствах. Об этом свидетельствуют и многочисленные безвозмездные государственные займы из казны крупнейших монастырей – Соловецкого и других монастырей.
Актуальной оставалась и проблема роста церковных владений и контроля над ними со стороны государства. XVII век стал временем активизации процессов секуляризации, и обмирщения в сознании, культуре, быту. Факторами, способствовавшими развитию этой тенденции, помимо усилившегося в период Смуты иностранного влияния, нарастания социальных конфликтов «бунташного века», стали серьезные проблемы как внутри церковной организации, так и в ее отношениях со светской властью. Попытки Церкви разрешить проблемы внутреннего характера завершились крупнейшим общественным конфликтом, который существует до настоящего времени – расколом Русской Церкви и формированием движения старообрядцев. Отношения государства и Церкви в XVII веке также привели к серьезным проблемам и личному противостоянию царя и патриарха, закончившемуся низложением патриарха.
«Московское царство было тоталитарным по своему принципу и стилю. Это была теократия с преобладанием царства над священством. И вместе с тем в этом тоталитарном царстве не было цельности, оно было чревато разнообразными расколами»[39].
111.2. Служение патриарха Московского и всея Руси ИоваПатриарх Иов служил царю Федору с горячей преданностью. Получив патриарший титул из рук Б. Годунова, Иов был его последовательным приверженцем. Патриарх Иов не был человеком собственной инициативы, собственных идей и планов. Он был традиционалист и консерватор, но определенно в духе и в перспективах творческого консерватора митрополита Макария. Иов исповедовал идеологию Москва – III Рим. Он высказал ее и в своем завещании и в Повести о царе Феодоре Иоанновиче.
Когда эпопея с учреждением Московской патриархии была завершена и Уложенная грамота о ней подписана – предполагавшаяся реформа епархий была прочно забыта. До подписания грамоты Иов возвел в сан четырех митрополитов, пять архиепископов и одного епископа на вновь открытую Псковскую епархию. На этом деятельность нового патриарха по обустройству вверенной ему «отрасли Вселенского православия» замерла.
Патриарх Иов активно продолжал идти по стопам митрополита Макария, умножая славу Русской Церкви путем канонизации новых русских святых. В 1588 году он канонизировал Василия Блаженного. В 1591 году провел всероссийское празднование лишь местно чтимого Иосифа Волоколамского. Осенью 1591 года патриарх написал канон и исправил службу преподобному Иосифу Волоцкому – крупнейшему идеологу церковного стяжательства и государственной Церкви, врагу инакомыслия, которому 9 сентября соборно установлен был праздник.
Каждому из трех святителей московских – Петру, Алексию и Ионе – были установлены особые празднества, в 1595 году Иов решил вдобавок поминать их всех вместе 5 октября: святые митрополиты создавали своего рода фундамент власти Московского патриарха.
Учреждение Московской патриархии повлекло за собой изменения в структуре государственной власти. В отличие от прежних митрополитов, патриарх в урочное время участвовал вместе с членами освященного собора в заседаниях Боярской думы, на которых принимались важнейшие государственные решения. Патриарх, и приглашенные митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты и игумены московских монастырей занимали почетные после самодержца места. Мнение патриарха и духовенства выслушивалось в первую очередь. При слабом и неспособном к самостоятельному правлению государе Иов и подчиненные ему иерархи стали мощной опорой власти Бориса Годунова.
Сан патриарха позволял утвердить Иова как официально второе лицо в государстве. На патриарха ложилась тяжелая ответственность за государственные дела, он оказался не просто участником, но одной из центральных фигур ожесточенной придворной борьбы за власть. Недаром в духовном завещании Иов писал о бедах человеческих и лютых напастях, рыдании и слезах, пришедших к нему вместе со святительским саном. Так продолжалось до тех пор, пока Борис Годунов не взошел на трон. Лишь тогда патриарх «от печали свободу приях… и во благоденствии пребывах». Достигнув высшей власти, Годунов уже не нуждался в государственном использовании Иова, и освободил его от обременительных обязанностей; «зело всячески меня преупокой», – благодарно писал патриарх.
В годы Смутного времени св. Иов обличал Лжедмитрия. Патриарх доказывал, что царевич Дмитрий Иванович мертв и не воскреснет, что выдаваемый за него человек – самозванец, пригретый им, и бежавший за границу монах Григорий Отрепьев, вор-расстрига, Иов подкреплял эту версию свидетельствами. За это патриарх был схвачен в Кремлевском Успенском соборе и отправлен в ссылку – Старицкий Успенский монастырь. Там и провел свои последние годы, тяжело болея и полностью ослепнув.
«Праведным судом Божиим не стало святейшего Иова патриарха Московского и всея Руси лета 7115 (1607) месяца июня в 19 день». Тело его было погребено у церкви Успения Пресвятой Богородицы близ западных дверей с правой стороны, отпевали митрополит Крутицкий Пафнутий и архиепископ Тверской Феоктист. Над могилой архимандрит Дионисий воздвиг склеп в виде часовенки. В 1652 году мощи святителя были перенесены в Успенский собор Московского Кремля.
111.3. Служение патриарха Московского и всея Руси ГермогенаВ период правления Лжедмитрия I, Гермоген находился в Москве. Он признал самозванца царем. Похоже, что Гермоген первоначально поверил, что водворившийся в Москве Лжедмитрий – это действительно спасенный царевич. Все, что известно нам о Гермогене, не дает никаких оснований заподозрить отличавшегося исключительной честностью и смелостью святителя в каком-либо корыстном умысле. Однако в дальнейшем Гермоген с самозванцем не поладил. Казанский митрополит наряду с епископом Коломенским Иосифом в самой жесткой форме потребовал от Лжедмитрия, чтобы Марина Мнишек накануне своего венчания с самозванцем перешла в православие, причем, непременно через повторное крещение. Раздраженный Лжедмитрий выслал Гермогена из Москвы в Казань.
Будучи митрополитом Казанским Гермоген прославился своей весьма плодотворной миссионерской деятельностью среди татар и других народов Поволжья и Прикамья. При Гермогене в Казанской митрополии принимаются энергичные меры для проповеди христианства среди местных мусульман и язычников. Кроме того, Гермоген старался не допустить агрессивных действий со стороны татар-мусульман, негодующих на своих соплеменников, перешедших в православие.
Начало патриаршества Гермогена совпало с крайне тяжелым периодом российской истории. Гермоген был активным противником свергнутого самозванца и сторонником нового царя. В середине лета 1606 года, вскоре после воцарения Василия Шуйского, «самозваный патриарх» Игнатий был отрешен от сана, взят под стражу и заточен в Чудов монастырь, а митрополит Казанский св. Гермоген был избран новым патриархом Московским и всея Руси. Поставление Гермогена на патриаршество было совершено по полному русскому чину, т.е. с повторной хиротонией в Успенском соборе Московского Кремля 3 июля 1606 года. Ко времени своего избрания на патриаршество Гермоген находился в весьма преклонных летах – ему было более 70 лет.
По свидетельству современника патриарх Гермоген «бысть словесен муж и хитроречив, но не сладкогласен; о божественных же словесех всегда упражняшеся и вся книги Ветхаго Завета и Новые Благодати и Уставы церковные и Правила законные до конца извыче».
В 1606 году патриарх Гермоген начал рассылать по России свои миротворные грамоты, убеждая в них верить не сказкам, а действительным фактам. В этих грамотах были описаны обстоятельства гибели Лжедимитрия, открытие мощей подлинного царевича Димитрия и чудеса от них, воцарение В. Шуйского, «царя благочестивого и поборателя о православной вере». А вот нашлись изменники, стоящие уже в Коломенском под Москвой. В посланиях Гермогена предписывалось, чтобы духовенство многократно прочитывало темному народу эти грамоты и пело молебны о здравии и спасении Богом венчанного Государя, а не слушало воров и разбойников. Лишь постепенно служилые и торговые люди осознали гибельность призваний Болотникова, и начали снова переходить в стан царя Василия Шуйского.
После захвата Москвы поляками в 1611 году патриарх был взят под домашний арест в его палатах и окружен польским караулом. К Москве подошло 100-тысячное русское ополчение, и с пасхального понедельника началась ее осада. Салтыков и Гонсевский опять донимали патриарха под угрозой голодной смерти отдать приказ ратным русским людям отступить прочь. Гермоген неизменно повторял: «Не угрожайте, боюсь я только Бога. Если вы уйдете из Москвы, я благословлю ополчение отступить. Если остаетесь, благословляю всех стоять против вас и умереть за православную веру». Но в русском стане шли свои раздоры и свое разложение. Прокопия Ляпунова убили. Казачий вождь Заруцкий поднял опять знамя Самозванчества во имя сына Марины, еще ребенка.
В августе 1611 года Гермоген нашел пути передать свои указания. Его конспиративное письмо к нижегородцам звучит так: «Пишите в Казань к митр. Ефрему. Пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они стояли крепко за веру и не принимали Маринкина сына на царство. Я не благословляю. Да и в Вологду пишите к властям о том, и к Рязанскому владыке. Пусть пошлет в полки учительную грамоту к боярам, чтобы унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите, что сына Маринкина, отнюдь, не надо на царство. Везде говорите моим именем». Это были последние распоряжения святителя Ермогена. Он скончался 17 января 1612 года. Ослабевшее после убийства Ляпунова ополчение еще не смогло освободить Москвы и патриарха. Уже современники событий начали понимать героичность поведения святителя Гермогена.
При патриархе Никоне мощи патр. Гермогена из Чудова монастыря были перенесены в Успенский собор, где они и оставались до его канонизации в 1913 году по случаю трехсотлетия дома Романовых.
111.4. Патриарх Филарет (Романов) – правитель Руси. Аппарат управления и финансовая служба патриархииВ конце июня 1620 года отец царя, Филарет, митрополит Ростовский, находившийся до тех пор в плену у поляков, прибыл в Москву, чтобы занять пост патриарха, который для него берегли в течение семи лет. Филарет (Федор Никитич Романов 1554 или 1555–1633) был боярином, которого сделали церковным деятелем помимо его воли.
«Выстрадав в Польше восемь долгих лет, Филарет вынес из плена острую ненависть к католичеству и глубокое недоверие ко всему тому, что могло бы перенестись в Москву из области латинства. Благодаря ему чувство озлобления, порожденное или оживленное эпохой Смутного времени, перерождается уже в определенные действия, которые потом становится трудно ввести в определенные берега без острого столкновения с общественным мнением»[40]. При всяком проявлении ереси Филарет подавлял ее. Но, в то время как он систематически преследовал влияние католиков вплоть до их религиозных истоков, он никогда не принимал радикальных мер против влияния протестантов. Но это объяснялось не религиозными, а политическими и экономическими соображениями. В противовес враждебно настроенной Польше московские правители проводили политику сближения со Швецией по широкому спектру взаимоотношений.
Властолюбивый боярин Федор Никитич (в иночестве – Филарет), ставший патриархом всея Руси, превратил, в правление царя Михаила Романова, патриарший двор в средоточие как высшей церковной, так и светской власти. Как и царь патриарх Филарет имел собственные владения, и у него была своя патриаршая вотчина. Она была необыкновенных размеров, охватывая более сорока городов и простираясь от Мезени на Ледовитом океане до Путивля на границе Украины, от Брянска на западе до Вятки на востоке. Она включала города первостепенного значения, такие как Владимир, Кострома, Нижний Новгород. Позже, в XIX веке, патриаршая область была разделена на шестнадцать епархий. В мае 1625 года патриарх заставил царя особой грамотой закрепить свою юридическую власть над церквами, монастырями и церковными владениями этой огромной территории с правом судить проживавшее там население по всем делам, за исключением уголовных, и собирать все подати и оброки, какие ему будут угодны[41].
Духовный «великий государь», как вдохновитель и руководитель, стал вмешиваться в государственные дела и в них оказалось улучшение. Политический организм, расшатанный в смутное время, снова окреп и сплотил народ вокруг самодержавного светского «великого государя». Не только духовенство, но и светские лица сознавали ясно, что со вступлением Филарета в управление Церковью, и в управление самодержавное, без опеки бояр и приказных, дела пошли лучше и многие безобразия и беспорядки прекратились. По инициативе патриарха проводились важнейшие преобразования в стране: были упорядочены налоговые платежи, сокращены податные льготы монастырей, проведен учет земельных ресурсов, укреплено судопроизводство, обузданы произвол и волокита местной воеводской администрации.
Деятельность патриарха Филарета оказала значительное влияние на дальнейшее развитие Русской Церкви, закрепив непререкаемый общегосударственный авторитет ее предстоятеля. После обеспечения защиты против внешней опасности патриарх Филарет очень ясно представлял себе вторую задачу эпохи: восстановление порядка в Церкви. Для него это была, прежде всего, задача организации церковного управления.
В 1620–1626 годы патриарх Филарет провел реформу управления огромным церковным имуществом и клиром. Он занимается, главным образом, организацией епархиального управления, которое задумал по типу приказов царя.
Для заведования патриаршей областью были созданы приказы, которые затем распространили свои полномочия на земли Церкви на всей территории России. У Филарета для осуществления своей власти, которая представляла собой почти суверенное владычество, было три своих патриарших «приказа».
Наиболее важный приказ назывался Судным приказом (или, чаще, Судным разрядом) он занимался чисто церковными делами, наблюдая за дисциплиной, и судил во всех случаях, как белое, так и черное духовенство; мирян же судил в исключительных случаях, выдавал грамоты духовным лицам, получавшим рукоположение от патриарха, а также на сооружение церквей. Дворцовый приказ был создан для управления недвижимым имуществом и населением, он ведал светскими чиновниками патриарха и хозяйством его дома. Казенный приказ ведал сборами различных податей в патриаршую казну, накладываемых на духовенство и мирян, и с этой целью вел учет приходов, дворов и земель. Этот приказ, или разряд, ассигновал нужные средства на расходы и занимался общим финансовым учетом.
Персонал приказов составляли как светские, так и духовные лица. Здесь сложилась автономная служебная иерархия: патриаршие бояре, окольничие, дьяки и подьячие. Это укрепило позиции Церкви, сохранявшей высокий авторитет и обладавшей огромной материальной и военной мощью, монастырями-крепостями в стратегически важных местах. Тем не менее канонические православные представления о богоугодной природе власти исключали сколько-нибудь последовательные претензии Русской Православной Церкви и ее иерархов на светскую власть, создание теократического государства.
Филарет узаконивает и определяет размер податей. Каждый двор священника, дьякона, пономаря или просфирни вносит определенную сумму в патриаршую казну; то же самое производится в отношении земель, лугов, рыболовных тоней, пчельников, стоящих на церковной земле мельниц; опять то же самое в отношении дворов мирян, владельцев земли, будь то зажиточных или бедных, или даже вдов. Эту установленную дань все вносят обязательно, не считая особых сборов, вносимых при различных обстоятельствах «десятникам» и патриаршим дьякам. Статьи патриарших доходов были самые разнообразные: тут были и сборы за венчание и за запись новорожденных; было и особое обложение на грамоты, санкционирующие строительство новых церквей (столько-то на каждый престол), за разрешение служить священникам-вдовцам, за разрешение переходить на новый приход всем служащим церкви, начиная
от священников и кончая просфирнями, и другие. Существовала точная тарифная сетка[42].
В глазах патриарха и его чиновников, а также и городских властей, священник отнюдь не являлся посланцем Бога, облеченным сверхчеловеческими полномочиями: он был всего на всего разновидностью мужика, которого можно было и сечь, и бить[43].
Патриарх, занятый вопросами устроения духовенства и внешнего порядка, должен был интересоваться также и богослужением. Он реорганизует Печатный двор, перенесенный в 1620 году из Кремля в специальное здание. Важная задача этого периода заключалась в том, чтобы ликвидировать существующие расхождения между рукописями и печатными книгами и снабдить все приходы единообразными богослужебными текстами; этого думали добиться путем обращения к первоисточникам, то есть путем сопоставления древних славянских и даже греческих оригиналов с имеющимися книгами.
111.5. Спор царя Алексея Михайловича и патриарха Никона о верховенстве в системе государственной властиПосле смерти патриарха Иосифа на патриарший престол в 1652 году, по настоянию Алексея Михайловича, был избран новгородский владыка Никон в миру Никита Минич Минов (1605–1681). Талантливый администратор, властный и честолюбивый архиерей Никон – сын крестьянина-мордвина, сделал при поддержке царя Алексея Михайловича стремительную карьеру, от простого священника до патриарха и личного друга царя. Никон умный, властный и честолюбивый человек, притязал на ту же роль, которую присвоил себе патриарх Филарет, – в царствование Михаила Романова он фактически правил страной. О том, что на патриарший престол царь и его окружение прочили именно Никона, «любимого богомольца» и «собинного друга», свидетельствует тот факт, что царь категорически отказал в настоятельной просьбе «боголюбцев» во главе с Иваном Нероновым поставить главой Русской Церкви своего духовника Стефана Вонифатьева.
Никон уверился в самый день своего посвящения в пассивной покорности царя. Другие же должны были следовать за царем. Если и будут противники – с ними можно сладить. Во время посвящения Никона в сан в Успенском соборе Московского Кремля он неожиданно отказался от патриаршего посоха и белого клобука – главных символов верховной церковной власти. Самому царю, боярам и высшим церковным иерархам пришлось слезно, буквально на коленях, умолять любимого царского богомольца не отрекаться от патриаршего клобука. После троекратных «уговоров» и при явной поддержке со стороны царя митрополит Никон – наконец, соизволил принять патриарший посох и клобук. По сути – это был первый шаг патриарха Никона к тому, чтобы поставить духовную власть выше светской, истребовав для себя особые полномочия не только по управлению церковными, но и всеми светскими государственными делами.
В царствование Алексея Михайловича возникают противоречия между укрепившимся самодержавием и Церковью. Стремление светской власти поставить под контроль хозяйственную деятельность Церкви (создание Монастырского приказа), ограничить монастырское землевладение, судебный, фискальный иммунитет монастырей и белого духовенства встретили сопротивление церковных иерархов, патриарха Никона, отстаивавшего идею «симфонии властей». Патриарх выступал за первичность духовной власти по сравнению со светской. Являясь соправителем царя, он оттеснял на задний план Боярскую думу, а иногда и Алексея Михайловича.
Достигнув патриаршего престола, Никон не хотел заниматься исключительно духовными делами, он претендовал на роль «духовного государя» Руси. Царь Алексей Михайлович сам привык часто обращаться к нему за советами и поступать согласно его указаниям. Своевольным и надменным боярам не нравилось, что «чернец из мужиков» принимает с ними тон начальника, он больше приказывает, чем просит, ни в какие сделки не вступает и прямо дает почувствовать, что он «второй великий государь». Этот «второй государь» энергичнее, последовательнее и строже добродушного Алексея Михайловича, податливого на лесть и охотно выслушивающего придворные сплетни. Никон не стеснялся в выборе выражений и в своих действиях, если замечал несогласие, по его мнению, со святостью веры и со справедливостью царя.
В 1654 году по инициативе патриарха Никона и при активной поддержке двух Вселенских патриархов – александрийского Паисия и антиохийского Макария, чье материальное благосостояние напрямую зависело от благорасположения самого Никона и его богатой патриаршей казны, в Москве был созван новый церковный собор. Этот собор принял решение об исправлении всей богослужебной литературы по «старым харатейным русским и греческим книгам». После окончания собора Алексей Михайлович отбыл во главе русской армии на польский фронт. На время военных действий полноправным хозяином Москвы стал всесильный патриарх Никон, который, обладал таким же титулом «великий государь» (1652). Патриарх стал бесцеремонно вмешиваться в дела государственного и дворцового управления, что вызвало резкое неприятие многих членов Боярской думы, прежде всего, близких родственников царя князей Милославских.
Как человек властолюбивый и честолюбивый вскоре Никон стал называть себя «великим государем» и демонстративно подчеркивать превосходство церковной власти над светской. Он даже предложил Алексею Михайловичу стать его соправителем, как патриарх Филарет при Михаиле Федоровиче. Царь, будучи человеком глубоко религиозным, проявлял христианское терпение к патриарху. Однако своенравный характер Никона, который всячески подчеркивал верховенство духовной власти над светской, стал раздражать самого царя, отношения между ними заметно охладели. Царь демонстративно избегал общения с патриархом, перестал посещать патриаршие богослужения, и приглашать Никона на придворные приемы. Взаимоотношения между двумя «великими государями» обострились настолько, что в 1657 году Алексей Михайлович публично назвал патриарха Никона «невежой, мужиком и блядиным сыном». Открытое противостояние Алексея Михайловича и Никона произошло летом 1658 года, когда Никон в Успенском соборе Кремля в 1658 году демонстративно отказался от выполнения патриарших обязанностей и уехал из Москвы в построенный им неподалеку от столицы пышный Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Никон рассчитывал то, что царь смирит свою гордыню и будет умолять его вернуться на патриарший престол. Алексей Михайлович прохладно отнесся к этой выходке бывшего «собинного друга». В этот раз он проявил твердость характера и стал активно подыскивать новую кандидатуру на патриарший престол. В 1660 году в Москве состоялся новый церковный собор, на котором Никон был отрешен от патриаршества, но нового патриарха избрать не удалось, и местоблюстителем патриаршего престол был назначен Крутицкий митрополит Питирим.
Спустя четыре года, в декабре 1664 года Никон неожиданно для всех вернулся в столицу и из Успенского собора Московского Кремля направил царю послание, в котором заявил о своем возвращении на патриарший престол. Этот вызывающий шаг низложенного патриарха был воспринят крайне отрицательно и по требованию церковных архиереев, спешно созванных на Освященный собор самим царем Алексеем Михайловичем, Никон вынужден был покинуть столицу и вернуться в Воскресенский монастырь. После этого демарша опальный патриарх смирился со своей незавидной участью и согласился отречься от сана, но при условии сохранения за ним трех монастырей и всех «патриарших» привилегий.
Последний акт затянувшейся драмы состоялся в 1666–1667 году, когда на очередном церковном соборе с участием двух Вселенских патриархов Паисия и Макария, над Никоном состоялся суд, по решению которого он был официально лишен патриаршего сана за самовольное оставление кафедры. Он был обвинен в теократизме и повторно отрешен от сана и священства. После этого Никона сослали на север в Ферапонтов монастырь, а затем он был заточен в Кирилло-Белозерском монастыре, где опальный патриарх провел последние годы своей жизни. При царе Федоре Алексеевиче Никон был помилован и ему разрешили вернуться в Воскресенский монастырь, но по дороге в столицу, под Ярославлем в августе 1681 года бывший патриарх скоропостижно скончался.
Конфликт между царем и патриархом совпал с расколом Русской Церкви, который произошел в результате реформы патриарха Никона по приведению богослужебных книг и обрядов в соответствие с греческими образцами. Против бескомпромиссно проводимой реформы непримиримо выступили сторонники «древнего благочестия», одним из руководителей старообрядцев был протопоп Аввакум. Духовный раскол ослабил позиции Русской Церкви.



