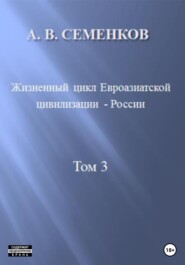 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 3
Прошло полгода со времени приезда Иеремии в Москву, прежде чем все дело установления Русского Патриаршества успешно завершилось. В Успенский собор 23 января 1589 года прибыли Иеремия и члены Освященного собора. Здесь в Похвальском приделе – традиционном месте избрания кандидатов в митрополиты, было совершено избрание кандидатов на Патриаршество. Решено было избрать трех кандидатов, на которых указали власти: Александра, архиепископа Новгородского, Варлаама, архиепископа Крутицкого и Иова, митрополита Московского и всея Руси. Наречение Иова в патриархи было произведено в царских палатах, а не в Успенском соборе, как ранее планировал Иеремия, а само поставление совершено в Успенском соборе Московского Кремля 26 января 1589 года.
Следующим шагом утверждения авторитета Московского патриархата должно было стать внесение его в Патриаршие диптихи на определенное место, соответствующее положению России, достаточно высокое. Русь претендовала на то, чтобы имя Московского патриарха поминалось на третьем месте, после Константинопольского и Александрийского, перед Антиохийским и Иерусалимским. Для этого необходимо было оформить документ об учреждении Патриаршества на Москве.
В итоге была приготовлена т.н. «уложенная грамота». Характерным моментом этой грамоты, составленной в царской канцелярии, является упоминание о согласии всех Восточных Патриархов на учреждение в Москве Патриаршества, что вообще-то пока не соответствовало действительности. Лишь после подписания грамоты обласканный и щедро одаренный царем Иеремия уехал в мае 1589 года домой. По дороге он устраивал дела Киевской митрополии, и лишь весной 1590 года вернулся в Стамбул.
В мае 1590 года в Стамбуле (Константинополе) был собран Собор. На нем предстояло задним числом утвердить патриаршее достоинство Московского Первосвятителя. На этом Соборе в Константинополе было только три Восточных патриарха: Иеремия Константинопольский, Иоаким Антиохийский и Софроний Иерусалимский. Сильвестр Александрийский был болен и к началу Собора скончался. Замещавший его Мелетий Пигас, вскоре ставший новым Александрийским Папой, Иеремию не поддерживал, а потому не был приглашен. Но зато на Соборе было 42 митрополита, 19 архиепископов, 20 епископов, т.е. он был достаточно представителен. Естественно, что Иеремия, совершивший такой беспрецедентный в каноническом отношении акт, должен был оправдывать свои совершенные в Москве действия. Отсюда его ревность в защите достоинства Русского патриарха. В итоге Собор признал патриарший статус за Русской Церковью в целом, а не за одним лишь Иовом персонально, но утвердил за Московским патриархом только пятое место в диптихах.
Учреждение в России патриаршества было признано Восточной православной церковью с полным соблюдением всех формальностей. На состоявшемся в Константинополе в феврале 1593 года Соборе Восточных Патриархов Мелетий Александрийский, председательствовавший на заседаниях, выступил за Патриаршество Московское. На Соборе еще раз со ссылкой на 28 правило Халкидонского Собора было подтверждено, что Патриаршество на Москве, в городе православного царя, целиком законно, и что в дальнейшем право избрания Московского Патриарха будет принадлежать российским архиереям.
Учреждение в России Патриаршества было очень важным деянием, в силу того, что тем самым наконец-то был окончательно исчерпан вопрос об автокефалии Русской Церкви: Константинопольский Собор признал ее законной. Но третьего места Московскому Патриарху все же не предоставили. Собор 1593 года подтвердил только пятое место Русского Первосвятителя в диптихах. Таким образом, учреждение Патриаршества в Москве завершило растянувшийся на полтора века период обретения Русской Церковью автокефалии, которая теперь уже становилась канонически совершенно безупречной.
109.3. Смутное время – период лишений и испытаний Русской ЦерквиВолна нестроений и упадка началась по смерти царя Федора 7 января 1598 года, и продолжалась еще в течение некоторого времени после избрания царем Михаила Федоровича Романова в 1613 году. Политический кризис, упадок и разруха русской государственности привели к упадку и нестроению Русской Церкви. Церковь оказалась во власти политических интриг и интриганов. Храмы служили конюшнями для лошадей; перед алтарями кормили собак; блудницы пользовались священными сосудами для обмываний; иконы осквернялись; монахинь заставляли есть мясо во время поста; священники подвергались оскорблениям и пыткам, а верующие, изгнанные в необитаемые места, умирали без исповеди. Со времени татарского нашествия Россия не переживала потрясений, подобных эпохе Смутного времени. С самого начала события приняли форму всеобщего крушения государства, Церкви, нравов и бытовых устоев, что сопровождалось ужасающей материальной разрухой. Вслед за борьбой боярских кланов за трон вскоре пошли народные восстания против бояр, усугубившиеся внутренними мятежами и вторжениями чужеземцев. Вся страна от южных границ до крупных городов на Севере, от Пскова и Новгорода до Урала, попала в этот водоворот. Оказались затронутыми все социальные группы, либо как действующие лица, либо как жертвы событий.
Всеобщность катастрофы поражала человеческие умы, ставила проблемы перед мыслителями и налагала на сознательных людей определенные обязанности. Теперь трудно представить себе, в каком опустошении находилась в то время большая часть Руси. В истории городов и монастырей эти годы характеризуются ужасными разрушениями и убийствами. По словам одного летописца, в Угличе было сожжено 12 монастырей, 150 церквей, 12 000 домов и было убито, повешено и утоплено 40 000 человек. В Спасо-Прилуцком монастыре 18 декабря 1612 года было убито 200 человек, из них 59 монахов, которых сожгли в самой трапезной; в феврале 1614 года татары, посланные на защиту остатков монастыря, опустошили его, а в 1619 году он сгорел дотла.
В сентябре 1612 года на Вологду нападают «поляки, литовцы, черкесы, казаки и русские отряды»: они убивают жителей города, оскверняют церкви, поджигают город и его окрестности. Теперь, как пишет архиепископ Сильвестр, Вологда представляет собой не что иное, как дымящиеся угли. Все это произошло из-за небрежности местного правителя Одоевского. Слишком поздно приезжает на место воевода Образцов со своей ратью; никто не повинуется, стоит сплошной грабеж. Вообще, все происходит из-за пьянства – пьянство воевод погубило Вологду.
Сама вера в Святой Руси, с гордостью провозгласившей себя преемницей Рима и Византии, была подорвана. Был такой момент, когда налицо было четыре патриарха: Иов, свергнутый Лжедмитрием; Игнатий, изгнанный после падения узурпатора; Филарет, вначале принятый царем Василием; наконец, Гермоген, законным образом принявший власть! Царь, и особенно царица, которая предалась латинской ереси, угрожали самому православию. А потом поляки заняли Москву и самый Кремль. В часы своего досуга священник Иван Савельевич Наседка, бывший свидетелем этих печальных картин и впоследствии возвратившийся в Троице-Сергиев монастырь для служения в монастырской церкви, предоставленной в распоряжение жителей взамен разрушенных приходских церквей, размышлял так: «Некогда латиняне отошли от православия, а затем все страны Запада впали в лютерскую ересь. Православие умерло и у нас на Руси, покоренной еретиками». И он в отчаянии плакал. Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиевого монастыря, писал в 1615 году: «Не было никогда еще таких бедствий и никогда не будет»
Разруха и избиения приняли еще более ужасающий характер из-за сопутствующих им обстоятельств: «русские разбойники» присоединялись к внешним врагам для нападения на своих же русских собратьев. Распространялось пристрастие к иностранным обычаям, склонность к роскоши и пиршествам даже у купцов и крестьян. Повсеместно наблюдалось аморальное поведение даже тех, которым надлежало служить примером; наблюдалось неслыханное распространение всех пороков: вероломства, лицемерия, продажности, подлости, невоздержанности, сластолюбия, себялюбия, всеобщей ненависти и скупости. Чувствовалось какое-то непостижимое сцепление преступлений и бедствий. Шли дикие казни и вместе с тем по всей Руси о невинно пролитой крови царило жуткое молчание; господствовал отвратительный, гнусный террор, при котором отец боялся разговаривать с сыном, а брат с братом. Вскоре наступил голод; везде распространено было лихоимство сильных мира сего, жадность торговцев, особенно зерном и порохом, лекарей; сами русские были чужды друг другу; шла гражданская война и совершались вторжения иностранцев; повсеместно распространялось презрение к церковным заповедям; святыня же осквернялась еретиками.
В годы смуты Церковь в целом и особенно монастыри стали одним из основных оплотов борьбы за национальное возрождение. Патриарх Филарет в значительной степени сконцентрировал в своих руках не только духовную, но и светскую власть. Он в равной степени стремился укреплять обе власти, опирался на хорошо известную в России византийскую теорию «симфонии властей». Если в XVI веке эта модель взаимоотношений была реализована в близком к поздневизантийскому варианте преобладания государства над Церковью, то в первой половине XVII века Филарету удалось в наибольшей мере приблизиться к идеалу двуединства Церкви и государства.
Общественные настроения в XVII веке пребывали под значительным воздействием церковной оценки Смуты как наказания за грехи русского народа и небрежения к православной вере. В этой связи в обществе начался подъем внешнего благочестия, выражавшегося, прежде всего, в большом количестве вкладов в монастыри. При постриге, смерти членов семьи, по завещанию в монастыри передавались значительные движимые и недвижимые имущества. Эта волна начала спадать лишь к середине XVII века, когда дворянство начало борьбу за собственные привилегии.
ГЛАВА 110. Иерархия Русской Церкви. Развитие церковной организации в патриарший период
110.1. Патриаршее управление Русской ЦерковьюЗависимость Русской митрополии от Константинополя давно была номинальной, а к концу XVI века ее в Москве вообще не признавали. Патриаршество не возвысило и не увеличило реальной власти московского первосвятителя: патриарх располагал такой же властью над подведомственной ему Церковью, как и прежний митрополит. Изменение в лестнице чинов, наименование архиепископий митрополиями и т.п. не меняло существа внутрицерковных отношении, хотя учреждение новых епархии, несомненно, укрепляло организацию Русской Церкви.
Порядок патриархов Московских и Всея Руси от учреждения патриаршества до синодального периода был таков: Иов (1589–1605), Игнатий (1605–1606), Гермоген (1606–1612), Филарет (1619/20–1633), Иоасаф (1634–1641), Иосиф (1642–1652), Никон (Минов Никита) (1652–1658), Питирим (1658–1667), Иоасаф II (1667–1672), Питирим (1672–1673), Иоаким (Иван Савелов) (1674–1690), Адриан (Андрей) (1690–1700), Стефан Яворский, местоблюститель Патриаршего престола (1700–1721).
Высшее управление Русской Церкви представлял патриарх в единении с собором высших церковных иерархов. В отличие от восточных патриархов русский первоиерарх не имел при себе постоянного собора (синода). Освященные (церковные) соборы при патриархах созывались реже, чем при московских митрополитах, но собор 1667 года принял решение о двукратном в год созыве соборов, что соответствовало каноническим правилам. В работе соборов принимали участие цари, будь то выборы патриарха или назначение других церковных иерархов, канонизация святых, церковный суд, богословские диспуты и др. Отличием от других поместных церквей было то, что архиепископы и епископы по своим властным полномочиям не отличались от митрополитов и не подчинялись последним.
Церковь имела некоторую автономию в сфере управления и суда. Это было как бы государство в государстве, возглавляемое высшими иерархами. Патриарх, митрополиты и архиепископы имели своих дворян и детей боярских, свою поместную систему, белые слободы (не облагаемые налогами) в городах, свой суд, а патриарх – высшие учреждения – приказы. Власть патриарха опиралась на церковные учреждения, особый статус монастырей, являвшихся крупными землевладельцами, на участие представителей Церкви в сословно-представительных органах власти и управления. Церковные приказы, ведавшие вопросами управления церковным хозяйством и служащие в них люди, составляли бюрократическую основу этой власти. Высший церковный орган – Освященный собор в полном составе входил в «верхнюю палату» Земского собора. Духовенство, как особое сословие наделялось рядом привилегий и льгот: было освобождено от податей, телесных наказаний и повинностей.
Прежде все дела по церковному управлению митрополиты поручали вести разным доверенным лицам. Теперь место этих лиц заступают целые учреждения – приказы наподобие царских, состоявшие каждый из боярина, дьяков и подьячих, решавших дела. Таких приказов в течение почти всего XVII века было три. Судный или разряд, заведовавший судебной частью – после 1667 года в нем образовалось отделение специально для духовного суда под именем духовного приказа, состоявшее под начальством доверенного духовного лица или судьи. Казенный, ведавший всякие церковные сборы патриарха. Дворцовый приказ, заведовавший вотчинами и домовым хозяйством патриаршего дома. К концу XVII века появился еще четвертый приказ – церковных дел – по делам церковного благочиния. По примеру патриарха стали заводить у себя приказы и другие архиереи; но в епархиях заводились обыкновенно только по два приказа – духовный для епархиального управления и суда и казенный, сосредоточивавшийся около личности архиерейского казначея.
После заключения в 1654 российско-украинского политического договора встал вопрос о переходе Киевской митрополии из-под юрисдикции Константинопольского патриарха в Московский патриархат. Такая перспектива устраивала далеко не всех иерархов. Одних беспокоила вероятность потери Украинской Православной Церковью национальных особенностей, другие больше склонялись к союзу с Польшей, третьи считали невозможным решать такие вопросы помимо воли Константинопольского патриарха. Но в 1685 году на православном соборе в Киеве Луцкий епископ Гедеон Четвертинский, при поддержке гетмана Ивана Самойловича, был избран митрополитом Киевским, который присягнул на верность Московскому патриархату. Годом позже Константинополь согласился на переход Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.
В мае 1686 году, сразу после заключения «вечного мира» между Россией и Речью Посполитой, положившего конец многовековой вражде Варшавы и Москвы за обладание исконными русскими землями, константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату. В результате чего Киевская митрополия Православной Церкви Константинопольского патриархата, созданная на территории Малороссии в 1458 году, вскоре после подписания Флорентийской унии по сугубо политическим мотивам, прекратила свое существование.
110.2. Епархиальное управлениеВ патриаршество св. Иова Русская Церковь заметно укрепилась, что отразилось в ее епархиальном устроении. Учреждение патриаршества и возвышение митрополита на степень патриарха потребовало умножения епархий и возведения некоторых из них на высшие степени. Помимо уже существовавших в Русской Церкви до учреждения патриаршества 4 митрополий, 5 архиепископий и 2 епископий, при Иове появляются 3 новые кафедры. Это было для Руси явлением весьма редким, так как иногда в продолжение нескольких столетий в Русской Церкви не учреждалось ни одной новой епархии. В 1589 году была образована Псковская епископия, в 1591 году – епископия Карельская и Орешская в 1602 году была создана Астраханская архиепископия. Новгородская, Казанская, Ростовская и Крутицкая епархии были возведены на степень митрополий. Суздальская, Рязанская, Тверская, Вологодская и Смоленская объявлены архиепископиями. Кроме того, было предписано открыть еще шестую архиепископию в Нижнем Новгороде, но в 1589 году она не была еще открыта. Число епископий положено довести до восьми, но фактически их было только 3 – старая Коломенская и новые – Псковская и Карельская. Последняя из них просуществовала лишь до 1611 года, когда Ижорская и Карельская земля были оккупированы шведами, и кафедра прекратила свое существование. Тогда же отошла к Польше одна архиепископия – Смоленская. За всю первую половину XVII века открыты были всего только две епархии – Астраханская в 1602 году и Сибирская (Тобольская) в 1620 году. При Алексее Михайловиче опять возвращена была от Польши Смоленская епархия и в 1657 году открыта новая Вятская, но зато закрыта Коломенская. На соборе 1667 года было предложено в дополнение к 13 существовавшим епархиям открыть еще до 10 епархий, увеличив при этом число митрополий до 8. На деле ограничились только восстановлением Коломенской епархии, возведением в сан митрополита архиепископов астраханского, рязанского и сибирского, открытием новой митрополии в Белгороде и переименованием в архиепископа епископа псковского. В 1672 году была открыта еще новая митрополия в Нижнем.
Против увеличения числа епархий были и патриарх, и другие архиереи, потому что это повело бы за собой невыгодное для них дробление их обширных епархий. Царь Феодор Алексеевич, ввиду сильного распространения раскола и разных церковных беспорядков, снова поднял тот же вопрос об умножении архиерейских кафедр на соборе 1682 года. Он представил собору обширный проект, по которому все епархии распределялись по митрополичьим округам, число митрополий доводилось до 12, а епископий – до 72, с подчинением епископов окружным митрополитам.
Собор иерархов постарался уменьшить планируемое число епархий с 72 до 34, потом в следующем году понизил ее еще сначала до 22, потом до 14, ссылаясь на недостаток местных средств для содержания большего числа кафедр. На подчинение же епископов митрополитам не согласился вовсе, дабы не допустить в архиерейском чине распрей и превозношения. Но после собора не были открыты и те 14 епархий, на которых он дал согласие. Были открыты только четыре: Устюжская, Холмогорская, Воронежская и Тамбовская. К концу XVII века (после возвращения Киевской митрополии под юрисдикцию Московской патриархии) на территории России находились 24 кафедры – одна патриаршая, 14 митрополичьих, 7 архиепископских и 2 епископских.
110.3. Приходская ЦерковьВ местном самоуправлении большую роль играл церковный приход, который в большинстве случаев совпадал территориально с волостью. Приходские священники назначались соответствующим епископом, но, как правило, кандидаты на вакантное место избирались прихожанами. Священнослужители (поп, дьякон) и церковнослужители (пономари, сторожа, певчие) полностью зависели от мира, который выделял земли, другие угодья, иногда материальное вознаграждение. В попы часто избирались не духовные лица, а грамотные крестьяне или посадские, в результате чего функции местных гражданских и церковных властей тесно переплетались и даже объединялись.
В Московской Руси в первой половине XVII века не существовало специальных семинарий и школ, в которых осуществлялась бы образовательная подготовка священников. Приход мог сам избирать себе священника, нередко из своей среды (известны священники, бывшие ранее земскими старостами, стрельцами, крестьянами), а для того, чтобы им стать, такому человеку нужно было лишь сдать экзамен на чтение Псалтыри. Нередко практически не обладая знаниями в области литургики и Священного Писания, такие священники не могли произносить проповеди и учить народ религиозной вере. Вызывал недовольство и их моральный облик. Судебно-следственные дела XVII века показывают, что попы были нередкими участниками драк, имущественных споров и прочих разбирательств со своими прихожанами. Общественные представления о духовенстве отразились в произведениях так называемой «городской демократической сатиры». Например, в известном сочинении середины XVII века «Калязинской челобитной» в сатирической форме передается жалоба монахов патриарху на своего игумена, который, вопреки традиции, заставляет их молиться, поститься и трудиться, запрещая пить вино и пиво.
110.4. Церковные имуществаЦерковь в Московском государстве выступала носителем духовных ценностей и национальной идеологии. Начиная со второй половины XIV века, после проведения монастырской («общежитийной») реформы митрополита Алексия, Русская Церковь превратилась в крупнейшего земельного собственника, чьи богатства, несмотря на политику жестких ограничений Ивана IV, ещё более возросли в XVI веке. Светская власть неоднократно пыталась прибрать к рукам огромные земельные богатства Церкви, но даже Ивану Грозному не удалось решить эту проблему. При нем лишь частично были ограничены налоговые («тарханные») привилегии Церкви, а также наложен жесткий запрет на свободное приобретение монастырями новых земель без доклада царю. В середине XVII века крупнейшим монастырям (Троице-Сергиев, Соловецкий, Иосифо-Волоцкий, Кирилло-Белозерский) принадлежала треть всей пахотной земли, что во многом определяло политический вес Русской православной церкви не только в церковных и религиозных, но и сугубо светских государственных делах. Однако большая часть монастырей и церковных приходов были безземельными и получали на свое содержание «царскую ругу».
Государева администрация строго следила за ограничением церковных владений: приток новых земель и крестьян в них практически прекратился. В 1584 году был принят соборный приговор об отмене податных привилегий монастырей и иерархов (тарханов). Было подтверждено запрещение расширять церковные земли путем покупок и вкладов, держать крестьян-закладчиков.
Учреждение в России патриаршества усилило притязания Русской Церкви на политическую власть. В дальнейшем эти притязания вылились в конфликты патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем, а на более широком уровне – в расколе, столкновении старых и новых политических позиций Церкви. Несмотря на ликвидацию Монастырского приказа, Церковь во все большей мере попадала в прямую зависимость от государства.
Русская Церковь в лице своих учреждений являлось субъектом земельной собственности, вокруг которой уже с XVI века разгорелась серьезная борьба. С этой собственностью было связано большое число людей: управляющих, крестьян, холопов, проживающих на церковных землях. Все они подпадали под юрисдикцию церковных властей. До принятия Соборного Уложения 1649 года все дела, относящиеся к ним, рассматривались на основании канонического права и в Церковном суде. Под эту же юрисдикцию подпадали дела о преступлениях против нравственности, бракоразводные дела, субъектами которых могли быть представители любых социальных групп. Однако, в церковном управлении и суде на епархиальном уровне не было полного единообразия, хотя оно строилось в соответствии с каноническими требованиями.
Соборное Уложение пошло в наступление на эти права. Оно установило светский суд для духовенства, лишив Церковь одной из важных статей дохода в виде судебных пошлин. В городах были конфискованы белые слободы и промыслово-торговые заведения. Это сильно подорвало могущество Церкви, ибо ей принадлежало ранее не менее 60 % всех свободных от налогов городских имуществ.
Но ещё более сильный удар по экономическому могуществу Русской Церкви был нанесен запретом передачи ей земельных вотчин, как родовых, так выслуженных и купленных. Запрет касался всех форм отчуждения (покупки, заклада, на помин души и пр.). На помин можно было дать деньги – цену вотчины, проданной на сторону или родичам. Нарушение закона влекло за собой конфискацию вотчины в государственный фонд («безденежно») и раздачу её челобитчикам – доносчикам.
Действия правительства вызвали недовольство духовенства. Патриарх Никон, претендовавший на то, чтобы сделать свое положение выше царского, называл Соборное Уложение «бесовской книгой». Начавшийся было спор с Церковью о приоритетах, и о верховенстве был разрешен в пользу государственной власти уже в XVII веке. Реформы Петра I и секуляризация церковных земель, проведенные в XVIII веке, разрушив могущество Церкви, поставили в этом споре последнюю точку.
ГЛАВА 111. Церковь и государство
111.1. Царская власть и патриаршее служениеТрадиционно православное духовенство играло важную роль в становлении и укреплении российской государственности, в превращении Руси-России в могучую мировую державу. Благодаря подвижнической деятельности ряда выдающихся церковных иерархов Русская земля освободилась от ордынского владычества и объединилась в единое централизованное государство.
По зову совести, в силу своего характера и призвания, под натиском обстоятельств патриархи оказывались на острие всех и внутренних, и внешних противоречий и конфликтов в жизни России. На долю первых патриархов Московских и всея Руси выпали трагические испытания великого разорения и Смуты – гражданской войны и интервенции начала XVII века. Нестроения и испытания Смутного времени выдвинули их в политической жизни России на первое место. Они сыграли большую роль в преодолении структурного кризиса государственности в эпоху Смуты и утверждении на московском престоле новой династии Романовых. Но как только «земля успокоилась», патриархи снова в духе Русской Церкви, не цепляясь за политику, сошли на роль смиренных царских богомольцев. Церковь, однако, по-прежнему стояла очень близко к делам государственным. Патриарх с митрополитами и епископами систематически заседал на Совете у царя. И царь выслушивает мнения патриарха и других духовных лиц раньше мнения бояр. Духовные пастыри Руси, каждый из которых был человеком государственным, с достоинством встретили «бунташное столетие» – период мощных народных восстаний, тяжких войн, стремительных жизненных перемен, укрепления и огромного расширения государства,



