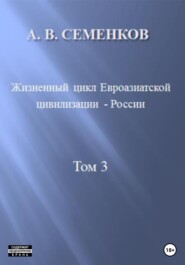 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 3
Параллельно с правительственной властью воевод на местах существовала земская власть местных общин («миров») во главе с земскими старостами, боровшихся за своё право составлять жалобы («челобитные») на действия начальства. Ряд земских миров требовал вообще «воевод вывести», оставив лишь земскую власть, подчиненную непосредственно царю.
Реформы императора Петра I в местном самоуправлении характеризуются множеством экспериментов: в 1699 году учреждается выборная «бурмистерская палата» в Москве, и также выборные «земские избы» в городах, в 1710 году учреждаются должности губернаторов, в 1713 году – коллегии «ландратов», в 1716 году губернии разделяются на «доли» во главе с ландратами, в 1719 году – на провинции во главе с воеводами. На уездном уровне учреждаются ряд должностей (земские комиссары и др.), выборные от дворянства. Эти эксперименты резко усиливают правительственную власть в ущерб власти земских миров, что приводит лишь к хаосу. Император Петр I с одной стороны, начал решительно бороться с гигантской бюрократической коррупцией. Однако, с другой стороны, земская анархия его совершенно не устраивала.
В 1708–1710 годы начался процесс преобразования системы местного управления. Начало было положено губернской реформой. Страна была разделена на 8 губерний, далеко не одинаковых по размеру территории и численности населения: Санкт-Петербургская, Московская, Смоленская, Архангельская, Киевская, Казанская, Азовская, Сибирская. В 1713–1714 годы появилось еще 3 губернии: Нижегородская, Астраханская и Рижская. Во главе губернии стояли генерал-губернаторы и губернаторы. Губернаторы сосредотачивали в своих руках высшие военные и гражданские функции, обладали исполнительной и судебной властью. В распоряжении губернатора была канцелярия. В его непосредственном подчинении находились: помощник (вице-губернатор), обер-комендант (ведал военными делами), обер-комиссар и обер-провиантмейстер (денежные и хлебные сборы) и ландрихтер (ведал правосудием). Губернии первоначально делились на «уезды» с «комендантом» (т.е. по-старому воеводой) во главе. Однако губернская канцелярия явно не справлялась со множеством уездов, и поэтому с 1715 года была введена новая, промежуточная административная единица – «провинция». Губернии теперь стали делиться на 50 провинций во главе с воеводами, которые делились на уезды, во главе с комендантами, а уезды, в свою очередь, делились на «доли» во главе с ландратом (в каждой доле по 5536 дворов). Ландрат был лицом выборным от дворян, хотя всецело подчинялся высшей инстанции. В 1719 году вместо «доль» появились «дистрикты», во главе с комиссарами, в каждом из которых теперь должно было быть 2 тыс. дворов, дистрикты просуществовавшие до 1726 года, а затем вновь были восстановлены уезды. Губерния не стала самоуправляющимся общественным союзом. Господство в губернии гражданской бюрократии (губернатор, воевода, земский комиссар) осложнилось еще господством военного полкового начальства. Под двойным давлением того и другого быстро замирали зародыши народного самоуправления. Суд был изъят из рук губернаторов и воевод и вручен выборным ландрихтерам и надворным судам.
Еще в 1702 году были отменены губные старосты и дела их переданы воеводам и выборным дворянским советам, без которых воевода ничего чинить не мог. Уездную администрацию составляли земские комиссары, писари, надзиратели; все эти чины избирались дворянством. Бюрократический элемент совершенно упразднил деятельность земских изб и привел городское хозяйство в полный упадок. Петр, «дабы рассыпанную сию храмину паки собрать», в 1721 году учредил по городам выборные магистраты, а в Санкт-Петербурге – главный магистрат, заведовавшие «не только купецкими людьми, но, яко начальство всего города, полицейскими, хозяйственными его делами и судом». Судебные функции при этом изымаются из ведения воевод и губернаторов, и передаются выборным «ландрихтерам». Все эти меры только сильнее обостряют конфликты между земской и бюрократической властями.
В 1723–1724 годы были созданы городовые магистраты для управления городов. Они состояли из президента, 2-4 бурмистров и 1-2 ратманов (секретарей). Все должности были выборными. В ведении магистратов находилось фактически все управление городом: уголовный и гражданский суд, полицейские, финансовые и хозяйственные дела. Важнейшие судебные решения магистратов передавались на утверждение надворных судов, «дабы от незнания… тяжкого определения не было». Магистратам подчинялись гильдии и цехи. В небольших городах учреждались ратуши с более простым устройством и узкой компетенцией. C 1727 года городовые магистраты были подчинены губернаторам и воеводам, их компетенции сократились. Реальная власть в управлении на местах стала принадлежать губернаторам.
Со времени Петра Iв России сложилось три системы управления на местах, которые с теми или иными изменениями просуществовали до начала ХХ века, – бюрократическая, земская и сословная. Переплетаясь друг с другом и нередко утрачивая свой первоначальный характер: органы чисто сословные выполняли обязанности по общему управлению; органы, по своему происхождению земские, по служебному положению и характеру деятельности иногда не отличались от бюрократических. Еще при жизни Петра наблюдается антагонизм между бюрократическим органами – губернаторами и воеводами, которых поддерживают коллегии, с одной стороны, и земским элементом в уездном и городском управлении и суде – с другой.
Годы правления Петра I отличаются его постоянными попытками вызвать к жизни самодеятельность населения. Однако целью таких преобразований всегда оставалось закрепощение всех его слоев различными видами налогов (их было до 60). Все общественные стремления императора подчинялись фискальным потребностям государства. Под тяжестью фискальных обязанностей пребывала и сельская поземельная община – субъект самоуправления на селе (сбор податей, поставка рекрутов). В поместьях (вотчинах), где управление основывалось на мирском (общинном) представительстве (сход крестьян, который избирал сельского старосту и его заместителей – лесных, земельных, сенокосных и т.п.), наиболее четко проявился общественный дуализм общины как орудия вотчинного управления, с одной стороны, а с другой – как орудия защиты и сохранения интересов крестьян перед землевладельцем и царской администрацией.
ГЛАВА 95.Процессы и тенденции политической динамики. Этап активного роста политической системы абсолютной монархии XVIII столетие
95.1. Расстановка сил в политическом процессеАристократический консерватизм изменил идейную основу имперского управления. Если московские цари считали власть и управление служением Богу и державе, что отразилось и в царской символике, то идеологией императорской власти, особенно во второй половине XVIII века, стало обеспечение самовластия абсолютного монарха, интересов дворянства, объявленного благородным сословием, ставшего руководящим в государственном управлении.
Необходимость считаться с общественным мнением стала неотъемлемой чертой государственной системы и легла в основу политики, получившей название «просвещенного абсолютизма». Главным отличием ее от традиционного абсолютизма являлась двойственность проводимых мероприятий. С одной стороны, правительства активно противодействовали всяким попыткам изменениям существующей системы, но с другой – были вынуждены время от времени делать частичные уступки требованиям общества.
За каждым из претендентов на престол стояла определенная придворная группировка знати. Эти группировки и выступали основными участниками политического процесса, силами, приводящими его в движение. Они боролись за то, чтобы в своих интересах осуществлять контроль над верховной властью, при этом оттеснить, и не допустить к персоне государя другие подобные группировки. Те, которые возводили на престол своего претендента, получали высшие государственные должности, привилегии и поместья. При этом борьба не прекращалась и после возведения государя на престол. Борьба шла за раздел и передел сфер влияния, за осуществление контроля над государственными ресурсами, прежде всего финансами.
Гвардия, как фактор политического процесса. XVIII век стал периодом выработки пусть и не явных, но все-таки ограничений полномочий императоров и олигархических группировок знати. Именно в этом, а не в простом переходе власти от одной кучки дворян, землевладельческой знати к другой, состоял смысл тех событий, которые вошли в историю под именем «эпохи дворцовых переворотов». Перевороты XVIII века были, в сущности, отражением претензий российского общества на участие во власти. «Логика процесса поставила гвардию на то место, которое оставалось вакантным после упразднения земских соборов и любого рода представительных учреждений, так или иначе ограничивавших самодержавный произвол, когда он слишком явно вредил интересам страны. Этот «гвардейский парламент», сам принимавший решения и сам же его реализовывавший, был, пожалуй, единственным в своем роде явлением в европейской политической истории.
Благодаря настойчивости «гвардейского парламента» во второй половине XVIII века произошла стабилизация политической системы, были выработаны новые формы взаимоотношений между монархией и обществом. Это не были какие-либо письменные взаимные обязательства в виде конституционного закона, скорее императорской властью были осознаны пределы ее возможностей, которые она старалась не переступать. Быть может, такую монархию можно было бы определить как «самоограниченную». Именно эта необходимость ограничения обусловила успешность царствования Елизаветы Петровны, Екатерины II и, напротив, неудачу правления Павла I, и, наконец, непоследовательность и противоречивость политики Александра I.
Фавориты. В аппарате государства, формой правления которого является неограниченная монархия, огромное значение имела личность самого носителя этой абсолютной монархии. Огромный ум, разносторонние знания, и железная воля Петра I обеспечили подготовку и проведение различных реформ, ведение активной внешней политики, укрепление дворянского государства. Преемниками Петра I, оказались малообразованные люди, проявлявшие подчас больше заботы о личных удовольствиях, чем о делах государства.
Закончилась петровская эпоха фанатичного служения Отечеству. Теперь на первый план все чаще выходили личные интересы, борьба самолюбий, личных амбиций правителей и их фаворитов. В этой «закрытой системе» в основном шла борьба за власть, за место на троне и возле трона. Верхи общества также устали от постоянного напряжения и окрика Петра I.
Поскольку царствующие особы, пришедшие на смену Петру, не утруждали себя повседневным попечением о государственных делах, то влияние и власть нередко получали при них отдельные близкие к ним лица – фавориты. К фаворитам переходили огромные поместья с десятками тысяч крепостных, они получали дорогие подарки и высокие государственные посты. Господствующий класс вынужден был мириться с фаворитизмом, как с одним из средств поддержания неограниченной власти слабовольных и ограниченных императриц и императоров.
Так бывшая прачка стала государыней могущественной империи. Вместе с ней к власти пришла когорта сподвижников Петра I во главе с А.Д. Меншиковым, который всегда был любимцем Екатерины I. К тому времени в его руках уже была сосредоточена огромная власть: президент военной коллегии, генерал-губернатор Петербурга, генерал-фельдмаршал, вице-адмирал, подполковник Преображенского полка. Армия, флот, основные рычаги управления страной находились в распоряжении всесильного фаворита. «Полудержавный властелин», как называл его А.С. Пушкин, при новой власти стал властелином полным. Все его прегрешения и растраты были прощены. Вслед за стремительным возвышением фаворита следует его не менее стремительное падение.
Время Анны Иоанновны иногда называют «бироновщиной». Это означает, что многие сферы управления страной были проникнуты влиянием императорского фаворита. Анна Иоанновна и Бирон на все ключевые посты в стране расставляли преданных им людей. Такими людьми зачастую становились выходцы из немецких земель, в частности из Курляндии. Сторонники Бирона образовали политический клан, в котором тесно связанные друг с другом люди были преданы своему лидеру на личной основе. В основе личной преданности находились, как правило, материальные интересы: ключевые посты в правительстве, армии, местном управлении, обеспечивающие высокие доходы. Возможность использовать служебное положение в целях обогащения – получение взяток, расхищение государственной казны.
Поначалу Елизавета Петровна старательно вникала в государственные дела, присутствовала на заседаниях Сената и даже подписала несколько важных указов. Но поскольку Елизавета, постепенно, шаг за шагом, стала отходить от каждодневной рутинной государственной работы, предаваясь все чаще и чаще всевозможного рода развлечениям. То скоро при ее дворе особо пышным цветом расцвел такой неизбежный атрибут абсолютной монархии, как фаворитизм. Фаворитом номер один стал бывший черниговский казак и певчий императорской капеллы, новоявленный фельдмаршал и граф А.Г. Разумовский. Этот совершенно беззлобный и бескорыстный человек, так же как и его пассия, был далек от государственных забот. Реальные рычаги власти были сосредоточены в руках трех самых влиятельных вельмож елизаветинского царствования – братьях Александре, Петре и Иване Шуваловых. Граф и фельдмаршал А.И. Шувалов был руководителем Тайной канцелярии. Его младший родной брат, граф П.И. Шувалов был сенатором и президентом Военной коллегии, а затем и фактическим главой русского правительства. Самый младший член этого клана, граф И.И. Шувалов, которого современники и потомки ценили за истинное благородство и удивительное бескорыстие, в 1749 году удостоился фавора и оттеснил на второй план самого графа А.Г. Разумовского. Вместе с тем, огромное влияние на императрицу и определение ее политического курса оказывали два руководителя Коллегии иностранных дел – канцлер А.П. Бестужев-Рюмин и вице канцлер М.И. Воронцов.
Екатерины всячески пыталась привлечь своих многочисленных фаворитов к управлению государственными делами. Воспитатель Павла Петровича Н.И. Панин с горячностью осудил практику, когда страной правили временщики и «припадочные люди» (так он определил фаворитов), заботившиеся не об интересах государства, а о своей личной корысти. Стоявшая над государственными учреждениями власть фаворитов, считал он, порождала множество пороков – произвол, лихоимство, безнравственность. По его мнению, при посредстве Императорского совета, и возвышением силы закона должно было положить конец проделкам «припадочных людей».
95.2. Спор о наследии Петра IЗаконом 5 февраля 1722 года Петр I отменил действовавшие до него порядки передачи престола старшему сыну или избрания царя земским собором и установил новый порядок, основанный на назначении наследника престола по личному усмотрению царствующего монарха. Петр I умер внезапно и не успел воспользоваться этим законом. После его смерти у трона началась острейшая борьба за власть, которую Н.М. Карамзин хлестко, но вполне справедливо охарактеризовал так: «пигмеи спорили о наследии Петра». В этой борьбе приняли участие две придворные группировки. Одна из них, включала ближайших сподвижников императора, как их называл А.С. Пушкин «птенцы гнезда Петрова», – А.Д. Меншиков, П.И. Ягужинский, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, А.В. Макаров и Ф. Прокопович. Опасаясь воцарения десятилетнего царевича Петра II, они сплотились вокруг вдовы покойного государя Екатерины Алексеевны. Другая, включала представителей русской родовой аристократии – князей Д.М. Голицына, В.Л. Долгорукова и Н.И. Репнина, которые, напротив, всячески настаивали на кандидатуре сына убиенного царевича Алексея. Гвардия, опираясь на силу штыков, совершила свой выбор правителя и поддержала «птенцов гнезда Петрова», и в первую очередь А.Д. Меншикова.
Преображенский и Семеновский гвардейские полки, несмотря на сопротивление некоторых вельмож, решили судьбу трона – провозгласили правительницей России Екатерину Алексеевну, которая и стала новой российской императрицей Екатериной I. С этого времени началась полоса так называемых дворцовых переворотов.
Для поддержки императрицы образован новый высший орган управления страной – Верховный тайный совет. Туда вошли семь вельмож, соратников покойного царя, во главе с А.Д. Меншиковым. Теперь без ведома и одобрения Совета не мог быть принят ни один указ в стране. Ему подчинялась деятельность коллегий. Власть петровского Сената померкла. А.Д. Меншикову и другим «верховникам», как их стали называть в правящих кругах, пришлось столкнуться с тяжелейшими проблемами. Надо было что-то делать с уставшей от постоянного напряжения, разоренной страной.
Екатерина I ненадолго пережила своего супруга. В 1727 году императрица умерла. Перед кончиной, согласно закону о престолонаследии, она назвала своего преемника. Им стал единственный оставшийся в живых Романов по мужской линии – 11-летний Петр Алексеевич, который взошел на престол под именем Петра II.
В начале сентября 1727 года по именному императорскому указу, составленному лично А.И. Остерманом, светлейший князь генералиссимус А.Д. Меншиков, лишенный всех своих вотчин, должностей, чинов и наград, вместе со всем семейством был сослан сначала в свое имение под Рязань, а затем в далекий город Березов на Оби, где прожив в нищете и забвении около двух лет, скончался в ноябре 1729 года.
Добившись преобладания в Верховном тайном совете, Голицыны и Долгорукие стали оказывать огромное негативное влияние на личность молодого императора, который, по сути, был еще совсем ребенком. Потакая самым низменным прихотям и похотям Петра II, князь А.Г. Долгорукий и особенно его «робятки» Иван и Екатерина приобрели невероятное влияние при дворе.
В период правления Петра II царь и его окружение больше развлекались, нежели занимались государственными делами. Россия, которая за последние десятилетия привыкла к сильной руке, практически оказалась без хозяина. Недаром один из иностранных наблюдателей писал о состоянии страны: «Огромное судно, брошенное на произвол судьбы, несется, и никто не думает о будущем».
Вскоре А.Г. Долгорукий, как и его поверженный визави, вознамерился породниться с императорской фамилией, выдав свою дочь Екатерину замуж за юного Петра II. В ноябре 1729 года состоялось обручение молодых, а саму свадьбу решили сыграть в начале следующего года. Но в историю опять вмешался «его величество случай»: простудившись во время любимой охоты и заболев неизлечимой черной оспой, в середине января 1730 года Петр II скоропостижно скончался, и все расчеты хитроумного временщика рассыпались в прах.
95.3. Правление Анны ИоанновныПосле кончины молодого императора члены Верховного тайного совета, обсудив различные кандидатуры на вакантный императорский престол, решили остановить свой выбор на племяннице Петра I, дочери его старшего брата царя Ивана, курляндской герцогине Анне Иоанновне. Она уже двадцать лет, после смерти своего супруга Фридриха Вильгельма, влачила жалкое существование в столице Курляндского герцогства – захолустной Митаве.
В целях ограничения самодержавной власти монарха в пользу родовой аристократии, князья Д.М. Голицын и В.Л. Долгорукий составили так называемые «Кондиции», то есть условия вступления Анны на престол. По условиям «Кондиций» Анна попадала под жесткий контроль Верховного тайного совета, поскольку без его согласия она не могла: издавать новые законы; решать вопросы войны и мира; вводить или отменять подати и таможенные пошлины; жаловать чинами и вотчинами и т. д. По мнению В.О. Ключевского «Кондиции», по сути, вводили в России «конституционно аристократическую монархию».
В феврале 1730 года герцогиня Анна подписала «Кондиции», и прибыла на коронацию в Москву. В конце февраля 1730 года во время личной аудиенции у государыни сенатор князь А.М. Черкасский, астраханский и казанский губернаторы В.Н. Татищев и А.П. Волынский и вице-президент Святейшего синода Ф. Прокопович от имени многотысячной армии российского дворянства и гвардии нижайше упросили ее восстановить самодержавную власть и полномочия Правительствующего сената. Оценив всю непопулярность «затейки верховников», Анна с превеликой радостью разодрала «Кондиции» и в начале марта 1730 года именным указом распустила Верховный тайный совет. Затем последовала скорая расправа над князьями Голицыными и Долгорукими, которых сначала сослали, а затем замучили в темницах (Д.М. Голицын, А.Г. Долгоруков) или люто казнили за государеву измену (В.Л. Долгоруков, И.А. Долгоруков).
Верховный тайный совет был ликвидирован, вместо него в октябре 1731 года при особе государыни был создан новый государственный орган – Кабинет министров, в состав которого входили только три человека. Ведущая роль в нем принадлежала беспринципному и хитрому Остерману. Был воссоздан петровский Сенат в расширенном составе. Ликвидированная после смерти Петра I Тайная канцелярия, как орган политического сыска и политических преследований противников государственной власти, вновь приступила к своей деятельности.
Императрица Анна в домашнем быту была по-старинному благочестива. Но, по словам современников, обрядовое благочестие царицы не смягчило ее черствого сердца. А хуже всего было то, что, совершенно неспособная к государственным делам, самодержица постаралась окружить себя преданными и близкими ей людьми, которым передоверила управление Россией. Из Курляндии она вызвал своего обер-камергера и фаворита Э.И. Бирона, который был хорошим знатоком лошадей, но в России не понимал, и к русскому народу относился с презрением, и к кабинету министров, заменившему прежний Верховный Тайный Совет, относился также. Он не занимал в России какого-то поста, но с тех пор постоянно находился рядом с царицей и направлял фактически все её действия.
В Кабинете большинство составляли немцы. Во главе правительства стоял «честный немец» Остерман, фанатичный приверженец петровских реформ, понятых им узколобо, в полицейско-абсолютистском смысле. Во главе армии стоял фельдмаршал Б.Х. Миних, приглашенный на службу в Россию ещё Петром I. Боясь российских дворян, Анна Иоанновна поставила выходцев из немецких земель во главе гвардейских полков. А для своей личной защиты создала ещё один гвардейский полк – Измайловский – по названию села, где она прожила значительную часть свое жизни.
Новое правительство пошло навстречу и промышленникам: старые порядки обеспечения предприятий крепостным трудом были подтверждены. Более того, Анна разрешила предпринимателям покупать к своим заводам крестьян и без земли. Сфера крепостного труда в экономике тем самым расширилась.
Некоторые изменения были предприняты в сфере местного управления. Отовсюду поступали сообщения, что «многие воеводы как посадским и уездным людям (крестьянам) чинят великие обиды и разорения… берут взятки». По указу царицы отныне воеводы должны были сменяться каждые два года и при этом отчитываться перед Сенатом о доходах и расходах. Если их управление будет признано добросовестным, то они могут на воеводстве пребывать ещё один срок. Если же контролеры обнаружат злоупотребления, то за этим следует отставка и судебное разбирательство.
В 1735 году императрица Анна вообще прекратила заниматься государственными делами. Она подписала именной указ, согласно которому подписи трех кабинет-министров приравнивались к подписи самой императрицы. Иными словами, Кабинет министров был наделен неограниченными законодательными полномочиями, и с этого момента Правительствующий сенат вновь потерял свою прежнюю роль высшего административного органа империи и стал подведомственным Кабинету органом.
Всесильным орудием Кабинета была канцелярия тайных розыскных дел во главе с генералом Ушаковым. В ней вели розыск и дознание, допрашивали и пытали людей. Тысячи невинных жертв были брошены в тюрьмы по подозрению в недовольстве правительством. Сборы недоимок с помещиков и крестьян, производившиеся военными командами, по описанию современников, были подобны «нашествиям иноплеменных». Это была эпоха лютого насилия над Россией, которая получила в истории название бироновщины. Жертвой бироновщины пали лучшие русские люди, десятки тысяч невинных людей были умерщвлены, заточены или сосланы в остроги Сибири.
На рубеже 1730–1740-х годов Россия находилась в состоянии глубокого экономического, политического и морального кризиса. Финансы страны не выдерживали расточительства двора, дорогостоящих и мало результативных войн. Ситуация обострялась в связи с созданием в стране обстановки страха, подозрительности, доносов и репрессий. Люди не доверяли друг другу. Немецкое засилье ощущалось все явственней. Все это возмущало значительную часть русской знати, не связанной с Бироном и его сторонниками, гвардейских офицеров, которым надоело подчиняться иностранным командирам.
Анна Иоанновна передала престол своим ближайшим родственникам по линии царя Ивана, а не Петра I, хотя имелись наследники и по петровской линии – его дочь Елизавета и 12-летний сын другой дочери Петра I, Анны Петровны, который также носил имя своего деда – Петр. Определившись с наследником, больная Анна никак не могла назначить регента. И только тогда, когда врач объявил ей, что её часы сочтены, она вписала в завещание имя Бирона. Именно он настаивал на кандидатуре Ивана Антоновича, поскольку только став регентом при грудном младенце, он мог сохранить свою власть.



