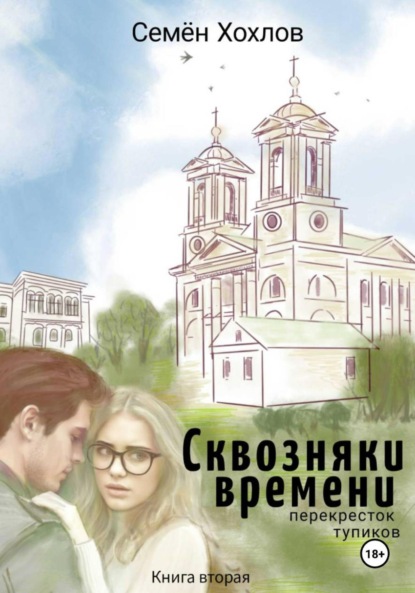
Полная версия:
Сквозняки времени. Книга вторая. Перекресток тупиков
Пробежав почти два километра, Томош догнал паровоз и полез вверх по его ступеням. Ворвавшись в кабину машиниста, он что было сил заорал:
– Тормози состав!
Должно быть, Гжечич в этот миг был очень страшен, потому что машинист почти сразу исполнил его требование. К остановившемуся составу уже сбегались легионеры чехословацкого корпуса, у некоторых в руках были винтовки. Новость об убийстве венграми Франтишека Духачека распространялась среди них со скоростью молнии.
Мало кто видел, что произошло на перроне, поэтому венгров начали выкидывать из трех последних вагонов состава. Перепуганные военнопленные уже не рисковали переругиваться с вооруженными людьми. Они стояли, сбившись в кучу, рядом со своими вагонами. Возбужденные чехи ходили вдоль насыпи и выдергивали наиболее подозрительных, сбивая их в отдельную кучу.
Когда в группе подозрительных набралось восемь человек, Томош Гжечич подскочил к ним. Рот Томоша был страшно перекошен, в руках у него была выхваченная у кого-то трехлинейная винтовка с примкнутым к ней штыком.
– Мадьярские собаки! – заорал Томош. – Всех перестреляю! Кто бросил железку?
Венгры, прячась друг за другом, вытолкнули вперед испуганного белобрысого детину.
– Как зовут?! – неожиданно тихо спросил у него Гжечич.
– Иоганн, Иоганн Малик… – пробормотал белобрысый.
Тогда Томош, коротко размахнувшись винтовкой, ткнул венгра штыком в живот, тот выпучил глаза и согнулся пополам, кто-то подбежал сбоку и вонзил второй штык. Гжечич резко выдернул штык и ударил еще раз, Белобрысый завалился на землю, на губах у него вздувались кровавые пузыри.
Со стороны станции к ним бежали красноармейцы и комендант вокзала, они размахивали винтовками и что-то кричали.
Глава 3. 1774-й
Быстро перебирая руками, Ванятка вскарабкивался по лестнице на площадку вышки на Караульной горе. С прошлой зимы, когда началось восстание башкир, управляющий Катав-Ивановского завода убрал отсюда караульный пост, чтобы зря не рисковать людьми. Теперь, когда завод находился в полуосадном положении, необходимость в дальнем карауле отпала, вместо этого приходилось доверяться многочисленным и противоречивым слухам, приходящим на завод со всех сторон.
Вот уже шесть дней Ванятка жил у бабушки Лукерьи в Карауловке, сюда его отправил отец, который наказал сыну вернуться на завод, если ему удастся разузнать что-нибудь о продвижении отрядов бунтовщиков или правительственных войск.
Несколько дней Ванятка наблюдал, как в окружающих деревню лесах в свои права вступает весна. Бабушка Луша, как ласково называл травницу внук, отправляла Ванятку за березовым соком, каждый раз подробно наставляя его, чтобы он не брал помногу сока от одного дерева и чтобы замазывал надрезы специальной глиной. Ванятка почти не удивлялся, что сделанные им надрезы на березах после бабушкиной глины быстро рубцевались – он чувствовал, что деревья в лесу любят бабушку Лушу так же сильно, как она любит и уважает их.
Вчера с утра Ванятка услыхал с закатной стороны громовые раскаты, которые звучали то реже, то чаще. При этом весеннее солнце светило не переставая и плывшие по небу облака имели безобидный молочный цвет, совершенно непохожий на цвет грозовых туч.
Бабушка вышла на улицу и начала всматриваться в ту сторону, откуда доносились раскаты. Пасшаяся неподалеку коза Зойка, увидев хозяйку, радостно заблеяла и побежала к ней. Зойка была очень привязана к бабушке и часто сопровождала ее, когда травница отправлялась в лес.
– Бабушка, что это, гром? – спросил Ванятка.
– Это не гром, касатик, – ответила бабушка, – это люди смертным боем убивают друг друга!
– Пушки! – догадался Ванятка.
– Да, не иначе, как по Сибирскому тракту бой идет! Не сегодня-завтра надо ждать гостей, пойду травки лечебной подготовлю!
Ванятка знал, что деревня Карауловка стоит в стороне от Сибирского тракта и что этой дорогой ездят только те, кому надо попасть на Катав-Ивановский завод. Ему было очень интересно, каких гостей ждет бабушка – неужели прямо сюда придут восставшие башкиры или высланные их усмирять солдаты? Весь вчерашний день он вслушивался в звуки боя, который медленно перемещался вдоль горизонта, обходя деревню.
Когда Ванятка залез и удобно расположился на площадке вышки, то почти сразу увидел, как на дорогу из леса со стороны Сибирского тракта вышли двое. Один ехал верхом, второй вел коня в поводу. По мере того как эти двое приближались к деревне, Ванятка смог рассмотреть, что они были с густыми черными бородами и при оружии. Тот, что ехал верхом, держал в руке пику. Лошадь второго сильно хромала на заднюю левую ногу, она выглядела явно измученной: то пыталась прыгать на трех ногах, то опиралась на больную ногу и при этом судорожно дергалась от боли.
Путники заметили Ванятку, конный подскакал к вышке и окликнул его:
– Эй, малец! Где у вас тут знахарка живет?
Ванятка спустился с вышки и спросил:
– Дяденьки, а вы кто? Казаки?
– Ишь, догадливый какой! – осклабился конный. – Казаки! Зиновьеву коньку вчера ногу продырявили, подлечить ее надо! А у вас, говорят, тут бабка знающая живет.
– Это бабушка моя, Лукерья Трифоновна, – подтвердил Ванятка.
– Вот-вот! – обрадовался второй казак. – Нам с Остапом как раз говорили про бабку Лукериху. Веди нас скорее к ней.
Ванятка подвел казаков к бабушкиной избе. Пока он ходил за ней в дом, ехавший на здоровом коне Остап успел стреножить своего скакуна и пустить его щипать первую зеленую травку, которая начала проклевываться под весенним солнцем. Второй казак, которого товарищ называл Зиновием, так и стоял, растерянно глядя на своего раненого жеребца.
Вышедшая из сеней травница сразу накинулась на него:
– Ну, чего стоишь? Расседлывай скорей! Аль не видишь, что он у тебя, сердешный, еле на ногах стоит!
Зиновий тут же начал снимать седло с раненого коня, его товарищ, услыхав повелительный окрик, тоже начал помогать. Обеспокоенный жеребец испуганно заржал.
Лукериха ушла в дом и вернулась оттуда с чугунком горячей воды, из которого поднимался парок. Подойдя к коню, она поставила чугунок на землю, заглянула жеребцу в глаза и погладила его по морде, отчего тот быстро успокоился. После этого знахарка достала тряпицу и, обмакнув ее в чугунок, начала бережно протирать ногу вокруг раны. На внешней стороне ладони травницы между большим и указательным пальцами были заметны три родинки, выстроившиеся в правильный треугольник.
– Ой, бабка, он у меня с норовом! Как бы не лягнул! – испугался казак.
– Ничего! Меня, небось, не обидит! – Лукериха обращалась не столько к казаку, сколько к коню. – Чем это его так ранило, пулей?
– Из ружья навылет… – подтвердил Зиновий.
– Эх, вы, воины! Промеж себя воюете, а кони от этого страдают!
Лукериха закончила протирать рану и внимательно ее осмотрела: пуля на входе пробила удивительно круглую дырочку, а на вылете вырвала кусок плоти и кожи. Все это время жеребец стоял смирно, немного вздрагивая кожей в тех местах, где старуха проводила тряпицей. Потом знахарка присела и, обхватив ногу коня, потянула ее вверх. Конь послушно приподнял ногу, а потом, следуя за движением рук старухи, опустил ее назад. Казак с удивлением смотрел, как его конь слушается эту странную бабку.
– У коня кости целы, а мясо нарастет! – сказала Лукериха. – Опять же повезло тебе, что мух еще нет, не успели они в рану нагадить!
Сказав это, бабка ушла в дом. Вскоре она вернулась, неся в руках небольшую деревянную плошку, в которой была какая-то желто-бурая кашица, травница на ходу мешала снадобье деревянной ложкой.
– Сымай исподнюю рубаху! – обратилась она к хозяину раненого коня.
– Зачем это? – испуганно спросил Зиновий, опасливо косясь на плошку с кашицей. Похоже, он подумал, что его сейчас будут этим обмазывать.
– Рану коню твоей рубахой перевяжем! – пояснила знахарка.
– Так она ведь того… Который день не стиранная! – забормотал казак.
– Ничего, ничего! Мужской пот для коня, как и конский пот для мужика, – без вреда друг другу! – успокоила его Лукериха. – Как раз твоя сила поможет быстрее рану затянуть.
Зиновий стыдливо разделся и снял нижнюю рубаху. Как он и обещал, она была не первой свежести. Старуха взяла рубаху, встряхнула ее и одним неожиданно сильным движением вдруг разорвала на две половинки: переднюю и заднюю. Остап, молча наблюдавший всю сцену со стороны, только удивленно крякнул при этом.
– Сбереги эту назавтра! – Лукериха бросила одну половинку владельцу.
После этого она взяла щепоть снадобья и начала втирать коню в отверстие раны, при этом негромко нашептывая слова:
– В полночь глухую в темном лесу
Я собирала эту траву.
Мимо и волк, и лось пробегал,
Что я там делала – он не видал.
Лунная травка нам лесом дана,
Силы она восстановит коня!
Станет быстрее ветра тот конь,
Сможет тот конь пролетать сквозь огонь.
Тверже железа эти слова,
Знают их ветер, огонь и вода.
Хозяин коня, подозревая колдовство, испуганно закрестился двумя перстами. Остап трижды плюнул через левое плечо. А конь вдруг неожиданно сильно и радостно заржал.
Закончив втирать и нашептывать, Лукериха быстро и умело перевязала рану вокруг, используя половину рубахи.
– Завтра чуть свет перевяжу конька второй раз, и сможете отправляться в дорогу, – сказала травница Зиновию. – Только завтрашний день он должен ехать без седла, послезавтра снимешь тряпицу и наденешь седло, но садиться на коня будет нельзя, а уж третий день сможешь ехать верхом.
– А переночевать пустишь нас куда? – спросил Остап.
– В сарае переночуете, – Лукериха кивнула головой на небольшое строение, – сейчас уж не холодно. Да коза у меня там живет, вы уж ее не обидьте.
Казаки согласно замотали головами, похоже, они робели и боялись ночевать в доме травницы.
Рано утром бабушка подняла Ванятку и, сунув ему в руки крынку с козьим молоком, сказала:
– Поди снеси нашим постояльцам!
Когда Ванятка подходил к сараю, то заметил, что вокруг сарая на земле прочерчена какая-то линия. Он вошел в сарай и разбудил спавших на соломе казаков. Проснувшись, они начали разминать затекшие со сна руки и ноги. Справив нужду и умывшись, казаки принялись завтракать. Хлеб у них был свой, Зиновий отломил большой кусок и протянул его мальчику.
Когда казаки почти закончили трапезу, в сарай вошла Лукериха. Пристально посмотрев на гостей, она спросила:
– От кого это вы вокруг сарая защитный круг начертили? Аль нечистой силы боитесь?
Зиновий, отведя глаза, забормотал что-то про больного жеребца.
Лукериха тем временем подошла к стоявшему тут же раненому коню, который сегодня выглядел намного лучше. Знахарка развязала рану и вынула оттуда набухшее и изменившее цвет снадобье. Сделав шаг к открытой двери сарая, она выкинула набрякший комок за угол, пробормотав:
– Ворон эту боль возьмет, воронятам отнесет!
Из-за угла сарая шарахнулась вверх какая-то темная птица, может, и вправду ворон понес в свое гнездо странную добычу.
После этого Лукериха осмотрела рану, которая за одну ночь начала затягиваться коркой. Довольно кивнув сама себе, знахарка ушла в дом и вскоре вернулась со вчерашней плошкой с кашицей.
– Остатки рубахи давай! – сказала она хозяину коня, быстро вмазывая снадобье.
Когда Зиновий подал тряпицу, Лукериха сделала аккуратную повязку. Конь при этом довольно фыркнул и ткнулся старухе в плечо. Та в ответ ласково его потрепала.
– Ну все! Можете отправляться! – обратилась она к казакам. – Помните, что сегодня конь должен ехать без седла, завтра, как снимете перевязь, – с седлом, но без ездока, а уж послезавтра сами увидите, что он готов будет.
Через полчаса казаки выезжали со двора знахарки. Выводя неоседланного коня под уздцы, Зиновий сказал:
– Не знаю, как тебя и благодарить, бабушка! Конь этот верно мне служил, и я очень боялся его потерять. Возьми вот золотой рубль! – он протянул старухе блеснувшую на утреннем солнце монету.
– Не возьму! – Лукериха отрицательно покачала головой. – Не твоя это деньга, касатик, и нечестным путем она тебе досталось.
Зиновий, казалось, и не удивился, словно ожидая такого ответа.
– Так возьми что-нибудь другое!
– Чего у тебя есть – мне без надобности, а в чем у меня нужда – у тебя сроду не было! – витиевато ответила травница. – Но однако же, коли хочешь расплатиться, то обещай мне одну вещь…
–– Какую? Сказывай! – спросил Зиновий.
– Пожалей в бою душу человеческую, над которой смерть уже крылья расправит.
Казак задумался, взвесил решение и ответил:
– Что ж, обещаю!
– Ну и ступайте, попутный вам ветер в спину! Зря никого не губите да сами живыми останьтесь!
Казаки тронулись. Остап несколько раз оглядывался, будто бы ожидая, что старуха покрестит их во след. Но Лукериха вместе с внуком провожали их молчаливым взглядом.
После обеда бабушка отправила Ванятку на лесной родник за водой. Недалеко от ее дома односельчанами был вырыт глубокий колодец, из которого можно было достать воду с помощью журавля. Почти вся деревня пила из колодца, но знахарка брала оттуда воду только для хозяйственных нужд: для того чтобы что-нибудь помыть или напоить козу. Воду же для питья и приготовления еды она предпочитала брать из лесного родника, не ленилась ходить туда даже в сильные морозы. Когда у Лукерьи гостил внук, то его постоянной обязанностью было доставлять вкусную родниковую воду.
Мальчик прошел по знакомой тропинке через околицу и начал углубляться в лес, который был наполнен звуками весны. Согретые солнцем, громко пели птицы, на кустарниках начали распускаться молодые листочки. Даже на бурых краях еловых лап появились свежие, еще светло-зеленые иголки, отчего хмурые ели казались нарядными и помолодевшими.
Ванятка увлекся всем происходящим в лесу так, что не заметил, как на тропинке появился незнакомец.
– Ой! – Ванятка вздрогнул от неожиданности.
– Здравствуй! – ответил незнакомец. – Скажи, чужие в деревне есть?
Человек был одет в военный мундир, сильно испачканный и местами рваный, на голове у него была треуголка, на левом боку в ножнах висел тяжелый палаш. Бритые когда-то щеки начали зарастать щетиной, под носом топорщились небольшие усы, внимательные глаза словно буравили мальчика.
– Ну, башкиры или казаки есть? – нетерпеливо допытывался солдат.
– Нету! – наконец ответил мальчик. – Были, но уехали сегодня.
– Башкиры?
– Нет, казаки, – ответил мальчик
– Много их было? – продолжал допытываться неизвестный.
– Двое, – ответил Ванятка.
– А чего они хотели?
– Конь у них раненый был, они к моей бабушке приезжали его лечить.
– К твоей бабушке? А она у тебя кто, знахарка? – в голосе солдата промелькнула надежда.
– Да, бабушка Луша – травница, ее все в округе знают! – с гордостью сказал мальчик. – Лукерья Трифоновна, может, слышали?
– Да, мне говорили в соседней деревне про какую-то знахарку, – солдат неопределенно мотнул головой, – А ты ее внук? Мне тебя сам Бог послал! Веди нас скорее к ней!
– А вы кто? – Ванятке самому очень хотелось узнать про этого солдата.
– Драгуны мы! Офицер у нас ранен! – солдат схватил мальчика за руку и потащил вбок от тропинки в сторону околицы. – Пойдем, пойдем, меня дядька Ефим зовут!
Идти за драгуном было трудно. Ефим мерил землю большими шагами, почти не разбирая дороги. Обутый в сапоги, он мог не обращать внимание на торчащие корни и мелкие камни. Ванятка по весеннему дню был уже без лаптей, и ему надо было выбирать дорогу, чтобы голым ступням было не так больно.
Идти, однако, было недалеко: за очередным кустом им открылась небольшая полянка – опушка леса была рядом, и сосны здесь росли не так густо. На полянке Ванятка увидел двух запряженных лошадей, на одной из них полусидел-полулежал еще один военный. Когда подошли ближе, то мальчик увидел, что мундир на военном гораздо богаче, чем на дядьке Ефиме, по обе стороны от седла были приторочены кобуры с пистолетами, на ногах у седока были шпоры.
Ванятка заглянул в лицо офицера и испугался – оно было бледным и осунувшимся, как у покойника. Лоб раненого был мокрый, волосы слиплись и частично съехали на глаза, между которыми торчал острый нос.
– Его надо скорее к бабушке! – почти выкрикнул Ванятка. – Пойдемте за мной!
Драгун отвязал от дерева поводья и повел коней за мальчиком.
– Ничего, ничего, вашбродь, сейчас мы вас доставим к знахарке! – бормотал он на ходу. – Она вас мигом…
Чего «мигом», Ефим и сам не знал, но ему надо было что-то говорить: за последние два дня мытарств после тяжелого боя он почти не спал и сам уже еле держался на ногах .
Лукериха то ли увидала, то ли почувствовала, что у нее опять гости. Выбежав из дома и бегло взглянув на раненого, она всплеснула руками:
– Как же тебя, касатик угораздило?
Ефим стал отвязывать своего раненого начальника, тот сразу начал съезжать с седла куда-то вбок. Ванятка бросился ему помогать. Потом драгун бережно стянул офицера с седла, и тот в первый раз еле слышно застонал. Вдвоем они затащили раненого в дом: дядька Ефим, пыхтя и шагая спиной, вперед нес офицера под мышки, Ванятка приподнимал за сапоги, но силенок не хватало и ноги волочились. Травница держала двери и показывала Ефиму, куда нести.
Когда Ефим и Ванятка дотащили наконец раненого до постели, травница приказала им сначала стянуть с него сапоги и штаны. Потом они с Ефимом не без труда сняли с офицера куртку, на которой были видны следы крови. Мальчик заметил, что куртка рассечена саблей.
Под курткой обнаружились следы спешной перевязки – вокруг плеча был намотан платок, весь бурый от крови. После того как Ефим и Лукериха, вспарывая набрякшую кровью ткань ножом, избавились сначала от верхней, а потом от нижней рубахи, то все увидели идущую по плечу и левой части груди глубокую рубленую рану, от которой по избе тут же пополз нехороший дух гниющего мяса. Ванятку замутило, он отшагнул назад.
– Ой, плохи дела, касатик! – Лукериха закачала головой. – Это Антонов огонь!
Глава 4. 1918-й
Лев Давыдович Троцкий сидел в своем кабинете и просматривал донесения о количестве добровольцев, вступивших в ряды Красной Армии. Два месяца назад он стал народным комиссаром по военным и морским делам и теперь делал все возможное, чтобы у молодой Советской Республики появилась дисциплинированная армия, способная противостоять контрреволюции.
Лев Давыдович каждой клеткой своего тела чувствовал, что сейчас все враги Революции не дремлют и в любую секунду могут нанести сокрушающий удар. Месяц назад во Владивостоке высадились японцы, мотивировав свои действия заботой о живущих на Дальнем Востоке соотечественниках. Противостоять японской интервенции было просто некому – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке находились лишь небольшие отряды, состоящие из воинов-интернационалистов и представителей местных советов. Узнав об этом, Германия и Австро-Венгрия потребовали ускорить вывоз своих военнопленных из Сибири. За апрель численность штыков в Красной Армии удалось увеличить со ста пятидесяти до двухсот тысяч, но для такой большой страны это была капля в море.
В любой момент могли ударить страны Антанты – бывшие союзники Российской империи. Ни Англия, ни Франция пока официально не признали Советской России, их представители ограничивались проведением консультации с народным комиссаром иностранных дел. Ситуация усугублялась тем, что на складах Архангельска и Мурманска лежали английские военные грузы, которые охранялись английскими же солдатами. Кроме того, в самом центре России находился Чехословацкий корпус, который формально подчинялся расположенному в Париже Чехословацкому национальному совету.
Семидесятитысячный хорошо вооруженный корпус представлял собой грозную военную силу, и Ленин в марте просил вывести чехословаков как можно быстрее. Тогда на переговоры в Пензу был отправлен Сталин, который, как тогда всем казалось, сумел договориться с представителями чехословаков. Многие в те дни аплодировали телеграмме этого самолюбивого грузина:
«Предложения чехословацкого корпуса считать справедливыми и приемлемыми при условии немедленного продвижения эшелонов к Владивостоку и немедленного устранения контрреволюционного командного состава. Чехословаки продвигаются не как боевые единицы, а как группа свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от покушений контрреволюционеров. Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности. В каждом эшелоне оставить вооруженную роту численностью в сто шестьдесят восемь человек, включая унтер-офицеров и один пулемет. На каждую винтовку – триста, на пулемет – тысячу двести зарядов. Все остальные винтовки и пулеметы, все орудия должны быть сданы русскому правительству в руки особой комиссии в Пензе, состоящей из трех представителей чехословацкого войска и трех представителей советской власти».
Вот только чехословаки не спешили и оружие сдавали крайне неохотно, а у Советов рабочих и солдатских депутатов на местах не было фактических рычагов, чтобы заставить их разоружиться.
У Троцкого еще была надежда воздействовать на легионеров через пропаганду. Чехи и словаки шли в корпус, чтобы бороться за независимость своих народов от гнета Австро-Венгерской империи, и их можно было зазывать в Красную Армию, бойцы которой пойдут в борьбу за свободу всех угнетенных классов всех стран. Однако, просмотрев бумаги, Лев Давыдович увидел, что агитбригадам удалось сагитировать к вступлению в Красную Армию только сто пятьдесят чехов. Похоже, идея о создании ядра новой армии вокруг Чехословацкого корпуса разбивалась о камни.
В кабинет постучали.
– Войдите! – ответил Троцкий.
– Лев Давыдович, срочная телеграмма из Челябинска! – подтянутый секретарь протянул листок с текстом.
Троцкий побежал глазами по строчкам, и его кулаки сжались так, что костяшки побелели. После самосуда чехов над одним из пленных венгров на станции Челябинска местными властями была создана специальная комиссия, арестовавшая семнадцатого мая десятерых чехов. От чехословаков в челябинский Совет была направлена делегация во главе с офицером, которая потребовала освободить арестованных, поскольку они мстили венграм за убитого в тот день прямо на перроне чехословацкого стрелка. Однако все члены делегации были разоружены и посажены под арест. Тогда командующий дивизией подполковник Войцеховский приказал своим бойцам занять вокзал Челябинска, после чего чехословацкие солдаты выдвинулись в город, освободили своих товарищей и захватили все органы власти, артиллерийскую батарею и военный склад с двумя тысячами восьмьюстами винтовками. В ближайшие дни в Челябинске должен пройти съезд членов филиала Чехословацкого национального совета и командиров чешских частей.
Лев Давыдович дважды прочитал переданное сообщение. Как бы не хотелось, но надо было докладывать Ленину. Он поднял телефонную трубку и, когда услышал на другом конце провода приглушенный картавый голос, кратко рассказал о происходящем в Челябинске.
– А я вас, товарищ Троцкий, предупреждал, что эти попытки заигрывания с чехословаками не приведут ни к чему хорошему!..
Ленин, как всегда, говорил с ним хлесткими фразами. Пятнадцать лет назад они познакомились в Европе. Владимиру Ильичу тогда импонировал этот молодой революционер, бежавший из сибирской ссылки. Троцкий поначалу проникся идеями старшего товарища и охотно занимал его сторону во время многочисленных партийных дискуссий, за это его тогда даже прозвали «дубинкой Ленина». Однако, когда социал-демократы раскололись на «меньшевиков» и «большевиков», Троцкий не пошел за Лениным и даже осмелился его критиковать, за что бывший учитель назвал его «иудошкой Троцким». После Февральской революции они примирились, а летом 1917-го произошло объединение возглавляемой Троцким партии «межрайонцев» и большевиков. В итоге Лев Давыдович фактически возглавил организацию Октябрьского переворота и стал в партии и стране вторым человеком после Ленина.
– …Я сейчас же свяжусь с Дзержинским, – продолжил Ленин, – и категорически потребую от него арестовать заместителей председателя филиала Чехословацкого национального совета Прокопа Макса и Богумила Чермака. Будут сидеть в ЧК, пока не подпишут приказ о полном разоружении всех чехословацких отрядов! Вы слышите? Они должны сдать все оружие, если хотят ехать дальше!
Приказ, о котором говорил Ленин, был подписан и отправлен по всей линии Транссибирской магистрали, однако в ответ на него от делегатов чехословацкого съезда из Челябинска пришло две телеграммы. Первая поступила прямо в ЧК для Прокопа Макса, в ней говорилось: «Съезд избрал исполком для руководства передвижением. Не издавайте приказов, они не будут приниматься во внимание». Вторая телеграмма предназначалась Совету народных комиссаров: «Советское правительство не может обеспечить свободный и беспрепятственный проезд корпуса, съезд решил оружия не сдавать».



