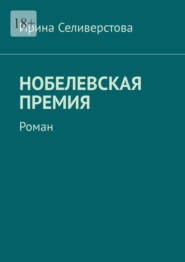скачать книгу бесплатно
– Оля очень хорошая у нас, – как-то раз ни с того ни с сего сказал матери сын.
– Да, – ответила та, – ее нельзя обижать.
– Спасибо, мам, я именно об этом.
ххх
Беременность Оли вселило в Софью Вениаминовну неистовую надежду, что ребенок, плоть от плоти и мозг от мозга сына, станет его товарищем по разуму, будет понимать его так же, как понимает она сама, заполнит ту интеллектуальную пустоту его супружества, которую пока вынуждена заполнять мать. Дети быстро растут – оглянуться не успеешь, как Юра и его сын смогут говорить обо всем, что интересно им обоим…
Когда выяснилось, что будет не сын, а дочь, Софья Вениаминовна обрадовалась еще больше – будущая внучка представлялась ей практически собственным двойником. Рядом с Юрой отныне она, мать, останется навеки – причем в виде молодой девушки, даже моложе его самого. В тот же день она сказала Оле:
– Как хорошо, что родится девочка! К ней перейдет наша кукла Алевтина, она приносит удачу всем женщинам нашей семьи.
– Да-да, – солнечно заулыбалась Оля, – вот меня, например, она уже сделала такой счастливой!
…Увы – в этот раз что-то сломалось в кукольной программе, и счастья семье Курбатовых Алевтина не принесла. Роды прошли тяжело, с обвитием пуповины и, как следствие, асфиксией новорожденной. А вскоре выяснилось, что у ребенка присутствует также тяжелая форма ДЦП и еще некоторые, не менее серьезные заболевания с трудно произносимыми названиями. Четыре месяца девочка, которую назвали Анастасией, Асей, оставалась в больнице, четыре месяца врачи не знали, выживет ли она. Софья Вениаминовна подняла на ноги всех, кого знала и кого не знала в медицинском мире, весь первый год Асю осматривали и лечили светила с мировыми именами, но в итоге сдались даже наиболее упорные. Самый оптимистичный прогноз звучал примерно так: возможность ходить своими ногами маловероятна, сохранность интеллекта практически исключена.
«Медицина развивается, – утешали врачи родителей и бабушку. – Ребенка надо наблюдать, лечить, реабилитировать. Возможно, со временем ее перспективы улучшатся…»
Было непонятно – осознает ли Оля, что случилось с ее дочерью? Молодая мать целыми днями ходила потерянная, словно погруженная в какую-то маслянистую жидкость, замедляющую каждое движение; механически делала все необходимое по дому и по уходу за ребенком; ее канареечный щебет больше не был слышен. Но иногда вдруг оживала, возбуждалась и говорила о будущем девочки, как если бы та была здорова: «Вот когда Асечка пойдет в школу…» «Надо будет Асечке купить велосипед…»
Юра только зажмуривался, когда слышал такие речи, а Софья Вениаминовна однажды осторожно сказала невестке:
– Какой велосипед? Ася больна, она даже на ноги встать не сможет…
– Зачем верить в плохое? – мягко укорила ее Оля. – Врачи говорят, что все еще может измениться, изобретут лекарства, и тогда Ася поправится, и будет бегать, и играть, как все дети!
Когда Юра услышал это, тревога за жену немного отпустила его: она не сходит с ума, она просто действительно до конца не понимает… Не понимает – и слава богу, так ей значительно легче.
…Ася родилась в мае 1991, а через полгода институт, где работал Юра, перестал получать финансирование. Вернее, финансирование вроде бы сохранялось, но было урезано настолько, что грандиозное учреждение стало напоминать задыхающегося человека, который получает кислород столь малыми дозами, которые позволяют ему всего лишь не умереть окончательно. Этот научный гигант, даже внешним обликом своего, словно вырубленного из скалы здания производивший впечатление нерушимости и вечности человеческой мысли, стал рассыпаться, словно бетон его стен внезапно превратился в песок. Здание казалось теперь уже не монументальным и внушительным, а мрачным и безнадежным, как тюрьма. Лаборатории с каждым днем становились все более безлюдными – сотрудники, не получающие зарплату, были вынуждены уходить, искать работу там, где за неё платили. Сами разработки, которые прежде велись в институте, тоже захирели в отсутствии денежной подпитки, как в засуху вянут и погибают всходы растений.
Среди тех немногих, кто зарплату еще получал – урезанную многократно, недостаточную для выживания, но все же хоть какую-то – был и завлаб Юрий Курбатов. Впрочем, он ходил бы в институт и бесплатно: дело, которым он занимался, не могло быть остановлено, иначе остановилась бы и его, Юрина, жизнь. Он трудился над завершением своей докторской диссертации с исступлением, хотя работа шла все медленней и неуверенней – уволились младший научный сотрудник и лаборант, помогавшие ему, не хватало материалов, выходили из строя приборы и оборудование, а на новые и даже на ремонт старых не находилось средств. Юра продолжал работать фактически на коленке, полностью уйдя в теорию и отказавшись от необходимых испытаний и исследований. Он понимал, что так нельзя, что в таких условиях диссертация никогда не будет закончена, но другого выхода все равно не было, он замещал отсутствие лабораторной базы одержимостью своих умственных атак, и его прежнее наслаждение процессом приобретало теперь какой-то мазохистский оттенок.
Между тем дома денег требовалось все больше и больше. Нужды больного ребенка вытягивали их из кошелька подобно мощному пылесосу. И после работы в институте у Юры начиналась вторая, а подчас и третья смена. Сперва он пытался подрабатывать, читая лекции в вузе, но эти заработки оказались такими же смешными, как и оплата его основного труда, и очень мало помогали агонизирующему семейному бюджету. Вскоре Курбатов понял, что его выдающиеся способности не стоят практически ничего, и заработать он может только грубым физическим трудом.
Каждый вечер он шел на строительный склад, куда привозили оптовый товар для дальнейшей отправки по магазинам. В этом гулком месте, наполненном грохотом сгружаемых ящиков, напоминающим нескончаемые одиночные выстрелы, выдающийся ученый, без пяти минут доктор наук Юрий Курбатов трудился грузчиком. Здоровье молодости и мускульная мощь, которая непонятным образом содержалась в его худощавом теле, позволяли ему таскать ящики со стройматериалами до глубокой ночи. А на следующее утро снова идти в институт.
Правда, по возвращении домой у него подчас не оставалось сил даже просто принять душ. Чистоплотный Юра не мог обойтись без этого, и однажды Софья Вениаминовна нашла его уснувшим прямо в ванной, свернувшегося калачиком под льющимися струями воды…
В редкие свободные минуты он кормил с ложечки Асю, делал ей массаж, читал сказку – не теряя надежды увидеть в глазах дочки проблеск сознания, или выкатывал ее кресло на балкон и обустраивал над ним навес так, чтобы солнце не светило в лицо… И ещё он обязательно находил время подержать за руку Олю, погладить ее по голове – в эти минуты её потухшие глаза оживали и становились почти веселыми. Муж и жена почти перестали разговаривать, и это парадоксальным образом сближало их.
Юра работал много, очень много, но денег все равно недоставало. Так продолжалось до тех пор, пока немолодой грузчик строительного склада, Васильич (в прошлой жизни тоже сотрудник научно-исследовательского института), пожалел парня. Услуга, которую он оказал ему, была поистине бесценной, хотя сперва смутила и озадачила Юру.
– Копать ямы под могилы на кладбище?.. – оторопел он. – Извини, но это вряд ли…
– Ты дурак, Юрец, или прикидываешься? – Васильич сплюнул на землю и зачем-то постарался носком ботинка присыпать пылью свой плевок. – Всего за пару похорон в день получишь столько же, сколько здесь за неделю! А в твоем институте – за три месяца, наверное. Ты что, думаешь, на эту работу мало желающих? Это блатное место, я сам туда чудом попал, зятя еще удалось своего пристроить – знаешь, как он рад был! Просто сейчас один из могильщиков заболел крепко, не сможет больше работать, вот место и освободилось.
– Копать могилы… – снова задумчиво повторил Юра, словно пытаясь осознать суть этого занятия.
– Могилы, и что? Это постыдное что-то, не пойму? Не тебе в твоем положении выпендриваться… Жаль мне вас, что с дочкой такая беда, вот и хочу помочь, а то б кого из хороших друзей туда устроил… И главное – ведь это же работа не на каждый день, ты и там можешь работать, и на базе продолжишь грузить. А в сумме по всем заработкам вполне нормальные деньги выйдут.
– Да, конечно, спасибо, Васильич! – опомнился Юра. – Только можно я буду по выходным – мне ж по будням в институт надо…
– Устроим, думаю. Но вообще могилу чаще ночью копают, чтоб к утру готова была, так что, если захочешь, сможешь не только в выходные. А опускать гроб и забрасывать его землей могут и другие, договоришься с ребятами, если нужно будет. Хотя, если дождь, и может размыть яму, тогда копают перед самым захоронением…
Васильич принялся посвящать парня в тонкости новой профессии, а тот слушал и не понимал – с ним ли это все происходит, или он просто смотрит какой-то глупый, злой, неправдоподобный фильм?
ххх
Прежняя жизнь, которая у Курбатова была ранее, и к которой некая сила, часто именуемая судьбой, толкала его с детства, лишь однажды робко поцарапалась в дверь. Но, как выяснилось, лишь для того, чтобы похоронить всякую надежду на возможность её возвращения – точно так же, как сам Юра хоронил покойников на кладбище.
Вузовский однокашник Серега Липкин, ранее приятельствовавший с Курбатовым, позвонил и предложил встретиться по очень важному делу. Юра не сомневался, что Липкину понадобился какой-то совет по научной части, и назначил встречу возле своего института, в обеденный перерыв.
– Мог бы и сам подъехать ко мне, – сверкнул белозубой улыбкой Серега. – У меня ведь к тебе очень заманчивое предложение, вернее сказать, такое, от которого ты не сможешь отказаться! Да ладно, ничего, я не гордый…
…Серегино предложение показалось Юре прекрасным и нереальным, как северное сияние. Суть его заключалась в следующем. Их общий знакомый, учившийся в том же вузе, но на другом факультете, сейчас работает в Америке, в штате Техас, в научном институте города Остин. Разработок этот институт ведет немерено, поэтому там нужны талантливые ученые. Этот знакомый и сослужил Сереге добрую службу, рассказав о нем руководству института. В результате Липкина пригласили поучаствовать в паре конференций, он произвел хорошее впечатление, и теперь американцы готовы предоставить ему лабораторию, зарплату и жилье.
И вот теперь, несмотря на хлопоты, связанные с отъездом, Серега, в свою очередь, вспомнил о Курбатове и захотел ему помочь. А заодно заработать очки в глазах своего нового начальства.
– По твоей части там тоже есть много всякого разного. Могу составить протекцию. Ты же пропадаешь здесь…
Липкин пояснил, что с Юрой, в отличие от него, все будет несколько сложнее – ведь разработки Курбатова имеют гриф секретности, причем наивысший, поэтому его имя в Штатах никому не знакомо, по той же причине доставить и продемонстрировать его исследования американцам пока тоже невозможно.
– Да и сам ты, Юр, невыездной, но это дело поправимое, имея связи сейчас все можно разрулить, а у меня они есть, я помогу. Переправим тебя за океан хоть чучелом, хоть тушкой, уже сейчас имеется пара идей, как это сделать… В Остине первое время поживешь у меня, познакомлю тебя с их разработчиками, ты им какую-нибудь работенку сделаешь – они охренеют! Быстро поймут, чего ты стоишь. Дадут тебе и лабораторию, и деньги, и сотрудников. А оборудование – ты даже представить себе не можешь, какое в этом институте оборудование!
– Скажи, ты правда думаешь, что это всё возможно? – спрашивал его Юра, теребя часы на своей руке, что случалось с ним в минуты наибольшего волнения, и в конце концов сломав их дешевый пластиковый браслет. – Спасибо тебе, я, честно говоря, не верю даже. Вряд ли это получится, конечно, но все равно спасибо.
– Да чего там не верю, всё вполне реально, всё получится! Главное, не сомневайся и не ссы. Ты ж гений, Юрк, там тебя на руках носить будут! И спасибо мне не нужно говорить – я это делаю не только для тебя, но и ради себя тоже. Мои статус и авторитет точно повысятся, если я им такого специалиста подгоню…
Они говорили долго, может, два часа, может, еще больше – Юра потерял счет времени. Когда он, наконец, опомнившись, помчался к себе в лабораторию, сердце его колотилось где-то в районе миндалин.
Неужели? Неужели!..
Жизнь – та, которая уже давно представлялась какой-то выдуманной грезой, – она всё еще реальна? И, вероятно, перед ним откроются возможности, даже превышающие всё то, что он раньше предполагал?.. Курбатов читал много отчетов и докладов об исследованиях, которые велись в США, и каждый раз изумлялся условиям и ресурсам, имевшимся у тамошних ученых. Неужели теперь в таких же условиях сможет работать и он сам? Взаправду? Да что ж такое, надо немного успокоиться, а то ведь, наверное, вот так кондрашка с людьми и случается… Но ведь если у него в распоряжении и впрямь будет та исследовательская база, о которой говорил Серега, то он сумеет совершить настоящий прорыв, и тогда Нобелевка, о которой его друзья скорей шутили, и в самом деле окажется вполне возможной…
Несмотря на закружившие голову честолюбивые мечты, в тот вечер он всё равно пошел на склад грузить стройматериалы – и потому, что чувствовал ответственность, и по причине неспособности сразу поверить в открывшееся перед ним фантастическое будущее. Он бежал сквозь встречный поток людей, ловко проскальзывая между ними как между струями дождя, и это казалось ему таким естественным, будто он – ветер, который не может ни споткнуться, ни остановиться по чьей-либо воле, кроме своей собственной. На складе он не чувствовал тяжести ящиков и мешков, ощущал себя Гераклом, который отныне может все, абсолютно все. Мир стал другим, и сам Юра в одночасье стал другим – не просто сильным, умным, талантливым, как раньше, а всемогущим.
– Ты нажрался, что ли, Юрец? – недоверчиво спросил его Васильич. – Или температуришь? Или прожектор проглотил? Тобою же можно весь ангар осветить…
ххх
Нет, разумеется, о семье Юра подумал первым делом, как только до него дошла суть сформулированного Липкиным светопреставления. Он сразу спросил: а как же Оля с Аськой?
– У Оли с Аськой тоже наконец-то появится перспектива человеческой жизни, – рассудительно объяснил Серега. – Сперва ты, конечно, поедешь один, они побудут какое-то время в Москве, а ты, как только начнешь работать в Остине, сможешь им нормальные деньги присылать. Сам подумай, насколько у них жизнь легче станет, – всякие няни, помощники, лекарства-тренировки, все это станет по карману, без ограничений. Ну, а потом, как легализуешься, обустроишься, так и их перевезешь к себе. Думаю, через пару-тройку лет, не позже. Дочке твоей в Америке хорошо будет, там все условия для инвалидов есть, к ним как к обычным людям относятся. А здесь что ее ждет?
Серега говорил так убедительно, что склизкий червь сомнения, неприятно шевельнувшийся в Юриной душе, быстро затих. И коварно помалкивал до тех пор, пока Курбатов не переступил порог своей квартиры, вернувшись после смены на складе.
Оля, как всегда, ждала его, несмотря на поздний час. Едва скинув куртку, не обращая внимания на ужин, остывающий на кухонном столе, он принялся взахлеб рассказывать ей о невероятном будущем, которое их ждет. И в своем лихорадочном возбуждении не сразу заметил, что жена не только не разделяет его энтузиазма, но с каждым словом глаза у ней становятся все прозрачней и огромней. На небесную безмятежность взора сперва набежало облачко, затем в глазах заколыхалось, будто в водную гладь бросают камешки. Влага не выливалась наружу, она дрожала меж ресниц.
– Сколько, ты говоришь, тебя не будет, – повторила Оля то единственное из его рассказа, что по-настоящему впечатлило её, и во что она никак не могла поверить. – Два-три года?
Он попытался что-то объяснить про деньги, которые станет присылать, про нянь и помощниц, про то, что он постарается забрать их с дочкой как можно быстрее… но даже сам почувствовал, как неубедительно звучат эти слова. А Оля их словно и не услышала.
– Два-три года? – повторила она. – Мы будем жить без тебя два-три года?
И вцепилась в его руку так крепко, что Юра понял – никакой Америки, никакого прекрасного будущего и никакой Нобелевской премии у него не будет. Никогда.
…Через несколько дней, поутру, когда кладбищенские труженики готовились опускать гроб в свежевыкопанную, подготовленную с ночи могилу, они увидели в ее глубине человека, лежавшего ничком на дне. Когда его вытащили, оказалось, что это рабочий кладбища Юрий Курбатов.
ГЛАВА 4
Одновременно с деньгами в повседневную жизнь ворвался и старая как мир, но практически незнакомая недавним советским людям дихотомия «любовь и деньги». Легче всего корреляцию двух этих явлений поняли самые молодые, которые, вне зависимости от пола, быстро осознали, что сексуальная привлекательность женщины имеет определенную цену, а привлекательность мужчины напрямую связана с его материальным положением. Классический образ «малинового пиджака» лишь позже стал вызывать иронию, поначалу же воспринимался благоговейно и казался символом достижения высшей ступени мужского пьедестала почета, примерно, как в прежние времена – статус космонавта или хоккейного чемпиона.
А вот тем, кто был немного постарше, освоить эти внезапно свалившиеся любовно-денежные отношения оказалось непросто. Прежде, давая позволение своему сердцу любить, они никогда не обращали внимания на материальные возможности предмета любви – в первую очередь потому, что эти возможности по большому счету были у всех одинаковыми. Исключением являлись разве что предприимчивые жители глубинки, стремившиеся жениться «на московской прописке» да соискатели взаимности дочек больших начальников – ради продвижения по службе.
Однако игнорировать новую реальность теперь стало невозможно. Образовавшаяся ковалентная связь сердечной привязанности и благосостояния, навязчивая и липкая, начала испытывать на прочность влюбленных, бить по отношениям – не всегда ломая или уничтожая их, но неизбежно оставляя свой след.
Для Вероники Пильницкой ценность – вернее, бесценность её Севы была абсолютной. В анамнезе их семьи имелся умерший ребенок – родившийся на седьмом месяце беременности, он прожил всего полчаса. Это случилось еще на четвертом курсе. Многие – среди этих многих хватало и женщин – тогда уверяли Нику, что это фактически выкидыш, еще не сын вовсе, а так, заготовка. Говорили: очень неприятно, но не трагедия.
Однако Ника после этой «не трагедии» несколько месяцев не могла спать. Проваливалась в забытье на час-другой в сутки, в этом забытьи тут же видела темно-красное страдальческое сморщенное личико, и сразу просыпалась. Она беспрерывно и мучительно корила себя. За то, что не обрадовалась, узнав об этой беременности – сперва надо же было закончить институт! За то, что в первый момент даже не заплакала, когда ей сказали о смерти младенца. За свою реакцию на вопрос, хочет ли она, чтоб ей выдали тело для захоронения – Ника тогда забилась в истерике, закричала страшно: нет, нет, нет!.. За это крошечное лицо, которого она толком не разглядела – младенца сразу унесли в бесполезную реанимацию – но которое тем не менее показалось ей ужасно некрасивым. Вот эту недостойную матери мысль о некрасивости сыночка она не могла простить себе особенно долго.
Все вокруг твердили: бывает, пройдет, родишь еще.
И только Сева не говорил ни слова, лишь молча гладил ее по голове, по плечам, а из глаз его текли беззвучные слезы, которые смешивались с ее слезами… Общая беда часто отчуждает друг от друга, Пильницких же она сплотила намертво, крепче любых других уз.
О будущих детях они с тех пор не заговаривали. По какому-то взаимному, не обсуждаемому умолчанию – и эта их одинаковость в нежелании поскорее произвести на свет замену своему безымянному малышу тоже являлась прочнейшим цементом для их любви.
Они и во многом другом тоже счастливо совпадали – им нравились одни и те же книги, песни, фильмы, люди. Они давали схожие оценки и делам давно минувших дней, и событиям, происходящим на их глазах. Правда, Вероника скорее лишь соглашалась с мыслями, озвученными мужем, и почти не производила на свет собственные, но соглашалась искренне, и ей нравилось звучать его эхом.
Сева (а вместе с ним и Ника) радовался падению cоветского государства, поскольку считал его античеловечным и нежизнеспособным. И, когда в августе 91-го дело демократии и грядущее прекрасное будущее оказались под угрозой, отправился защищать их вместе со многими другими. Жену с собой не взял – слишком опасно, – хотя она и рвалась изо всех сил, и не демократии ради, а просто чтобы находиться рядом.
Когда три дня спустя он вернулся с победой, Нике казалось, что она замужем за самим богом Марсом, что это её Севе и никому другому принадлежит быстрый и категорический разгром врагов светлого будущего. Особенно впечатляло то, что возле Белого дома он видел самого Ростроповича, кумира из кумиров, и этот факт теперь заставлял её внимать рассуждениям мужа о политике не только одобрительно, но с благоговением. А ему с тех пор еще больше нравилось вести такие разговоры, хотя скорее это были не разговоры, а просто размышления вслух, которые молчаливый и согласно кивающий слушатель в лице жены делал особенно убедительными.
– Понимаешь, Никитка, то, что произошло с Советским Союзом, случается с любым априори неосуществимым идеалом, который насильственно пытаются воплотить в жизнь. Идея должна оставаться идеей, причем личной, а не государственной. Она может быть целью, к которой избравшему её человеку следует стремиться, но на идее нельзя основывать общественный строй – это будет общество фанатиков, и в этом случае любой не фанатик автоматически станет врагом. Так, увы, и получилось с коммунистической идеей – задуманная ради равенства и благополучия людей, она лишила их индивидуальности и породила ГУЛАГ. Я, кстати, до сих пор не понимаю – почему коммунисты люто ненавидели церковь? Ведь христианская идея так похожа на коммунистическую… Кстати, и с христианством получилась та же история – это пацифистское, человечное учение всю дорогу вызывало войны, крестовые походы, инквизицию и тому подобную дрянь.
– И ведь как был хорошо задуман Советский Союз – освободить людей от эксплуатации, от власти денег, – однажды вздохнула в ответ на подобные речи Ника, но тут же смутилась – могло показаться, что в её словах звучит сожаление о том времени, но Сева-то о нем точно не жалел, значит, и она жалеть тоже не могла.
– На самом деле, это нормально и правильно, когда всё решают деньги, хотя нам целую жизнь внушали обратное. Но ведь деньги – это просто эквивалент нашего труда, наших способностей, просто единица измерения. Чем способней, активней, трудолюбивей человек – тем больше он будет зарабатывать. А с теми, у кого плохо с талантами, или кто не может полноценно работать, способные и сильные должна делиться своими деньгами – это называется социальная поддержка. Видишь – в Америке, в Европе всеобщее благополучие в целом удалось воплотить, там даже самые малообеспеченные живут куда лучше, чем жили люди в Союзе. А ведь обошлось без всяких революций, гражданских войн, расстрелов и лагерей…
Однако спустя некоторое время Пильницкие, опять же не сговариваясь, прекратили подобные разговоры. Рассуждения Севы о благотворности власти финансов теперь звучали бы злой самоиронией, поскольку денег у них в семье не было и не предвиделось. Несмотря на позитивное восприятие перемен, найти свое место при новом капиталистическом укладе у обоих никак не получалось. Увы – в стране ничего не было предусмотрено для тех, кто не умел вписаться в рынок.
Сева по-прежнему ходил работать на свой издыхающий завод – практически бесплатно. Он в отчаянии разводил руками:
– Я не знаю, что еще могу сделать. Вчера ребята рассказывали, что Ларин – помнишь, я говорил, он в прошлом году уволился от нас – открыл свое малое предприятие, теперь в шоколаде. Наверное, мне тоже следовало бы попробовать? Но я ничего в этом не понимаю, даже не знаю, с какой стороны подступиться… Наверное, я плохой специалист. Или просто дурак.
Нике такие речи злыми когтями царапали сердце:
– Ты умница и прекрасный специалист! Просто сейчас время такое, сложное, но все наладится, вот увидишь.
Она и сама не верила своим словам. Что наладится? Она тоже по-прежнему ходила на свою безденежную работу в поликлинику, а помимо этого, время от времени – в переход возле Детского мира. Сначала продала все тапки, потом одна из коллег научила ее нехитрому заработку – закупать майки и рубашки у знакомых челноков, мотающихся за товаром в Турцию, и сбывать их в переходе немного дороже. Кураж от первых продаж у Вероники быстро прошел, подземная торговля, которой она занималась вынужденно, превратилась в неизбежное зло. И порой Ника стала испытывать даже не раздражение, но какое-то недоумение: почему она хотя бы пытаается делать что-то, а Сева – вообще ничего? Ведь он же мужчина?
ххх
Это недоумение копилось и мучило, вызывая постыдное желание с кем-то им поделиться. Собственно, поделиться можно было лишь с одним человеком – лучшей и по-настоящему единственной подругой Лизой Комаровой.
Они познакомились с Лизой еще в студенческие годы, на занятиях в любительской художественной студии для взрослых, куда обе по вечерам ходили заниматься рисованием и живописью.
Веронику эти занятия согревали и утешали. Она скучала по родному Орлу, по родительской семье, где было обыкновением домашнее музицирование на пианино в четыре руки, пение под мамин аккомпанемент, чтение вслух книг по вечерам. Несмотря на то, что оба её родителя являлись потомственными врачами, маминой истинной страстью являлась музыка, а отец, известный в городе окулист, обожал живопись, часами мог рассматривать с детьми альбомы репродукций великих мастеров, сам немного рисовал и пристрастил к рисованию младшую дочь Нику. Она ходила в художественную школу, и одно время даже надеялась сделать искусство своей профессией, но была вынуждена смириться с отсутствием таланта – согласно собственной строгой оценке. И поступила в медицинский институт – в соответствии с семейной традицией.
Занятия в студии, находящейся в одном из чистопрудных переулков стали для нее, студентки 1-го меда, отрадой и наслаждением: она стояла за мольбертом, смешивала краски и уплывала в волшебный мир собственных фантазий и воспоминаний о доме. Руководитель студии, маленький старенький Петр Кириллыч со всклокоченной бородкой, вздернутой вверх, похожей на перевернутый клюв хищной птицы, редко беспокоил ее своими замечаниями – видел, что девушка приходит сюда не ради оттачивания мастерства. Гораздо больше времени он проводил возле другой ученицы – Лизаветы Комаровой. Та постоянно донимала его вопросами и сомнениями по поводу выбора цветовой гаммы, плотности краски, построения композиции.
Робкая, мечтательная Вероника и самоуверенная, жадная до жизни Лиза были несходны, как ручеек и буйный океан. Даже внешне они являли собой противоположности – Лиза, словно размашисто нарисованная уверенной рукой графика, и пастельная Ника, расплывающаяся во множестве мягких оттенков. Однако, несмотря на все различия, через некоторое время они накрепко сдружились. Их знакомство началось с Лизиной критики:
– У тебя тут светотень слабо выражена. Нужно добавить кобальт…
– Не стоит, – мягко возразила Ника, – мне так нравится. У меня здесь получились сумерки, а это как раз под настроение.
– Причем тут настроение. Ну плоско же вышло… Спроси Кириллыча – позвать его? Нет? А зачем сюда ходишь, если все равно пишешь неправильно, так, как тебе нравится? Занималась бы дома, раз учиться не хочешь.
– Просто в общаге мольберт негде поставить, – начала оправдываться Ника. – И запах красок никто терпеть не станет…
Лиза посмотрела на нее сочувственно – сама она относилась к занятиям искусством совсем по-другому. Да и к жизни вообще. Самодеятельная живопись была для нее не столько удовольствием, сколько возможностью узнавать и осваивать что-то новое – и эта потребность познания, совершенствования крепко держала Лизу, не позволяла ей бесцельно тратить время и совсем не получала удовлетворения на лекциях по сопромату и теоретической механике в авиационном институте, где та училась. Каждая последующая Лизина картина должна была быть непременно лучше предыдущих – в этом для нее заключался смысл творчества.
Пожалуй, самым ценным свойством Вероники в глазах подруги являлся покладистый характер, готовность выслушивать поучения и не возражать. Напористая и категоричная Лиза часто одолевала людей своей страстью командовать – но только не Нику, которая охотно поддавалась её атакам. Лизе ужасно хотелось перевоспитать подругу, сделать активной, энергичной, деятельной. «Воспитание» касалось и отношения к искусству: зачем нужно все это парящее, оторванное от земли, эфемерное – заниматься стоит лишь тем, что способно приносить практическую пользу, менять человека к лучшему. Ника не сопротивлялась – ее бодрила неистовая энергия подруги, – не обижалась, не спорила и даже честно старалась исправиться, однако последнее получалось из рук вон плохо. Лизу, в свою очередь, не сильно расстраивали неудовлетворительные результаты, ей нравился сам процесс перевоспитания.
«Я же такая злая, Никитка, как ты меня только терпишь?» – порой спрашивала она в минуты раскаянья, которые, надо признать, случались нередко. Так, однажды они купили экскурсию и на выходные поехали в прянично-самоварную Тулу. Дело было зимой, при лютом морозе. Усаживаясь в автобус, Лиза первым делом плюхнулась на привилегированное место у окна, но вскоре передумала: «Давай поменяемся местами, тут дует, тут холодно». Ника безропотно пересела ближе к замороженному окну. А вечером, опомнившись, подруга долго пытала ее: «Ну зачем ты согласилась, ты ведь тоже замерзла? Я же обнаглела совсем, почему ты не возмутилась?» В ответ та только пожала плечами – что такого, согласилась и согласилась, лучше немного померзнуть, чем препираться и спорить, – чем озадачила Лизу, которая никак не могла решить, следует ли считать такой подход ущербным или достойным восхищения.
Но особенно они сдружились несколькими годами позже, после того как Лиза родила сына – в одиночку, без всякой поддержки, и ведь в такое трудное и непредсказуемое время! Она стала вызывать у Ники истинное преклонение – и не только из-за того, что без всяких сомнений решилась родить, но прежде всего потому, что, сидя с младенцем, кормя грудью и довольно-таки редко выходя из дома без коляски, она ухитрялась зарабатывать деньги. То есть делать то, что у них с Севой никак не получалось.
ххх
Искать способы заработка Лиза начала, еще будучи беременной. В соответствии со своим характером, она хотела многого: не просто получать абы какие деньги, но иметь их в достаточном количестве, более того – найти такое дело, заниматься которым было бы интересно.
Поэтому даже не брала во внимание скучную куплю-перепродажу, зато вспомнила, что недавно, разбирая дома старые книги, нашла древний самоучитель по плетению кружев крючком. Вытащила его, в течение недели освоила это искусство, оказавшееся совсем нехитрым, и тут же отправилась трансформировать в денежный эквивалент недозрелые плоды своего труда. Сперва продавала их на Измайловском вернисаже, потом, когда надоело ловить сочувственные взгляды на своем животе, начала сдавать на комиссию в московские универмаги, в отделы, торгующие всякой всячиной. Лиза не надеялась на большой успех, но, к ее радостному удивлению, кружевные воротники и салфетки раскупались довольно бойко. Воодушевленная, она повышала цены, и делала это до тех пор, пока стоимость воротников не начала тормозить скорость продажи. У неё захватывало дух от возможности самостоятельно рулить собственным делом – самой производить товар, определять и его цену, и количество. Торговые точки ничего не диктовали, ничего не требовали, лишь забирали свои тридцать процентов.
Рождение сына в этой деятельности ничего не изменило – молодая мамаша брала пакет с рукоделием на прогулки и вывязывала паутинные узоры, сидя во дворе на лавочке и качая коляску ногой.
Очень скоро она поняла, что открытый всем ветрам перемен рынок девственно чист, пуст, как незасеянное поле. Занимай любой прилавок, за что ни возьмешься, куда зернышко ни бросишь – обязательно будет всход. Поэтому, когда плести кружева ей надоело, Лиза принялась расписывать матрешки и шкатулки, затем – делать кулоны и браслеты из кожи и бисера, еще позже освоила довольно-таки сложную технику батика, росписи по ткани. Это были уже практически картины, то есть настоящее искусство, что особенно радовало. Перед отправкой своих батиков на продажу в салоны, она натягивала их на подрамники и подолгу любовалась ими.
Казалось, её жизненные силы питались трудностями начала 90-х со всеми их инфляциями, деноминациями и прочими рукотворными катаклизмами. Никогда, ни до, ни после, она не чувствовала в себе столько энергии. Работала одержимо, спала по 3—4 часа в сутки – и вовсе не из-за ребенка, который с самого рождения, по счастью, дрых как сурок. Родители смотрели на дочь с изумлением: откуда в ней эта самоуверенная наглость – браться за дело, которому никогда не училась, с которым едва познакомилась по книжкам-руководствам? Да вдобавок сразу бежать продавать свои поделки? И, что самое удивительное, находить людей, которые все это покупают?
Лиза в ответ только посмеивалась. Её, что называется, несло, у неё все получалось – иногда лучше, иногда хуже, однако неудачные работы уходили ничуть не хуже самых лучших. Ей нравилось что-то изобретать, выдумывать, пробовать новое. Но более всего – видеть, как ее творческие эксперименты преобразуются в денежные купюры.
Видимо, она все-таки не являлась истинным художником, который выше всего этого, денежного, низменного, и именно финансово-материальные моменты являлись для неё самыми волнующими. Так, в редкие свободные часы, предназначенные для отдыха, она отправлялась в художественные салоны, куда сдавала свой товар на реализацию – посмотреть, что продалось, а что нет. Можно было, конечно, просто дождаться звонка от администратора, который раздавался, когда всё распродано, и следовало приехать за деньгами. Но Лизе нравилось лично осматривать торговый зал: вот здесь неделю назад вывесили пять её батиков – а сейчас осталось только два. Здесь лежали кружевные воротники – а теперь почти пусто, есть всего один… Именно в такие моменты у нее учащалось сердцебиение, покрывались испариной ладони, случался пресловутый катарсис и рождались новые художественные идеи.
Эта радость востребованного, оплачиваемого творчества заменяла ей полное отсутствие личной жизни. Она не думала ни о той, потерянной любви, ни о возможности появления новой. Не тосковала и не чувствовала себя обделённой – наоборот, порой даже радовалась своему одиночеству, тому, что никто не отвлекает ее от занятий, которые приносили ей не только удовольствие, но и очень даже приличный заработок. Кстати, отец её ребенка повел себя достойно, никуда не исчез. Встретил новорожденного сына из роддома, записал на свое имя, регулярно, хотя и нечасто навещал – исключительно в рабочее время, спешно собираясь домой ближе к вечеру. Лизу немного раздражал этот его страх перед женой, но в целом она была удовлетворена – пусть у мальчика будет какой-никакой отец. Однако от собственных, когда-то горячих чувств не осталось и следа – словно по душе прошел дезинфектор и вычистил, выскреб все дочиста, не оставив даже воспоминаний.
Во дворе, где она каждый день гуляла с коляской, образовалась небольшая компания мамаш, среди которых по непонятной причине преобладали одиночки. Благодаря им каждая прогулка напоминала бизнес-совещание. Рыжая Настя, более известная как «мама Вити», пекла дома вафельные трубочки, складывала их в огромную коробку из-под телевизора, ближе к вечеру несла на площадь возле метро и там продавала. Она жаловалась, что её короб выглядит совсем неаппетитно, и Лиза однажды расписала его гуашью: на одной стороне изобразила самовар с вязанкой баранок, на другой – толстую купчиху с чашкой чая (бессовестно позаимствованную с картины Кустодиева), на двух оставшихся – улыбающихся божьих коровок, плотоядно поедающих выпечку, отдаленно похожую на те самые вафельные трубочки. Рыжая Настя была счастлива, благодарила Лизу и говорила, что теперь ее продукт расходится вдвое быстрее. Правда, счастье закончилось с первым дождем, который заставил и купчиху, и самовар, и прожорливых насекомых превратиться в грязные потеки и измазать собой Настины руки, штаны, куртку и даже рыжие волосы. Лиза утешала Настю, обещая в следующий раз короб не только разрисовать, но и покрыть лаком для влагоустойчивости.