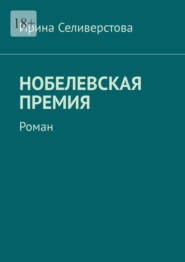скачать книгу бесплатно
– Ничего продавать мы не будем, пап, – отрезала Лиза. – Я сама сумею прокормить своего ребенка, я справлюсь. Хотя тебе спасибо, я никогда не сомневалась, что ты поможешь, если будет нужно.
Этот разговор с отцом заставил её впервые задуматься о том, как и на что она будет жить дальше – в самом прямом, материальном смысле. Родное КБ хирело и нищало день ото дня, к тому же с младенцем на руках особо не поработаешь, а на пособие по материнскому одиночеству можно лишь еле-еле сводить концы с концами, чего Лиза не желала категорически. Её ребенок не будет жить в нужде – раз уж она по собственной глупости оставила его без отца, то без денег точно не оставит.
Чем зарабатывать на жизнь? Она не имела об этом ни малейшего представления, и никакие раздумья не добавляли ясности. Будущее казалось совершенно непредсказуемым – но именно непредсказуемость ей всегда так нравилась. Мысли о необходимых, но совершенно абстрактных заработках пугали до холодных мурашек – но одновременно и будоражили, отвлекали от унылого страдания по поводу разрушенной любви, возбуждали азарт. Она то обмирала, охваченная ужасом возможного безденежья, то чувствовала уверенность, что обязательно что-нибудь придумает. Обстоятельства способствовали этой уверенности – жизнь менялась на глазах, стремительно и радикально, Лизе очень хотелось этих перемен, несмотря на скорое рождение ребенка.
А, может, именно благодаря его скорому рождению.
ГЛАВА 2
В той стране, которая была раньше, денег по большому счету не существовало. Купюры, выдаваемые в дни зарплаты и аванса, являлись скорее товарно-продуктовыми карточками. Их получали все, и большинство в более или менее одинаковом количестве. На эти карточки можно было приобрести продукты и всякие необходимые для жизни вещи – одежду, обувь, кастрюльки, ложки, поварешки. И одежда, и обувь, и поварешки продавались в разных магазинах, но походили друг на друга, как братья-близнецы – к примеру, встретить на улице прохожего в одинаковом с тобою плаще было обычным делом. А женщины, желавшие модничать в заданных жестких условиях, перед покупкой нового платья обычно интересовались у сослуживиц и подруг – не собираются ли они в ближайшее время обзавестись таким же?
Отдельные граждане, склонные к нездоровому индивидуализму шли на пособничество криминалу – втридорого покупали у спекулянтов шмотки, каких не было в магазинах. Но и тех, кто покупал, и тех, кто продавал, насчитывались единицы: слишком накладно это было для первых и слишком рискованно для вторых.
Некоторые «особенные» вещи удавалось добыть и легальным путем. Но деньги к этому опять же не имели никакого отношения. Так, чудесную еду вроде шпрот и консервированного зеленого горошка накануне праздников часто привозили продавать на промышленные предприятия – это называлось продуктовыми заказами. На тех же предприятиях порой можно было записаться в очередь и на настоящую роскошь – например, на мебельный гарнитур производства какой-нибудь из стран дружественного соцлагеря, и даже на автомобиль.
А больше ни за что платить не приходилось. Жилье, хорошее или плохое, выделяло государство – в нем можно было жить, но его нельзя было ни купить, ни продать, ни завещать. Садовые домики, которые гордо назывались дачами и сооружались из говна и палок своими руками, независимо от того, из какого места эти руки росли, строили на участках земли, раздававшихся также бесплатно.
Вопрос, как заработать деньги тоже ни перед кем не стоял. Каждому советскому человеку априори полагалось быть обеспеченным работой – и этот постулат свято соблюдали. Выпускников ПТУ (аббревиатура этих заведений расшифровывалась как «пошел тупой учиться»), техникумов и вузов отправляли работать по специальности, указанной в дипломе. Человеку оставалось лишь выполнять свои обязанности с той или иной степенью добросовестности, профессионализма и таланта. Степень эта у всех была разной, но она практически не влияла на зарплату. Конечно, способные и трудолюбивые скорее шли на повышение, становились руководителями, получали ученые степени, но разница между заработками самого талантливого и самого тупого работника все равно была невелика. Бестолковый инженер подчас выполнял функции лаборанта – как единственно ему доступные – но получал зарплату именно инженера, ибо так было записано в дипломе. А запойного алкоголика до изнеможения воспитывали на профсоюзных, партийных и всяких прочих производственных собраниях, но никогда не увольняли – покуситься на священное право алкоголика иметь работу не мог ни бог, ни царь и ни герой, и уж тем более ни какой-нибудь несчастный директор предприятия.
ххх
В 91-м все изменилось до неузнаваемости. Нужда в деньгах и необходимость искать способ их добычи обрушились на людей внезапно и ошеломительно. Сами деньги появились откуда ни возьмись, вдобавок их стало можно тратить на такое, что раньше могло пригрезиться только в самом горячечном сне.
Расслоение людей по уровню материального достатка пошло стремительнее, чем отделение масла от пахты при взбивании сливок. Одни обретали деньги скоро и в неправдоподобном количестве, будто получили доступ к печатному станку. Другим же – таковых было большинство – не удавалось заработать вообще ничего. От чего зависела принадлежность к первой или второй группе, не всегда можно было понять, порой складывалось впечатление, будто наступившее безумное время играло судьбами в какую-то свою собственную рулетку – для кого-то добрую, для кого иначе.
Одни скажут, что разбогатеть удавалось тем, кто оказался в нужном месте в нужный час, другие – что для этого следовало обладать определенным характером, третьи – уметь ловчить, нарушать законы и не иметь моральных принципов, четвертые – не бояться работы. Правы будут все.
Всеволод Пильницкий обладал лишь последней способностью, которой оказывалось очевидно недостаточно не только для преуспевания, но даже для того, чтобы просто держаться на плаву.
Завод пластмассовых изделий, на котором он работал технологом, шел ко дну не сказать, чтобы медленно, но абсолютно верно. Сева уже сбился со счету, сколько ему задолжало родное предприятие – зарплаты в минувший год то задерживали, то выплачивали какими-то незначительными частями. А последний раз её выдали домашними тапочками – производства одного из быстро расплодившихся производственных кооперативов, халтурно и криво пошитыми из сатина, но зато яркими, богато изукрашенными шелком, блестками и бисером. Как объяснили сотрудникам, такой способ расчета называется бартером: одна организация, у которой нет денег, но есть тапки, расплачивается с другой, у которой тоже нет денег, но есть пластмассовые изделия, обмениваясь товаром.
Пильницкий приволок домой два мешка этой эксклюзивной обуви, совершенно не понимая, что с нею делать дальше. Коллеги говорили, что тапки следует продать, но он не понимал – как продать? Где? Он не умел продавать, он же был технологом, а не продавцом…
Дома жена Вероника поначалу тоже округлила глаза.
– И куда их теперь?
– Понятия не имею. Ну, не отказываться же было?
– Может, стоило отказаться? Может, потом деньгами выплатили бы?
– Деньгами? Я уже не верю, что они на нашем заводе когда-нибудь появятся. А от тапок хоть какая-то польза – будем носить их до конца жизни, друзьям дарить на праздники…
Застенчивой, такой же нерасторопной и нерасчетливой Веронике предложенный способ использования «тапочной зарплаты» в целом был близок. И она охотно одобрила бы его, однако именно ей нужно было каждый вечер готовить мужу не только ужин, но и обед, который он назавтра брал с собой на службу.
– Это чудесно, – покачала она головой, – но есть-то их мы не сможем. А денег у нас осталось всего ничего…
В поликлинике, где Вероника работала врачом-терапевтом, зарплату платили, но размер ее был таков, что хватало лишь на самое спартанское питание. Пильницкие распределяли деньги по дням, жалели друг друга, каждый старался уступить другому куски повкуснее и посытнее, но при этом кардинально оба ничего не могли изменить.
Вероника – с глазами цвета отражения неба в воде, с тоненькими белокурыми волосами, плавная, белокожая, с телом, податливым как глина и с таким же характером – являлась женщиной, которая умиротворяет, успокаивает, как болеутоляющее. Тому, с кем она говорила своим тихим, журчащим-шелестящим голосом, казалось, что он качается в теплых волнах ласкового моря. Ничто не могло вывести её из состояния равновесия, которое невольно передавалось и находившимся рядом. Сама же она печалилась о своей мягкости и застенчивости, отчаянно завидовала уверенным в себе, разбитным девахам и больше всего боялась любых перемен.
Их с мужем отношения с самого начала были переполнены той любовной нежностью, которая сильнее страсти, ибо не растворяется со временем. Сева приносил Нике в общежитие вареную колбасу, из которой делал красивые бутерброды – он украшал их веточками петрушки. Она набрасывалась на угощенье, а потом, спохватившись, спрашивала:
– Сам-то чего не ешь?
– Я сыт, Никитка, лопай давай! – улыбался он. Она знала, что он тоже хочет есть, просто щедр и великодушен. Вот только без гроша за душой – так же, как и сама Вероника. Как и она, приехал из провинции в столицу учиться, как и она, жил в студенческой общаге. Сева ходил в старых рваных ботинках, но покупал ей цветы; работал по вечерам, чтобы пригласить ее в недорогое кафе.
Увы, материальные трудности, эти неизбежные и даже веселые издержки студенческой жизни, плавно перекочевали в жизнь взрослую. Потому что началась перестройка, и таким неделовым людям, как Пильницкие, она оказалась не по зубам. Еще повезло, что Севе досталась московская квартира от двоюродной тетки – маленькая, плохонькая, но своя. Но на этом везение закончилось.
Шикарная Москва с огнями ресторанов, витринами дорогих магазинов и тонированными стеклами толстомордых иномарок оставалась для них неприступной, как средневековая крепость. Вокруг бесчинствовал дикий капитализм, бывшие сокурсники возили товар из Турции, подавались в кооператоры, кто-то разорялся, кто-то стремительно богател… А Вероника с Севой жили по-старому, уже несколько лет не покупали новой одежды и постоянно копили: на холодильник, на стиральную машину, на отпуск – впрочем, очень скоро и отпуск вне дома стал для них невозможен. В последний год денег не хватило даже на билет в плацкарте, чтобы съездить на малую родину, навестить родителей.
Несмотря на это, Пильницкий горячо приветствовал сначала перестройку, а потом и распад СССР, говорил, что переходный период по определению не может не быть сложным, зато впереди нас ждет благополучная полноценная жизнь, как во всех нормальных странах. Восхищался Горбачевым, часто приводил в пример своего дальнего родственника, троюродного брата, которого в конце семидесятых осудили за организацию мастерской по пошиву кепочек-бейсболок с пластиковыми козырьками и красно-синей надписью «Таллин». Брат отсидел в колонии шесть лет – из положенных девяти, и теперь был освобожден «за отсутствием состава преступления». А, может, просто вышел по условно-досрочному, наверняка Сева этого не знал, но очень гордился тем, что в его стране больше не сажают людей только за то, что они работают и зарабатывают деньги, что они умеют это делать. И хотя сам Пильницкий делать деньги совсем не умел, он великодушно радовался за других и питался этой радостью за отсутствием более калорийного питания.
…Вероника смотрела на мужа, стоявшего в прихожей с потерянным видом и с двумя огромными мешками тапок, и её сердце затеплело от жалости.
– Отлично, значит, пора осваивать новую профессию! – она попыталась придать энтузиазм своему тоненькому голоску. – Я вчера в центр ездила, шла через подземный переход возле «Детского мира», там люди продают с рук разные вещи. Надо и мне попробовать, может, удастся продать хоть сколько-то из этих тапок.
– Ты? Торговать? С ума сошла? – изумился Сева. Интеллигентское высокомерное презрение к торговле как к занятию недостойному являлось советским наследием и парадоксальным образом уживалось в Пильницком с уважительным отношением к «деловым людям». Многие быстро избавились от этого ничем не обоснованного предрассудка, другим же, как, например, Севе, он давал возможность почувствовать хоть какую-то собственную гордость, поскольку других поводов для гордости не оставалось.
– Я не допущу, чтоб ты стала торговкой! – попытался протестовать Сева. Но протест быстро сдулся, и он неуверенно добавил: – А если уж совсем приспичит, сам пойду продавать эти тапки…
Вероника даже рассмеялась, представив своего долговязого, вечно взъерошенного, вечно растерянного, похожего на исхудавшего хомячка очкарика-мужа торгующим в переходе. По сравнению с Севой даже она, тихоня, казалась себе бой-бабой. Но вслух этого не сказала, лишь пожала плечами:
– Ты не сможешь – ты же каждый день на работе должен быть. А у меня график утро-вечер. Я пойду в переход – ничего страшного, не на фронт же.
ххх
Подземный переход являлся для Вероники пугающим, демоническим местом – после того, как ее одноклассница, в свое время вместе с ней приехавшая из Орла в столицу и закончившая здесь музыкальное училище имени Гнесиных, стала спускаться туда играть на скрипке, чтобы заработать на жизнь себе и дочке. В первые дни Ника сопровождала подругу – морально поддерживала, а также изображала увлеченного слушателя ради привлечения интереса прохожих. Протяжные скрипичные жалобы и изогнутая фигурка девушки, прижавшейся щекой к грациозной деке инструмента так диссонировали с грязным холодным переходом, что Веронике становилось жутко. А теперь и ей приходится отправляться туда – складывалось впечатление, что подземелье понемногу затягивает в себя прежнюю жизнь, наземную, воздушную и спокойную.
Поэтому назавтра, спускаясь в переход, Ника и впрямь чувствовала себя так, будто идет на фронт. Мир, открывавшийся перед ней, был чуждым, отталкивающим и неприветливым. В хмуром цементном коридоре стояла шеренга, состоявшая исключительно из женщин разных возрастов, но с одинаково мрачными, серыми от тусклых люминесцентных ламп лицами. Перед каждой из них стояла раскрытая сумка с вещами, предназначенными на продажу – кое-что женщины держали в руках, кое-что лежало в сумке так, чтобы проходящим мимо потенциальным покупателям, спешившим через переход по своим делам, товар был виден во всем своем разнообразии. Сумки и ноги продавщиц тонули в грязной снежной жиже, принесенной из верхнего, лучшего мира.
Вероника сперва пару раз прошлась вперед-назад, чтобы оценить обстановку и возможную конкуренцию. Результат исследования ее ободрил: на продажу была выставлена продукция самого разного назначения, от вязаных шапок до детских распашонок, но вот именно тапочек не было ни у кого. Правда, рассмотреть всё детально Нике не удалось, поскольку стоило ей хоть на секунду задержаться возле той или иной торговки, или даже просто на ходу бросить осторожный взгляд на товар, как унылое лицо его хозяйки тут же прояснялось, и она начинала бурную рекламную кампанию. Вероника очень смущалась, и потому скоро прекратила изучение рынка и пристроилась с краю шеренги. Раскрыла свою сумку, поставила ее на грязный пол и взяла в руки две пары самых красивых тапок.
Ее соседка справа, маленькая, тощенькая, черноглазая, похожая на ворону, потрепанную, но не побежденную, продавала детские ботинки. У нее их был целый мешок – все одинаковые по виду и размеру. Когда кто-то из прохожих останавливался и интересовался размером, она спрашивала:
– Вам на какой возраст?
– На пять лет, – отвечал покупатель.
– Вот-вот, – жизнерадостно кивала она, – это как раз на пять!
То же самое девушка говорила тем, кому нужна была обувь и на трехлетнего, и на семилетнего ребенка.
– Тут же 12-й размер стоит – на три года велико будет, – усомнилась одна из покупательниц.
– А они маломерки! – ни на секунду не замешкавшись, парировала хозяйка. – Даже не думайте, берите, в «Детском мире» они втрое дороже идут, можете зайти, проверить!
Проверять никто не хотел, и торговля у девушки, похожей на ворону, шла успешно.
Вероникины тапки своей яркостью и блеском тоже привлекали внимание. Но указанный на них 36-й номер заставлял многих со вздохом класть их обратно в сумку. И в какой-то момент она неожиданно для самой себя услышала свой голос, звенящий от волнения:
– Да вы не смотрите на размер! Они большемерки, соответствуют 37-38-му!
Торговля пошла бойчее, и совесть, поначалу было куснувшая ее, быстро успокоилась. В конце концов, они же без задника. И, если будут чуток малы, это не страшно.
Против ожидания, роль продавщицы не слишком тяготила ее – отчасти она даже гордилась неожиданными успехами на новом поприще – за час удалось продать целых пять пар. Лишь один раз она перепугалась по-настоящему. Сначала вообще не поняла, что случилось, почему все женщины вдруг начали поспешно запихивать свои тряпки в глубину сумок. Причина открылась, когда было уже поздно: грубая мужская ручища, возникшая откуда-то из-за плеча, мертвой хваткой вцепилась в тапок, который Ника держала перед собой.
От ужаса она не могла вымолвить ни слова – так бывает во сне, когда видишь кошмар, хочешь кричать, но крик никак не выходит из разинутого рта. Смотрела на конопатую волосатую лапу, тянувшую ее тапок, и сама обеими руками ухватилась за него – она была готова отдать грабителю (а кто это мог быть, как не грабитель?) все, что угодно, но пальцы сжимались помимо ее воли.
– Нарушаем, девушка, – послышался ленивый басок за ее плечом. Голос был такой беззлобный, что Вероника решилась обернуться. Курносый веснушчатый милиционер выглядел мирно, по-человечески, хоть и был квадратный как шкаф.
– Простите, пожалуйста… я сейчас уйду… не буду больше, – по-детски залепетала Ника срывающимся голосом.
– Вот и нечего, – неопределенно добавил шкаф, выпустив, наконец тапок. – Смотрите давайте…
Вероника, счастливая тем, что так дешево отделалась, торопливо засунула тапки в сумку и собралась уходить, но соседка, похожая на ворону, остановила ее:
– Ты первый раз, что ли? Не суетись. Как увидишь мента, прячь товар, и все. Главное, чтоб в руках ничего не было. Никто тебя отсюда не погонит.
– Вы им платите! – догадалась Ника. – Но я наторговала всего ничего, мне жалко это отдавать, я лучше пойду.
– Можно подумать, остальным есть чем платить! Не мельтеши, никто ничего не платит, давай помалкивай об этом, не подавай им идею.
– Но ведь милиционеры же понимают, что здесь идет торговля, они же видят, как мы прячем товар?
– Ну и что – им плевать, – не очень логично, но с убедительной интонацией ответила «ворона». – Им положено тут ходить и нас строить – вот они и ходят. Работа такая, ты прям как маленькая.
И она действительно оказалась права: впоследствии такое случилось еще не раз, когда менты со строгими лицами вальяжно прохаживались вдоль ряда торговок, которые на их глазах совали свои кофты, шапки и ботинки в стоящие перед ними сумки. Прохаживались – и уходили прочь, до следующего рейда. В чем был смысл этой игры, Вероника так и не поняла, но правила ее освоила и успешно следовала им всякий раз, когда спускалась в переход. А, поскольку тапок у нее имелось аж два мешка, походы туда стали для нее еженедельным занятием.
ххх
Во время одной из таких ходок Ника разговорилась с молоденькой девушкой, оказавшейся рядом и продававшей удивительную куклу – очевидно старинную, с фарфоровым лицом, золотыми локонами, в шляпке и платье из парчи и бежевых кружев. Сама девочка тоже была бы похожа на эту куклу – в случае, если б ту надолго забыли на пыльном чердаке. Тоже белокурая и миловидная, но какая-то измятая и замызганная. Ее лицо выглядело совершенно отрешенным, будто она находилась далеко отсюда и вообще не соображала, что здесь делает. Девочку, казалось, нисколько не занимало, продаст ли она свой сказочный товар – и этим она разительно отличалась от других женщин, которые, кто бойко, а кто просительно заглядывали в глаза покупателей.
Прохожие часто останавливались возле бежевой красавицы из прошлого века, хвалили ее, трогали кружева и атласные туфельки. Многие интересовались ценой, услышав которую согласно кивали и тут же шли дальше. Понятно, что такая кукла не могла стоить дешево, но богатые покупатели в переход не заглядывали.
Где-то через полчаса стоимость куклы начала падать. Симпатичная замарашка, ее хозяйка, принялась скидывать цену каждому последующему покупателю чуть ли не вдвое, и вскоре продала свою драгоценность совсем за копейки, практически по стоимости обычных пластмассовых магазинных кукол.
– Как жаль! – не удержалась Ника. – Слишком дешево… Она же старинная, это, наверное, семейная реликвия?
– Да, ее подарили бабушке моего мужа, когда она еще только в гимназию поступила, – неожиданно охотно отозвалась девочка. На ее лице проявилась виноватая улыбка, сделав его еще милее. – Очень жаль было продавать, я не думала, что так мало денег дадут… Но оставаться тут тоже больше не могу, мне пора домой, там дочка у меня.
– Маленькая? – спросила Ника, которая тоже закончила торговлю и направилась вместе с беленькой девушкой в сторону метро.
– Четыре года, Асей зовут. Но она у нас инвалид, не ходит до сих пор, не разговаривает…
Девочка внезапно начала говорить быстро-быстро, словно боялась не успеть рассказать Нике всего до того момента, как они расстанутся:
– От нее отойти нельзя ни на минуту, сейчас моя свекровь сидит с ней, но ей пора на работу, поэтому мне надо побыстрее возвращаться. Свекровь очень добрая, она нам помогает с деньгами, потому что я все время с Асей, на работу ходить не могу, а муж у меня физик, им в институте уже давно зарплату не платят… Юра, это мужа моего так зовут, подрабатывает ночью в магазине, товар грузит, но там платят тоже совсем мало. А днем он все равно в институт ходит, потому что занимается важным изобретением, которое нельзя бросить… Вот и Алевтину – это куклу так зовут, Алевтина – решили продать, потому что денег не хватает. Асе же реабилитация нужна, чтобы она научилась ходить и вообще выздоровела. Хотя столько, сколько я за нее получила, все равно не хватит. Но лучше хоть сколько-то, чем ничего, правда? У Юры дома еще много чего есть на продажу – подсвечники старинные, картины, настольная лампа, очень красивая, из бронзы… Тоже можно будет продать, и тогда понемногу наберется, сколько нужно на реабилитацию.
– Ты только не здесь всё это продавай! – принялась убеждать ее Ника. – Неси в художественные салоны, в антикварные магазины, в комиссионки. Здесь за копейки все отдашь, в переходе такое не покупают!
Потом посмотрела на безмятежное девочкино лицо и поняла, что та ни за что не разберется, где и какие есть антикварные магазины и комиссионки.
Беспомощная, бестолковая, нежная дурочка, прямо как она сама… Разве такой по силенкам ребенок-инвалид?
– Постой, я сейчас тебе свой телефон запишу, – Ника порылась в сумочке, нашла там карандаш и конфетный фантик, нацарапала на фантике номер. – Позвони обязательно, у меня подруга есть, Лиза, очень толковая, она тебя научит, как продать повыгодней.
Девочка поблагодарила, сунула фантик в карман куртки и поспешно юркнула в распахнутую пасть метро. Ника проводила ее взглядом, изнемогая от жалости, потом пошла дальше: в такие «переходные» дни она позволяла себе маленькую бесплатную награду – прогуляться по Александровскому саду и Манежной площади, к которым она как недавняя провинциалка питала слабость. А тем временем в вестибюле станции «Площадь Революции» фантик с номером выскользнул из кармана, в котором девочка принялась рыться в поисках жетона на проезд, упал на пол и тут же был затоптан сотнями ног.
ГЛАВА 3
Юра Курбатов удивлял окружающих уже с младенческого возраста. Еще в ту пору, когда не умел ни ползать, ни говорить, он на редкость доброжелательно и радостно принимал мир вокруг себя, причем даже в таких малоприятных его проявлениях, как мытье головы щиплющим глаза мылом или знакомство с газоотводной трубкой. Морщился, кряхтел, но никогда не возмущался громогласно, не орал дурниной, что делают в подобных случаях другие младенцы. Просто терпеливо ждал, когда жизнь повернется к нему своей светлой стороной, и можно будет подолгу рассматривать висящие над ним игрушки, трогать их, пробовать на зуб. А чуть позже даже воспитатели в детсаду, обычно не слишком вникающие в характеры своих подопечных, обращали внимание на жадный интерес мальчика ко всему вокруг. Он мог подолгу наблюдать, как тает снег, а потом допытывался – почему тот становится водой? И почему вода, когда замерзает, превращается не обратно в снег, а в лед? И как получается, что на улице, при одной и той же температуре, под ногами могут хлюпать одновременно и снег, и вода? Он приставал к взрослым, стремясь в каждом вопросе дойти до конечного осмысления, не удовлетворялся односложными ответами, и поэтому от него нередко отмахивались в довольно грубой форме. Но Юру это ничуть не обижало – он великодушно принимал всё несовершенство человеческой натуры и легко прощал взрослым их нервозность и отсутствие любознательности.
В младшей школе стал очевиден его талант к точным наукам. Объяснения учителем новых тем и правил он воспринимал так, будто уже хорошо и давно все это знал; ему не приходилось разбираться, задавать вопросы, и даже делать домашние задания не было необходимости. Поэтому Юра просил родителей приносить ему другие книги и учебники, посложнее; изучал их самостоятельно, но и там, как правило, все было доступно с первого же прочтения.
Юрино любопытство имело такой масштаб, что даже школе не удалось его уничтожить. Он перепрыгнул два класса – сперва из первого перешел в третий, потом сразу в пятый. После чего его перевели в одну из самых сильных физматшкол Москвы. Однако и там он оставался неудовлетворенным лучшим учеником, мозгу которого не хватало нагрузки, которая заставила бы его работать в полную силу.
Необычным у Юры был не только мозг, но и сердце. Мальчик обладал редкой даже для взрослых способностью относиться к окружающим событиям и людям снисходительно и сочувственно.
«Сын – единственный человек, который может находить со мной общий язык!» – говорила его мать Софья Вениаминовна, профессор психологического факультета МГУ, женщина, способная останавливать на скаку коней, но совершенно не умеющая уступать им дорогу. Точно также она не смогла идти на какие бы то ни было компромиссы с собственным мужем, крупным ученым-химиком, поэтому брак их развалился очень скоро. Маленький Юра жил с матерью, много времени проводил с отцом, и скреплял этих двоих не только самим фактом своего существования, но также исключительно чутким отношением к обоим, каким-то таинственным умением всякий раз гасить их взаимное раздражение. Мать не могла не оценить этот Юрин талант, недоступный ей самой, и потому дарила мальчика отношением, какого не удостаивался от нее ни один другой мужчина: считала, что он вправе совершать самостоятельно любые поступки и уважала их. Впрочем, позже Софья Вениаминовна усомнилась в том, что это было правильно, винила себя, допускала, что именно такое её абсолютное доверие впоследствии сыграло с сыном злую шутку.
В московский инженерно-физический институт Юра поступил в 16 лет. Учился с интересом, но по-прежнему всё давалось чересчур легко. Уже на втором курсе один из преподавателей, дабы одарить парня нагрузку, в которой тот нуждался, подключил Курбатова к подготовке своей кандидатской диссертации. Для этого брал его с собой в Дубну, в Центр ядерных исследований. И вот там Юра нашел то, чего ему так долго не хватало, загорелся, увидел возможности не только изучать природу вещей, но и воздействовать на нее. Он был страшно благодарен этому предприимчивому преподавателю, которому стоило невероятных усилий организовать студенту допуск к секретным исследованиям. Правда, внакладе препод не остался – львиная доля его диссертации была сделана руками и мозгами второкурсника Курбатова, который при этом вовсе не претендовал на соавторство, удовлетворяясь и наслаждаясь самим процессом познания и исследования совершенно новых для него сфер и материй.
В крупнейшем исследовательском институте при академии наук, куда Юра был распределен по окончании вуза, его уже через год назначили руководителем лаборатории. А еще через два года Курбатов подготовил и защитил собственную диссертацию, став таким образом самым молодым кандидатом наук за всю историю существования института – по крайней мере, так утверждал его научный руководитель.
Докторская диссертация Юрия Курбатова была почти готова еще через два года, причем многие говорили, что её темой является фактически полноценное открытие, которое сделал молодой ученый, и которое при соответствующей обработке вполне может потянуть на Нобелевскую премию… Юра, конечно, только посмеивался, так высоко он не метил, но эта оценка его очень радовала – и вовсе не из-за тщеславия, абсолютно чуждого его натуре. Просто это же здорово, что работа, доставляющая ему самому такое удовольствие, нужна человечеству и приносит пользу людям.
Коллеги, да и вообще все, кто так или иначе пересекался с Юрой, относились к нему без всякой зависти, что в научной среде большая редкость – особенно при таком стремительном и беспардонном взлете. Видимо, причиной тому являлась столь же редкая доброжелательность Курбатова, его простота, готовность помогать другим и отсутствие даже малейших намеков на заносчивость и гордыню.
Девушкам Юра тоже нравился. Но сам он, общаясь с ними охотно и дружелюбно, сближения избегал. Понимал, что зацикленность на науке и работе не позволит ему уделять подруге сердца должного внимания и времени, а случайные связи претили его чувству уважения к себе, к женщинам и чисто физиологической брезгливости. К счастью, природа одарила его довольно-таки спокойным темпераментом, и ночи, проведенные за трудами в лаборатории или над научными книгами вполне заменяли ему ночи всякой иной страсти.
Появление в жизни Юры, талантливого молодого кандидата наук, мальчика из семьи потомственных ученых и коренных москвичей маленькой беленькой пичужки, студентки педвуза, приехавшей с столицу учиться из глубокой, как Марианская впадина, провинции, явилось одной из тех забав судьбы, которым та иногда предается, заскучав от слишком ровного и благополучного течения чьей-то жизни.
Оля была двоюродной сестрой одного из коллег Курбатова, симпатичной, доброй, ласковой и бесконечно наивной. Вернее, это Юра называл ее наивной, а другие, менее деликатные люди определяли Олины умственные способности гораздо грубее. Однако она была так открыта миру, так умела радоваться каждому солнечному лучу, каждой травинке, выросшей в неположенном месте, так искренне сияла в ответ на любой проявленный к ней знак внимания, что Юра, неожиданно для себя самого, начал стремиться видеть её как можно чаще, словно она стала для него неиссякаемым источником некого особого тепла и света, каких он не получал даже у себя в лаборатории.
Случайная встреча дома у коллеги, к которому Юра забежал отдать какие-то бумаги, его просьба проводить сестренку до общаги по еще не знакомому ей городу, гулянье допоздна по бульварам и переулкам московского «тихого центра», изумление девушки каждому памятнику, площади или зданию, знакомым ей по фотографиям, в итоге вылились в нежную дружбу – пожалуй, слишком нежную для дружбы.
Выросшая на надежной и обильной деревенской земле, Оля чувствовала себя в Москве растением, пересаженным в тесный горшок, плохо вписывалась в студенческие компании, тосковала по дому и тем самым вызывала в Юре потребность заботиться о ней – чувство, очень опасное для мужчин.
Когда он объявил матери, что женится, та резко вскинула брови – но тут же совладала с собой. Сын так решил, он не спрашивает ее мнения – значит, она не имеет права отговаривать его от этого неравного во всех отношениях брака. Сын умнее, тоньше, деликатнее, дальновиднее своей матери – в этом Софья Вениаминовна не сомневалась – значит, не ей его вразумлять.
Поэтому она лишь ободряюще улыбнулась и обняла Юру.
Дальнейшая совместная жизнь с юной невесткой очень скоро подтвердила опасения новоиспеченной свекрови – брак был ошибкой, причем большой и непоправимой.
Непоправимой – потому что Оля оказалась в быту чистым золотом, покладистой, хозяйственной, отзывчивой, готовой на бесчисленные уступки, бесконечно доброй и ласковой. Свекровь подвергала невестку нелегким испытаниям, иногда невольно, иногда сознательно, но в итоге всё чаще ощущала, что её заливает нежность к этой белокурой девочке – несмотря на отчаянное нежелание этого, несмотря на собственную суровость. Она понимала, что испытывает сын, и потому знала, что брак этот навсегда.
А большой ошибкой этот альянс оказался потому, что Юра начал почти ежедневно забегать к матери в комнату перед сном, просто так, без особой цели, чтобы всего лишь поболтать, поделиться впечатлениями дня. И Софья Вениаминовна с беспощадной ясностью видела, что жена никоим образом не может подойти Юре в качестве собеседника – слишком отличались языки, на которых говорили молодые супруги, слишком разными были их мысли, интересы, мечты. Да, сына трогало и даже умиляло Олино щебетанье, но одного умиления недостаточно, это мать знала наверняка. Для неё было так же очевидно, что никакой Галатеи её любимый Пигмалион из жены никогда не вылепит, и что всегда будет обречен на интеллектуальное одиночество в собственной семье.