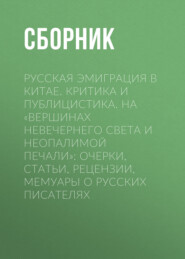скачать книгу бесплатно
Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. На «вершинах невечернего света и неопалимой печали»
Сборник
В. Г. Мехтиев
З. В. Пасевич
А. А. Струк
Настоящее издание является продолжением книги «Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика» (М.: Худож. лит. 2019), куда вошли статьи, посвященные А. С. Пушкину. Предлагаемая же вниманию читателей книга составлена на основе эмигрантской критики, публицистики, очерков и мемуаров о русских поэтах и прозаиках XIX и начала XX века: Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. Блока и других. Здесь неизвестное наследие не только восточных, а и западных эмигрантов, сотрудничавших с периодической печатью «русского Китая» и «китайская публицистика» которых еще не вошла в библиографические списки. Подготовке и первой, и второй книги предшествовала серьезная работа в архивах Хабаровска, Владивостока, Москвы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, на тех, кто интересуется судьбами русской культуры, она может быть полезна для преподавателей и студентов вузов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. На «вершинах невечернего света и неопалимой печали»: очерки, статьи, рецензии, мемуары о русских писателях
Составление, подготовка текстов и примечания: Мехтиев В. Г., Пасевич 3. В., Струк А. А
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
проект 19-012-00380 А
Ответственный редактор:
В. Г. Мехтиев
На обложке:
Бюст Н. В. Гоголя в Харбине
© Сост., подготовка текста, примечания: Мехтиев В. Г., Пасевич 3. В., Струк А. А., 2020
© Вступ. статья Мехтиев В. Г.
© Оформление Г. Котлярова, 2020
© Издательство «Художественная литература», 2020
Осуществление благородного труда: «Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. «.. сын Музы, Аполлонов избранник…» (2019), «На “вершинах невечернего света и неопалимой печали”. Восточная эмиграция о русских писателях» (2020) было бы невозможно без финансовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Без поддержки организаций, учреждений и конкретных лиц. Коллектив авторов выражает благодарность сотрудникам Государственного архива Хабаровского края – директору Шхалиеву Рафику Шхалиевичу, ведущим архивистам Ершовой Ольге Викторовне и Кужиной Наталье Ивановне; Российской государственной библиотеке в лице заведующей отделом литературы Русского зарубежья Наталье Васильевне Рыжак; коллективу Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева и лично заместителю директора по научной работе Петрук Анжелике Витальевне; сотрудникам Государственного архива РФ. Коллектив авторов также благодарит сотрудников издательства «Художественная литература», с любовью и особой заботой принявшихся за издание.
Восточная эмиграция и русская литература
«Господи, зачем тебе горы, вздымающиеся к небу?..»
Эдгар Ли Мастерс
В статье «Памяти Гоголя» видный представитель журналистского и литературного сообщества «русского Китая» Леонид Сергеевич Астахов высказал вполне современную мысль: Пушкин начинается там, «где заканчивается учебник школьной истории русской литературы»; «там же “начинается” Гоголь, загадочный, непонятый современниками». Эти слова, разумеется, относятся не только к Пушкину или Гоголю, – а и ко всем представителям золотого периода русской словесности. Писания самого Л.С. Астахова о Гоголе и Чехове далеки от шаблонных оценок, они полны художественной лирики – умной, культурной, высокоинтеллектуальной. Достоинства, которые редко даются от рождения, но чаще – жизненными испытаниями, чем отмечена печальная судьба Л.С. Астахова, прошедшего через горнило Гражданской войны, тюремное заключение, а потом вынужденного жить на чужбине.
Судьба Л.С. Астахова «типична» для периода первой волны русской эмиграции. Каждый изгнанник, независимо от того, нашел ли он приют на европейском Западе или китайском Востоке, прошел примерно тот же путь после Октябрьской революции: неприятие событий 1917 года, участие в гражданской войне на стороне Белой гвардии, поражение, приведшее к историческому, моральному тупику и настроениям безысходности. Об этом можно было бы долго рассуждать, останавливаясь подробно на биографии «беженцев», но на эту тему написано много. Наша же задача заключается в том, чтобы дать читателю некоторое представление о восприятии восточными эмигрантами русской литературы, о резко выделяющихся чертах стиля, жанра их литературной публицистики. Тем более, что к сегодняшнему дню обнаружено достаточное количество фактического материала, составившего основу настоящей книги и ранее изданной в 2019 году[1 - См.: Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика, «…сын Музы, Аполлонов избранник»: статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина. М.: Худож. лит., 2019. 496 с.].
В рамках подготовки первой книги было обнаружено в архивах и изучено более 100 статей, посвященных Пушкину; книга подготовлена на основе систематизации и отбора из более чем 130 публикаций. Возможно, удастся найти новые материалы, а они действительно есть в архивах США, Австралии и некоторых других государств, но почему-то думается, что на общую картину восприятия эмигрантами русской литературы они существенно не повлияют. Они не изменят и общую жанрово-стилевую картину литературной критики и публицистики «русского Китая». Хотя с точки зрения человеческой и литературной биографии новые материалы имели бы большую ценность.
Известно, что критика – это, так сказать, самосознание (или самопознание) литературы. С помощью критики художественная литература стремится понять свои собственные законы, логику собственного становления в контексте истории. На путях самопознания литературная критика вырабатывает ей принадлежащую систему понятий, определений, включая такие, как жанр, стиль и т. д.
Кажется, к критике дальневосточной эмиграции требования, учитывающие все грани функционирования одной из отраслей литературоведения (самопознание литературы или выработка эстетических представлений и т. д.), – не вполне применимы. Отнюдь не потому что она несовершенна, – таковой она не являлась. Литературная критика «русского Китая» публицистична, «вызывающе» публицистична, эмоциональна, за исключением лишь некоторых образцов. Причин этому несколько.
Во-первых, она большей частью не была профессиональной, а скорее «журналистской». Кроме того, она была «читательской», то есть представляла собой реакцию на классическую словесность, принадлежащую преимущественно людям, по роду деятельности не связанным с литературным творчеством. Такую критику, следуя за Р. Бартом, можно назвать еще и «любительской». Специфика подобной критической рефлексии в ее «спонтанности», даже исповедальности.
Во-вторых, в «русском Китае» не было изданий, которые целиком сосредоточились бы на вопросах искусства. Исключением является, пожалуй, журнал «Рубеж». Литературно-критические статьи большей частью появлялись «по случаю», в связи с юбилейными датами или ежегодно проводимыми Днями русской культуры. Нередко материалы, посвященные юбилейным датам, носили информативный и просветительский характер: содержательно походили друг на друга, но были лишены оригинальности.
В-третьих, нужно учесть, что газетная критика в основном рассчитана на массового читателя, читательская аудитория не дифференцировалась, адресатом таких публикаций являлся читатель вообще. Сам жанр газетной критики не ставит целью серьезную разработку эстетических и философских понятий. Между тем ощущалась потребность выйти за пределы ограничений, положенных основным назначением газетного издания. В статье о Л. Н. Толстом («Одна из вечных загадок») Г. Г. Сатов-ский признавался, что как-то «жутко говорить вскользь о таких величинах, а как же, если не вскользь, можно коснуться творчества и общественного значения великого мыслителя и художника в газетной статье, предопределенной жить один день и, к тому же, подчиненной ограничительным техническим условиям?» В другой публикации под названием «Четверть века творимой легенды» внутреннее недовольство газетным форматом доходило до самоиронии: что может прибавить ко всему сказанному о Толстом «провинциальный журналист в небольшой сравнительно газетной статье»?
Эмигранты-публицисты понимали, что личность, творчество великих русских писателей не вмещается в ограничительные рамки, какие представляет газета. Об этом прямо заявил К. И. Зайцев в очерке об К. С. Аксакове: величественная фигура и наследие одного из «столпов и основоположников славянофильства, конечно, не могут быть охарактеризованы в короткой газетной статье».
Не объясняет ли этот мотив несводимость рассказа о большой, серьезной литературе к фрагментарному и неполному выражению мысли? Газетные публикации эмигрантов, как правило, заключают в себе некий содержательный «избыток», не умещающийся в малую форму высказывания. Критика «русского Китая», если обратиться к публикациям в настоящем издании, по своему содержанию и глубине мысли часто выходила за пределы газетного «формата». Иные авторы (К. Зайцев, С. Курбатов, Г. Г. Сатовский-Ржевский, В. Обухов, Н. Петерец, М. Курдюмов) демонстрировали аналитические способности, сопоставимые с масштабом мысли западных эмигрантов. В статьях названных и некоторых других авторов лиризм, отражающий их субъективное, личностное восприятие классиков, временами вырастал в подлинный образец философской критики.
И, действительно, восточные эмигранты оставили примеры подлинно философско-эстетической интерпретации художественных произведений. В этом отношении достойно внимания статья С. Курбатова «Тень “Шинели”», где с профессионализмом, характерным для талантливого литературоведа, дается хронотопический анализ повести Гоголя, да еще такой, что он мог бы даже сегодня занять почетное место среди лучших работ о творчестве классика.
Интересны наблюдения Н. Щеголева в статье «Мысли по поводу Лермонтова», кажущиеся сегодня несколько архаичными: в свое время они должны были встретить у читателя сильнейший интеллектуальный и эмоциональный отклик. Особенно с учетом того, что автор последовательно проводит мысль о том, какое влияние Лермонтов оказал на его «личную жизнь». Н. Щеголев полагал, что нужно отбросить раз и навсегда набившие оскомину клише вроде «солнце русской поэзии», «великий русский поэт» и т. д. Поэты достойны того, чтобы сделать нашу любовь к ним «умнее, активнее».
Он акцентирует обстоятельство, связанное с предпочтениями Лермонтова в области стиховедческого искусства – пристрастие к использованию мужской рифмы в стихах и поэмах. По мысли критика, мужская рифма символизирует «скованность», «самоурезывание, самоограничение», «так как мужская рифма вообще менее свойственна русскому языку». Писать поэмы «одной лишь мужской рифмой был явно неблагодарный труд, но никаких трудов не боялся Лермонтов, чтобы себя сковать». Лермонтову на этом пути сопутствовала не только удача, иногда он «бывал побежденным».
Одновременно, считает Н. Щеголев, Лермонтов внес «в русскую литературу хаос своей путаной души». Именно от него идет линия, ведущая к музе мести и печали Некрасова, к музе «пышноволосого аристократа, носившего в себе немецкую кровь, отравленную русской неспокойною кровью», – Блока.
Историю собственного восприятия поэзии Лермонтова эмигрант описывает в картинах тяжелой борьбы с собой: «я много жил Лермонтовым», – признается он, – «много прикидывал к своей слабой, но – слава Богу – незавершенной личности его могучую личность». Поэт-эмигрант будто стремился к тому, чтобы сбросить с себя груз тревожной, болезненной лермонтовской лирики, с этой целью он увлекся Пушкиным, Тургеневым. «Лермонтов не то что отошел на задний план, но где-то во мне притаился и ждет минуты, когда я снова устану выздоравливать, когда мне захочется надрыва, а я – русский, и мне соблазнительны надрывы…»
Н.Щеголев, как некоторые его старшие товарищи по журналистскому цеху, дает полезный пример не «хрестоматийной», стандартизированной коммуникации с классиками, заостряет внимание на том, что пребывает «за строкой» школьных или вузовских учебников.
По этому же пути пошел Н. Петерец, считавший, что цель критики – «не истолковывать писателей, не расставить их на полочках, не нарезать для них готовые ярлыки, а быть возбудителем творческого духа читающего, хотя бы через протест в его душе». Свои размышления о писателях он рассматривает как нечто, противоречащее жанру «критико-биографического очерка»; ведь в них нет указания на даты, в них нет и «ни одного анекдота», служащего у иных «вкусной приправой» к весьма далекому от эстетического и этического вкуса разговору о классиках. Метод критического исследования, который использовали в своих статьях С. Курбатов, Г. Г. Сатовский-Ржевский, Н. Петерец, М. Шапиро, Н. Устрялов и другие, восходил к субъективному направлению, заданному еще в начале XX века и в существенной степени обогащенному писателями «русского Китая».
Несколько запоздавшим ответом на рефлексию Н. Щеголева по поводу Лермонтова, вероятно, является статья А. П. Вележева «Невысказавшийся гений» (1941). Да, в стихах Лермонтова нередки срывы, «не вяжущиеся с его славой великого поэта, нет в них отточенности и изящества пушкинского стиха; нередко грешит поэт против языка; встречаются у него технические неточности, самозаимствования». Но эти факты, редкие и ощутимо незначительные, не отменяют того, что Лермонтову в высочайшей степени были присущи и непогрешимый вкус, и необыкновенная одаренность, и безошибочное чувство красоты. Именно от Лермонтова, – подтверждает А. П. Вележев известное к тому времени мнение, – идет линия прозы, продолжателями которой были Тургенев, Чехов и Бунин.
С одной стороны, подчеркнутой «литературностью», выверенностью мысли, а с другой – предельной субъективностью и взволнованностью отмечены статьи «Сила тургеневской земли», «Мать в русской литературе» С. Курбатова, а также его чеховский цикл. То же самое относится, правда, с некоторыми оговорками, к М. Шапиро, назвавшей не случайно свою публикацию о Лермонтове «Душа русской поэзии»; А. П. Вележеву, с любовью написавшего о своем воронежском земляке Кольцове, В. Н. Иванову, нашедшему для описания хаотического движения души героев Достоевского весьма емкое слово: вьюга.
Заставляет задуматься миниатюра «Мать в русской литературе» С. Курбатова полная риторических знаков. Толчком к появлению ее, по признанию самого автора, послужил фильм «Маленькие женщины», снятый по одноименному роману американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832–1888). Посмотрев фильм, невольно задался вопросом: где же в русской литературе изображена материнская любовь? Судьба матери? Да, есть какие-то фрагментарные описания материнской любви, заботы, печали (у Пушкина, Гоголя, подробнее у С. Т. Аксакова). Но не удалось найти полнокровного образа матери, «которая душу свою вдыхает в своих детей». «Или русская литература забыла мать? Может ли быть такой, мягко выражаясь, ужас?» Правда, в русской литературе есть даже роман с названием «Мать», но с образом матери, созданном в нем, не очень-то легко смириться. «Господи, что за наваждение! Неужели мы народ, который мать вспоминает только в ругательствах?» Придут ко мне молодые отец и мать, – фантазирует С. Курбатов, – попросят посоветовать книгу о матери. Разве что приходят на память “слезы бедных матерей” Некрасова»! Объективно картина такова, что «наша славная литература – молит о матери».
Впрочем, прошло почти сто лет со времени публикации статьи С. Курбатова, а вот повод задуматься над судьбой, образом матери в русской литературе по-прежнему сохраняется.
Классики, уверен эмигрант, выразили важнейшие грани русской души, следовательно, национального самосознания, как, например, А. Н. Островский, автор бессмертной «Грозы»; Островский – «действующая русская и человеческая душа. Не петербургская душа, а московская, всероссийская, и, наконец, главным образом великорусская». И снова перед нами пример суждения, который вряд ли укладывается в логику школьного преподавания: «Очень интересен образ Варвары. Это какая-то русалка, какая-то курганная, былинная, сладострастная баба, неистовая, соблазняющая, добрая и в то же время роковая…»
С. Курбатов на практике преломляет «органическое» проникновение в форму и содержание художественного произведения, факт литературы рассматривает в его внутренней связи с коренящимися в сказках, легендах, былинах свойствами народного духа. Индивидуальный почерк автора проявлен еще и в том, что он идет к интерпретации текста не прямо, а совершая круг, отталкиваясь от «чужого слова», преломляя «чужое» высказывание индивидуально и неповторимо.
Поводом для написания статьи о русском драматурге послужила экранизация пьесы «Гроза» (1934), ставшая дебютом режиссера В. М. Петрова. Успех фильма был обеспечен еще и мастерской работой с актерским ансамблем крупных театральных талантов: А. К. Тарасовой, В. О. Массалитиновой, М. И. Жарова, М. М. Тарханова, М. И. Царева. Неравнодушие к русской классике проявилось и в дальнейшем творчестве режиссера. Ему принадлежат экранизации, вошедшие в золотой фонд отечественного кино: «Без вины виноватые», «Ревизор», «Поединок», «Накануне».
Восточные эмигранты были знакомы с фильмом «Гроза», устами С. Курбатова отмечали в нем принадлежность к «большому искусству», хвалили его за то, что в нем заботливо воссоздана русская речь, показан русский быт и, главное, режиссер бережно отнесся к тексту великого драматурга; «все это смотрится и слушается и впитывается с такой жадностью, с которой капля воды поглощается раскаленной почвой».
Публицисты, подобные С. Курбатову, понимали: не только и не столько биографические данные освещают жизнь писателя. В конце концов, не так важно, какое платье или перчатки носил тот или иной классик. Что сказал и как проявился в той или иной ситуации, как это делают с Чеховым, особо нагнетая мотив остроумия в воспоминаниях о писателе. С именем любого классика сопряжены моменты внешние, скупо проливающие свет на главное, – на его духовную биографию, нравственный смысл жизни и творений. С. Курбатов верит: «понять писателя – это значит произвести внутреннюю революцию, переменить весь собственный строй души, зажечься тем же, чем горит и он». Именно такими качествами, предвосхищающими «внутреннюю революцию» в момент встречи с классиками, отмечены статьи К. И. Зайцева, Г. Г. Сатовского-Ржевского, Л. Астахова, С. В. Кузнецова, Н. В. Устрялова. Список можно продолжить.
«Есть речи – значенье ? Темно иль ничтожно! ? Но им без волненья /Внимать невозможно. ? Как полны их звуки ? Безумством желанья! ? В них слезы разлуки, ? В них трепет свиданья». Эти строки невольно приходят на память, когда читаешь трудноопределимую в жанровом аспекте заметку (воспоминание? эссе? лирическая миниатюра?) Г. Г. Сатовского-Ржевского «Кольцов, Митроша и я», – кстати, строки стихотворения, в котором грамматически неправильное «из пламя и света» вызывало столько нареканий в адрес Лермонтова.
Автор делится впечатлениями о годах, проведенных им с 1870 по конец 1879 года на родине Кольцова, в Воронеже. С ностальгическим чувством описывает пейзаж тогдашнего Воронежа, рассказывает о француженке-гувернантке, «смазливом менторе в юбке», заставляющей еще совсем маленького, семилетнего мальчика снимать шапку, проходя мимо величественного памятника Петру 1, но не испытывавшей к Кольцову какого-либо сочувствия.
Необычное впечатление производил известный на всю округу «Кольцовский сквер». «Снежно-белый мраморный бюст поэта на невысоком гранитном постаменте мог внушать какие угодно чувства, кроме страха, а птичий щебет множества сверстников и сверстниц, игравших в мячики, в “пятнашки”, в “казаков-разбойников”, прыгавших через веревочку и даже катавшихся на трехколесных велосипедах, быстро вовлекал нас в круг невинного детского веселья…»
Рассказ становится волнительным, когда Сатовский-Ржевс-кий вспоминает сына сослуживца отца, Митрошу Дружаева, тихого, скромного мальчика, наделенного литературным талантом. «Страстная, почти экзальтированная любовь к стихам, при наличии воистину феноменальной памяти сближала меня с моим “первым другом”, который приходил в “Кольцовский сквер”, обыкновенно с тоненьким томиком стихов этого поэта». Читал стихи Митроша с чувством, наизусть, «держа книжечку обеими руками, как держат священники Евангелие, готовясь благословить им молящихся». Из песен Кольцова, – вспоминает автор, – любимыми его были наиболее элегические, и каждый раз, заканчивая стихотворение: «Чья это могила, – тиха, одинока и крест тростниковый, и насыпь свежа», – он смахивал с длинных ресниц проступавшие слезинки и долго оставался безмолвным, медленно, по-молитвенному качая головой.
Вот откуда берет начало любовь уже повзрослевшего человека, русского эмигранта к народному поэту. Вот почему веришь в искренность слов Л. Астахова, сказавшего, что русские классики «вечно пребудут теми вершинами невечернего света и неопалимой печали, вещие тени которых синими весенними грезами легли на души наши с ранних дней отрочества, провожая нас до порога могилы».
Для Г. Г. Сатовского-Ржевского биография писателя не имеет самостоятельного значения, ее он, как правило, вписывает в провиденциальный канон. На биографию выдающейся личности возможна только одна точка зрения – христианская, в логике «неисповедимости путей» Господних. В этом специфика биографического метода и жанра биографического очерка, реализованного маститым журналистом в статье, посвященной Достоевскому. Прослеживая узловые точки полного коллизий жизненного пути писателя, Сатовский-Ржевский приходит к заключению, что вся история жизни и трудов классика «как бы построена по одному, последовательно проводимому плану, что настойчиво бросается в глаза, словно поощряя нас к попытке расшифровать этот план».
Особым интеллектуализмом и силой эмоционального воздействия наделены публикации К. И. Зайцева, более известного современному читателю, чем другие «поселенцы» «русского Китая». Немалая часть известных (и неизвестных) статей К. Зайцева вышла именно в русскоязычной печати Харбина. Его публицистика, посвященная Пушкину, Лермонтову, уже знакома (правда, не в полном объеме[2 - Сведения, правда, неполные, о харбинских публикациях К. И. Зайцева см.: Филин М. Д. Пушкиниана Русского Зарубежья: Материалы для библиографии // Московский пушкинист: Ежегод. сб. / Рос. АН. ИМЛИ им. А. М. Горького. Пушкин. комис. М.: Наследие, 1995. Вып. V. 1998. С. 344–245. Его же: Зарубежная Россия и Пушкин. М.: Русскiй мiръ, 1998; Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов: Из наследия первой эмиграции. М.: Русскiй мiръ, 1999. Две статьи К. И. Зайцева, включенные в предыдущую и настоящую книгу, ранее в России не публиковались.]) российской публике. Хотя неизвестны включенные в настоящее издание статьи «Памяти Константина Аксакова», «Глеб Успенский», «Князь П. А. Вяземский». Эмигрантская критика в основном была сосредоточена на Пушкине, Лермонтове, но нередко обращалась к фигурам Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, но почти не касалась имен, традиционно отведенных на «периферию» литературы. К. И. Зайцев же необычайно расширял горизонты восприятия и оценки русской литературы, особенно ее «золотого века».
Большую по объему статью о К. Аксакове справедливее было бы отнести к жанру биографического очерка с вкраплениями в него размышлений историософической направленности. Автор охватывает этапы жизни и творчества славянофила, не оставляя без внимания даже обстоятельства его рождения и воспитания. С любовью пишет о предках К. Аксакова, особо подчеркивает материнскую «начинку» характера и темперамента будущего пламенного публициста. Параллельно выделяет в его наследии именно то, что со временем не потеряло своего значения, – исторические опыты. Не будучи профессиональным историком, но наделенный полемическим задором, К. Аксаков как бы расшатал господствовавшее в то время течение исторической мысли. Он создал фундамент, способ мысли, «которые стали с той поры железным инвентарем национально-почвенной историософии славянофильства». К. Аксаков впервые в лапидарной форме дал «общую характеристику духа русского народа и его истории».
К. И. Зайцев трезво оценивает идеи славянофила: «Не разделим мы с ним той силы негодования, которая подымала его против Петра, и его анафематствования Петербурга. Не разделим и того упрощенно-идиллического восприятия древней Руси, которое облегчало ему его полемику с Петровской Россией. Далеки мы от возвеличивания общинного начала в русском земельном строе. А главное, далеки мы от той детски-оптимисти-ческой оценки “народа”, которая вдохновляла славянофилов на борьбу с петровской Россией и делала их оппозиционерами российской Императорской власти».
К. Аксаков признавался, что объект его бескорыстного служения – Истина и Отечество. Но всегда ли в унисон говорят истина и отечество? Для восторженного славянофила «отечество» в вопросе обладания Истиной сливалось с «народом», покрывалось «народом» – и именно простым народом. Вот такого двусмысленного «народничества», безоглядного «народолюбия» К. И. Зайцев не приемлет в Аксакове, не приемлет именно то, что славянофилы «идеализировали народ и создавали из него кумира, ища в нем сосредоточения Истины». И все же, несмотря на народнический утопизм, К. Аксаков современен, ему принадлежат «золотые мысли», «которые до сих пор остаются программными лозунгами русского национального самосознания».
Очерк «Памяти Константина Аксакова» и двумя годами ранее напечатанная юбилейная статья «Глеб Успенский» близки по проблематике. «Тот, кто не знаком с Успенским, не может сказать, что он знает русскую литературу» – таков тезис К. И. Зайцева, который, в свою очередь, перерастает в мысль о том, что «не только, однако, не может сказать о себе тот, кто не знаком с Успенским, что он знает русскую литературу: не сможет он сказать, что знает и русскую действительность!» И если К. Аксаков дал формулу русского национального самосознания, то Г. Успенский – самое очевидное воплощение «болезни русской совести», «которая угнетала и поедала лучшие душевные силы русской интеллигенции второй половины девятнадцатого века».
В цикле работ Зайцева о Лермонтове выделим статью «К столетию смерти Лермонтова». До сих пор игнорировали в ней упоминание о некоем «почтенном харбинце» с инициалами К. А. -авторе, напечатавшем свои воспоминания о чествовании памяти Лермонтова в Пятигорске. Примечательно, что в том же сборнике была опубликована статья самого Зайцева «Памяти Лермонтова»
Кто скрывался под инициалами К. А. – нам не удалось выяснить. Воспоминания были напечатаны в сборнике «День русской культуры» (1939)».
Материал, принадлежащий К. А., полностью приведен в наших примечаниях к публикации К. И. Зайцева, и сам по себе являет ценнейшие свидетельства в 1891 году еще гимназиста, проживавшего рядом с домом, в котором когда-то жил Лермонтов.
В своем рассказе автор отмечает о присутствии в торжествах стариков, «современников поэта», в частности, называет Марью Петровну Федорову, долгожительницу Пятигорска, когда-то влюбленную в поэта. Удивительно следующее: «…она вела дневник, выдержки из которого часто читались матери гимназиста, пишущего эти строки, но, к сожалению, общему для детей (у старушки была внучка 16 лет, которой впоследствии и достался дневник), как только дело доходило до дневника, то все высылались из комнаты».
Неожиданно внушительным оказался список публикаций об А. П. Чехове, который по количеству статей о нем соперничает с Толстым и даже Лермонтовым. Статьи о писателе большей частью традиционны, биографичны, имеют просветительский, информативный характер, но некоторые, без сомнения, могут быть отнесены к жемчужинам критической мысли о Чехове, как, например, «Недуги интеллигенции» А. Ларина, особенно во второй части, «Певец обреченного класса» Г. Г. Сатовского-Ржевского, мечтавшего о новом возрождении «культа Чехова», так много, по его мнению, выстрадавшего за свой дивный дар художественного «прозрения», – «за принадлежность свою к обреченному классу».
Статьи о Чехове можно подразделить на три условные группы. Первую составляют тексты, в которых авторы делятся известными фактами биографии писателя (поездка на Сахалин, интимная переписка); вторую – те, где внимание к биографии минимально, зато даются комментарии к различным произведениям Антона Павловича, с интересом читаемые даже сегодня. И, наконец, публикации, находящиеся на пересечении с мемуаристкой и – «чистые» мемуары.
К последним относится, например, «В театре Чехова» А. Курдюмова, где с нескрываемой ностальгией воссоздается колорит Художественного театра, по наблюдениям пишущего, с момента своего возникновения стоявшего «особняком от других театров». Для многих москвичей, свидетельствует автор, театр Станиславского и Немировича стал «местом некоего священнодействия». «Характерно, что аплодисментов почти не знал Художественный театр, – вспоминает А. Курдюмов, как не знал и вызовов. То было “не принято” – не к лицу. Зато после спектакля не поднимались торопливо и сразу с места, не шумели. Публика, подчиняясь театру, выдерживала и переживала свои паузы, когда вглубь души, как вглубь реки, опускались полученные впечатления». Укажем тут и на статью «Антон Чехов» С. Курбатова, где в заключительной части автор рассказывает о встрече студентов у памятника Чехову в Бадевейлере; во время встречи читались письма, присланные поклонниками писателя. Особенно запомнилось письмо учительницы «откуда-то из глубокого уголка Сибири… Она просила прочесть его перед памятником…» Она просила этих молодых людей, счастливых, получивших образование «за границей», не забывать и тех, которые, подобно ей, проводили свою жизнь в далекой Сибири; не только вспомнить о них и от имени этих миллионов безвестных «тихих людей» принести привет великому писателю, но в будущей нашей деятельности всегда помнить о том, что и им тоже нужно и свет, и тепло, и цветы, и хорошие книги, и музыка, и все, что называется жизнью…
И, конечно же, особо следует назвать «Встречу с Антоном Павловичем Чеховым» Н. А. Байкова – воспоминания, незаслуженно забытые составителями книг мемуаров о классике; текст «Чехов предвестник Куэ» И. Нолькена, отдающий несколько анекдотичностью и мистификацией, поэтому не вызывающий полного доверия.
Возможен вполне резонный вопрос: почему в книгу включена публицистика западных эмигрантов – А. В. Амфитеатрова, Вас. Немировича-Данченко, П. Пильского, К. И. Арабажина?
Статьи названных авторов появлялись в эмигрантской печати восточной эмиграции. Нам не удалось установить факт их публикации в современной России, факт их включенности в библиографические списки. В то время как ценнейший материал для размышлений представляет публицистика того же А. В. Амфитеатрова.
А. Амфитеатров поддерживал творческие связи с различными полюсами русской эмиграции, был «вхож» в издания различных, даже идейно антагонистических, направлений. В своих статьях автор, как правило, отталкивался от утвердившихся мнений и стереотипов, от «чужого» высказывания, но с новой силой обнажал полемические аспекты, связанные с их творчеством или биографией, при этом демонстрируя широту энциклопедических знаний, достойную зависти. Эмоциональный строй письма не затушевывает аналитическую мысль, а только придает ей необычную окраску, вызывая у читателя невольное волнение и как бы провоцируя его подвергать независимому умственному созерцанию уже давно известные факты.
С явным полемическим задором написана, например, статья «Кольцов и Есенин». В ней заостряется вопрос о народности двух русских поэтов. Написанная в жанре биографического очерка, она одновременно наделена аналитической частью, в которой красной нитью проходит мысль о несопоставимости поэзии Кольцова – «поэта оригинального и гениального и единственного русского поэта»; и Есенина, в каждом стихотворении которого сквозит «смертельная обреченность». Кольцов, по мнению Амфитеатрова, принес «из глубины воронежских лесов и донских степей в дар интеллигенции свежий народный дух и певучее народное слово». Ну а что Есенин? – «Этот, Есенин, наоборот, пришел из рязанской деревни неучем по образованию, пролетарием по проповеди, но уже готовым интеллигентом по духу». «Ряженье Есенину, бурному и искреннему, опостылело, и, – предсмертно, – из мнимо крестьянского поэта откровенно выглянул разочарованный, с душою вдребезги разбитою, поэт-интеллигент».
А. В. Амфитеатров считает несправедливым и то, что в Кольцове ищут Есенину «предка», тогда как предки поэта начала XX века – романтики пушкинской эпохи – к примеру, тот же А. И. Полежаев, «несчастнейший из русских лириков», расплатившийся солдатчиной и преждевременной смертью «за дикую жизнь, дикий характер и безудержный алкоголизм». Если бы не разница поэтических форм и языка, то «Полежаева, погибшего почти сто лет назад, и Есенина» легко было бы «по тону и мотивам привести в совершеннейшую почти слитность».
В качестве примера искрящегося стиля и мысли А. В. Амфитеатрова можно указать на его публикацию «Житие без чудес». Статья является рецензией на «Житие без чудес» итальянского романиста-философа, журналиста, литературного критика Джованни Папини (1881–1956), которое, в свою очередь, было включено в книгу другого известного итальянского романиста, литературного и театрального критика Чинелли Дельфино (1889–1942) – «Толстой», издание которой состоялось в Милане (1934).
Книга и рецензируемая А. Амфитеатровым статья получили широкий резонанс, по крайней мере, проживавший во Франции И. А. Бунин о них знал. Некоторые современники подозревали, что Бунин, осведомленный о труде Чинелли, может быть, опирался на него в процессе работы над своим «Освобождением Толстого», изданным в 1937 году в Париже. Но сам Бунин признавался, что «случайно узнал» о «громадном и превосходном труде» итальянского писателя от А. Амфитеатрова и «увидал, сколь Чинелли не случаен, сколь он типичен». Примечательно следующее высказывание русского писателя: «Но вот – полное единодушие, такое, что чем дальше читаешь статью Амфитеатрова, тем все меньше понимаешь, кто говорит: Амфитеатров или Чинелли? Амфитеатров говорит: – В любви к женщине и в бунте против этой любви – весь Толстой. Он так много любил, что перелюбил. И как он любил? Никто не любил более по-человечески, менее духовно, чем он. И как скоро ударил час его телесного упадка, он, в озлоблении, что теряет телесную силу, которая роднила его с матерью-землей, озлобился на целых 30 лет, стал, грязно ругаясь, старчески бунтуя, – вспомните мрачную похоть о. Сергия, – проповедовать безусловное целомудрие. То же говорит и Чинелли: – В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика, ругательное и самое непристойное издевательство над жизнью и природой…»
Из признаний Бунина, в отличие от А. Амфитеатрова не владевшего итальянским языком, следует, что основные тезисы статьи ему были известны, может быть, он прочитал ее целиком и позже упомянул о ней в своем этюде «Освобождение Толстого». Возможно, он даже выразил свое несогласие с некоторыми высказываниями проживавшего в Италии русского писателя-эмигранта, и последний принял возражения авторитетного современника, что подтверждается тем, что приписываемые И. Буниным А. Амфитеатрову и Д. Чинелли цитаты в харбинской версии статьи отсутствуют. Таким образом, знакомство И. А. Бунина и со статьей Д. Папини «Житие без чудес», и с книгой Д. Чинелли «Толстой» носило опосредованный характер, что было, по всей видимости, не редкостью для эмигрантов, проживающих на Западе и на Востоке.
В обозначенном аспекте интересна статья «Ключ к запертой шкатулке. Гоголь, Андрей Белый, Мейерхольд», явившаяся несколько запоздалым откликом А. Амфитеатрова на спектакль «Ревизор» в постановке В. Мейерхольда. Премьера спектакля состоялась в декабре 1927 года в Государственном театре им. В. Э. Мейерхольда. Постановка вызвала, с одной стороны, восторженные отзывы, а с другой – множество нареканий. Спектакль удостоился неоднозначных и даже прямо противоположных отзывов и в эмигрантской среде, особенно в связи с гастролями театра Мейерхольда в Париже в мае 1930 г. В заглавии статьи А. Амфитеатрова упоминание об А. Белом не случайно. Высказываясь о постановке 1927 года, писатель-эмигрант судит о ней по многочисленным рецензиям, присоединяется к тем, кто оценивал спектакль как «возмутительную пародию», с «нелепыми и ненужными “отсебятицами”, исказившими текст и привычный нам сценический строй гениальной комедии». Особенно достается А. Белому, в своей книге «Мастерство Гоголя» (1934) посвятившему теме «Гоголь и Мейерхольд» целый раздел: «Андрей Белый, едва ли не самый фантастический “гоголист” XX века, превознес Мейерхольда до небес и гимном во славу мейерхольдова “Ревизора” заключил свою книгу “Мастерство Гоголя”, видя в мейерхольдовском труде точку и синтетический ключ ко всему Гоголю».
Так же, как с постановкой «Ревизора» в 1927 году, обстояло дело с представлением спектакля в Париже, о котором
А. Амфитеатров рассуждает, используя прием непрямой, опосредованной интерпретации. Он судит о спектакле и режиссерском методе Мейерхольда, опираясь на статью Ю. Л. Сазоновой (Слонимской) «Театр Мейерхольда», опубликованную в 1930 году в Париже. Вместе с тем А. Амфитеатров стремится к объективности, в центре его внимания не столько спектакль Мейерхольда и не столько работа А. Белого, сколько сам Гоголь с его загадочным, «непроницаемым» «Ревизором». Он считает необходимым подчеркнуть, что оставляет без обсуждения «восторги Андрея Белого “читателю в лоб” и брань противников Мейерхольда»; он решил коснуться сути гоголевского таинственного замысла, «не зависящей от того, исказил ли Мейерхольд “Ревизора” или украсил». По мнению публициста, Мейерхольду не удалось справиться с большой задачей – проникнуться глубиной потаенных смыслов гениального творения классика. Но «это – неудача его малой даровитости или дурного вкуса, т. е. личных качеств, а никак не самой задачи. В ней он преследовал, хотя по ошибочно взятой дороге, но как раз ту цель, что указывает Гоголь: внушить зрителю, что за оболочкой веселой комедии “Ревизора” скрывается грозная общественная трагедия».
Таким образом, речь должна идти о том, что именно непреодолимая и трагическая дистанция между рецензентом и спектаклем «Ревизор» в мейерхольдовской версии помешала А. Амфитеатрову объективно оценить неоспоримые достоинства театрального мастерства режиссера. Черта, резко бросающаяся в глаза на фоне статьи «Житие без чудес», которая появилась при непосредственном интеллектуальном созерцании самих источников. И здесь тоже – налицо субъективный элемент; оценка публициста граничит почти что с восторгом и венчается чуть ли не полным приятием итальянской вариации биографии и творчества Л. Н. Толстого.
А. Амфитеатров с присущей ему горячностью утверждает, что «Толстой» Дельфино Чинелли – «труд высокого достоинства и должен занять видное место в неисчислимой толстовской литературе». «Житие без чудес» «совершенно оригинально в подходе к огромной теме». «Такого смелого и широкого психологического проникновения в тайну Толстого не бывало». Охвативший А. Амфитеатрова восторг так искренен, что он ставит очерк Чинелли выше всех научных и биографических трудов о Толстом: «…ни на одном языке не имеется столь тщательного и умного введения в познание Толстого».
Достоинство этюда Д. Чинелли, считает А. Амфитеатров, заключается в том, что здесь обойдена вниманием публицистика Толстого; автор исключительно сосредоточился на художественных произведениях русского классика. В своей публицистике Толстой находился под давлением «предвзятых теорий», «на художественные же произведения Толстого Дельфино Чинелли смотрит как на колоссальную автобиографическую летопись-исповедь, заслуживающую доверия, пожалуй, еще больше настоящих дневников». Именно Д. Чинелли, по мнению А. Амфитеатрова, «чем всем другим исследователям, посчастливилось уловить “славянскую” основу натуры Толстого: почувствовать в нем исконного земледельца и землехозяина, – “языческого Фавна”, обретшего оседлость, но – еще не оскверненного “Каиновым строительством городов”».
А. Амфитеатров не касается недостатков и двусмысленностей иных высказываний автора, которые неизбежны в любом жанре исследования, – он полностью находится под обаянием «Жития без чудес», называет его запоздалой «романисированной историей», «психологическим путеводителем по жизни Толстого». В последних словах умирающего Толстого («люблю истину») – прочитывается торжество милосердной любви. Чинелли сближает Толстого с Дон Кихотом, ведь и в предсмертном голосе Дон Кихота словно совершается акт победы над смертью, венчающей исцеление героя и примиряющей его с миром.
В статьях «Столетие “Миргорода”», «Подсознательный мистицизм», написанных на эмоциональном подъеме и проникнутых аналитической глубиной, публицист обращается к известным темам и мотивам русской литературы и творчества русских писателей, главным образом стремясь разгадать тайну Гоголя, подобрать «ключ к запертой шкатулке» его. Статья «Гоголь и черт. К столетию “Вия”» навеяна эмоциональной и интеллектуальной атмосферой эссе Д. Мережковского «Гоголь и черт» (1906).
Харбинские публикации западных эмигрантов заслуживают самого пристального внимания, иначе наше знание о русском зарубежье оказывается неполным. И при всем том, восточные эмигранты не ставили задачу жанрового и стилевого обновления литературной критики и публицистики. То характерное, что отмечается в их наследии, – скорее результат спонтанного выбора и действия. В публикационной деятельности критиков и публицистов в аспекте наработок литературного прошлого важен не поиск новой формы, а осмысление классического наследия с позиции болезненно переживаемой современности. Значимым было вынуждение смыслов, «указателей», «предсказаний» в перспективе проблем, порожденных «злобой дня». Стратегия публицистов-эмигрантов наделена двойственностью. С одной стороны, предшествующая литература, выполняющая роль эталона, образца, понимается как «ответ» на поставленные «вопросы» – с точки зрения пережитой ими исторической катастрофы. С другой – обращение к классическому наследию служило сплочению и закрепления статуса эмиграции в качестве хранителя высокой традиции, неискаженного смыслового ядра национальной культуры.
В. Мехтиев
I. «Черная тень “Шинели”…»: Н. В. Гоголь
Л. Астахов
Памяти Гоголя
«Ах, милый Николай Васильевич Гоголь, когда б теперь из гроба встать ты мог, любой прыщавый декадентский щеголь сказал бы: – э, какой он, к черту, бог»…
«Ты был для нас источник многоводный, и мы теперь пришли к тебе опять»…
Так писал в предвоенные гоголевские юбилейные дни «русский Гейне», вдохновенный мечтатель – сатирик Саша Черный
, в незабвенном, раннем петербургском «Сатириконе»
.
Вот опять настали юбилейные зарубежные дни памяти Гоголя, дни светлой грусти об отзвучавших навеки «Вечерах на хуторе близ Диканьки», дни повторных, жгучих очарований яркого, тициановски-живописного «Тараса Бульбы», дни неумирающего смеха сквозь слезы в «Ревизоре» и «Мертвых душах»…
О Гоголе накопилась огромная, пестрая критическая литература, в которой чистая наука всегда уступала первое, незаслуженное место тенденциозной полемике с сокровенным политиканским душком.
Гоголя пытались «утилизировать» старомодные, «благонамеренные» марксисты философствующего толка в духе П. Б. Струве
, – Гоголя «сделали» их антиподы, празднующие теперь в Москве юбилей Гоголя, как самого «классового» писателя, «лукавого» революционера своей эпохи, Гоголя проклял неистовый В. В. Розанов, как «идиота» в своих «Опавших листьях», – за гоголевскую иронию, за желчь гоголевской сатиры, за гоголевский «дьявольский» скепсис и демонический пессимизм гигантского размаха
, – выше Анатоля Франца
и глубже Шпенглера
, Барбюса