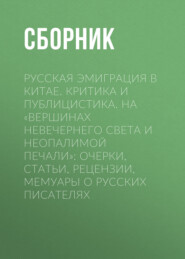скачать книгу бесплатно
и Ромена Роллана
…
Скорбные слова пророка Иеремии осеняют одинокую могилу Гоголя: «Горьким смехом моим посмеются»
.
Разве виноват самобытный, «избяной», из русских, гений этого великого малоросса в том, что: «Поет уныло русская девица, как музы наши, грустная певица… Всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло: печалию согрета гармония и наших муз и дев, но нравится их жалобный напев»
…
Светлая грусть Гоголя, «сквозь видимый миру смех и невидимые, незримые слезы», волной идеализма и гуманизма пролилась в «филантропическое» направление новой русской литературы: Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Гончаров, Григорович, Чехов, Златовратский
, Засодимский
, Короленко, Куприн, Зайцев, Л. Андреев, А. А. Измайлов
, – все они вышли из-под благостной сени гоголевской любви и жалости к мельчайшей пылинке человеческой, к невзрачному «иксу» из толпы земной, Акакию Акакиевичу из великой и бессмертной «Шинели» Гоголя.
«Писатель, если только он – волна, а океан – Россия, не может быть не потрясен, когда потрясена стихия»
, – честно писал поэт гражданской скорби Некрасов, и поэтому для нас образ Гоголя, великий и совершенный, сияет светом вечным и радостным, независимо от того, как подойти к его писательской сущности: со стороны ли булгаковско-бердяевской мистики, розановского метафизического фанатизма, некрасовского «гражданства», «достоевщины», под углом зрения «лишних людей» Тургенева или «хмурых людей» Чехова.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь – вечно пребудут теми вершинами невечернего света и неопалимой печали, вещие тени которых синими весенними грезами легли на души наши с ранних дней отрочества, провожая нас до порога могилы.
И, конечно, прав Борис Пильняк, уверяя, что Пушкин именно начинается там, где кончается учебник школьной истории русской литературы, там же «начинается» Гоголь, загадочный, непонятый современниками, увенчанный благодарным потомством за то, что: «Чувства добрые он лирой пробуждал», – подобно Пушкину и Лермонтову, Гоголь, – духовный брат Тараса Шевченко и в то же время – самый русский из русских, и самый «всечеловеческий», как гражданин мира, как Лев Толстой…
Кольридж очень метко назвал Шекспира «мириадмайндед»: бесчисленно-разнообразным.
Это определение ближе всего подходит к гению Гоголя, величайшего писателя и несчастного, одинокого человека.
С. Курбатов
Николай Васильевич Гоголь. К 125-летию дня рождения
125 лет тому назад, 19 марта 1809 года родился в местечке Сорочинцах Николай Васильевич Гоголь. 21 февраля 1851 года он скончался в Москве.
Слава Богу, проходит, кажется, то время, когда мы привычны были передавать о значительном человеке главным образом его биографические сведения:
– Учился в Полтавской гимназии, потом в Нежинской. Служил в Петербурге… Ездил за границу…
Сколько народу учатся в Полтавской или в Нежинской гимназиях, ездят за границу! В сущности, можно подобрать для Гоголя пару, такого же человека, идущего в одинаковых биографических данных, да еще за такую короткую жизнь, как его. Гоголь ведь жил на этом свете всего 41 год… 41!
Ясно, что не биографические данные освещают жизнь писателя… Не то, какое платье он носил, какие перчатки… Это все внешнее, все выражает лишь нашу бедность в выражениях… Выражает то, как мало мы понимаем, почему дело Гоголя не умерло после его смерти, а живет и ширится, несется вперед, как лавина, уже в продолжение ста лет…
Кроме внешних, биографических данных, – в деле Гоголя есть еще смысл, великий, тайный, переданный им целиком в наше распоряжение и до сей поры неосознанный нами. Смотрите, читайте этот том, который я вам оставил!.. – заповедовал Гоголь. Как во время океанографических экспедиций на палубу судна подымается снаряд с великих глубин, которые заключает в себе образцы жизни глубин, так и Гоголь вытянул это ведро из таких глубин человеческого сердца и влил это ведро в такие формы, что содержание его до сих пор потрясает нас и до сих пор в сущности не изучено…
Передавать о великом писателе только биографические данные – это значит уклоняться от обжигающего огня содержания его творений… Гоголь весь пылает этим огнем: он доставал из глубины человеческого сердца даже не воду океана, а лаву… Понять писателя – это значит произвести внутреннюю революцию, переменить весь собственный строй души, зажечься тем же, чем горит и он. «Прочитать» – одно, «понять» – совершенно другое… «Понять» – по-ять, взять в душу, переломить свой собственный взгляд на вещи, думать его мыслями, его строем мысли, увидеть впервые то, что увидал уже этот писатель…
Что же увидал Гоголь?
Гоголь сначала в своих произведениях увидал то, что мы никак не может увидать в жизни: Чертовщину…
Верим мы в черта? Спросите любого – скажет нет… А я помню рассказ «Вий» с того вечера, когда я выслушал его содержание от таких же пяти-, шестилетних мальчишек, как и я, которым прочитал этот рассказ какой-то знакомый, ухаживавший за их матерью-вдовой… Эта гоголевская чертовщина связана в наших душах с чисто фрейдовскими глубинами, чем-то подсознательным, загадочным и страшным, от чего никак не отмахнуться… Среди нашей реальной жизни нет-нет да и всплывет какое-то неясное, неосознанное загадочное пятно, которое мелькнет и исчезнет, словно его и не было… Так – померещилось… Лишь останется в душе этот холодок… На это пятно прежде всего и уставился Гоголь…
Существует ли это видение? Мы не знаем!.. А вот жутковатый-то холодок – несомненно существует… Мы вот знаем, что покойник не встанет… А когда мы вместе с остроносым Тоголем вглядываемся в его желтое мертвое лицо, то тут мы совершенно ясно чувствуем, что в том, что этот живой человек стал покойником, – присутствует какая-то страшная сила, инертная, злобная, и что мертвенность покойника – есть жизнь этой силы… Вот-вот вскочит и пойдет чертить!..
Гоголь за руку подводит нас к тайнам… Указывает на них… Указывает на них в плотной, реальной обстановке, с юмористической усмешкой.
– Поэтому он реалист, был крепко признан за такового. Но впервые поняли-то Гоголя до известной степени верно – только символисты…
– Фу, ты дьявол!.. Фу, какой дьявол, – пишет про него В. В. Розанов… – Ничего, нигилизм!.. Сгинь, нечистый… Никогда более страшного подобия человеческого не приходило в нашу землю…
А ведь Гоголь писал то, что существует в душе человеческой, под ее видимой реальной оболочкой… Вот точно так же, как под биографией писателя – под его школой, шляпой, перчаткою, имеется смысл его произведений…
* * *
– Ничего! Нигилизм! – ругался Розанов… – Ну, а «Старосветские помещики»? или это тоже «ничего, нигилизм»?
В двух старичках – Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне – Гоголь вскрыл такую нежность человеческой души, такую спаянность, сближенность человеческого духа, которую только могли провидеть глубочайше посвященные в мистерии древние… «Филемон и Бавкида» – эта прелестная сказка древности, запечатленная Овидием
– вскрывает ту же сущность, которую увидал в мире потом собственными глазами Гоголь… Жизнь ведь это – метаморфоза, перемена форм!
Реальна ли эта нежность душ?.. Конечно, реальна… Но в то же время она – за биографией, она в смыслах их старческих душ… Только с одним писателем, непостижимым и чудовищным в своей силе, можно сравнить Гоголя – по его способностям видеть эти движения душ – с Шекспиром. Шекспир видел человека насквозь и благодаря Шекспиру – мы видим человеческую душу в облегченно отпрепарированном виде… И Шекспир – реалист… Но разве за креслом Макбета – не колеблется кровавый призрак Банко, но разве действие этой трагедии не начинается с трех ведьм, возглашающих реальность сверхреального: – Земля, как и вода – имеет газы, И это были пузыри земли! – говорит про ведьм Макбет.
Гоголь сделал страшный эксперимент. Он перенес свой проницающий взгляд на современную действительность – с наивного хутора на Санкт-Петербург, и вот заструились, понеслись фантастики петербургских повестей, которые оказались страшнее повестей «Миргород» и «Вечера на хуторе»…
А всего страшнее – гениальные «Мертвые души» и «Ревизор».
* * *
И тот и другие – это поэмы о мертвых душах… Те, кто увидал, прочитал, понял эти страшные фигуры Чичикова, Плюшкина, Собакевича, Манилова, тот понимает, что так больше жить нельзя. Невозможно оставаться Собакевичем – после гоголевского Собакевича, Чичиковым – после гоголевского Павла Ивановича, и так далее… Это – фантастические фигуры с погоста, подымающиеся над Днепром в «Страшной мести», отжившие формы жизни, психофизические ихтиозавры. Это «пузыри земли», это символы зла… Скажите, положа руку на сердце, – можно ли уважать человека, увидя в нем Сквозника-Дмуханов-ского или Держиморду?.. Нет, эти люди тем самым, что их провидели такими другие, – уже обречены на уничтожение рано или поздно… Потому что Гоголь смотрит на них глазами совести прежде всего… Нельзя ведь делать государство из персонажей «Мертвых душ» или «Ревизора».
* * *
Известно из всех элементарных учебников, что Гоголь творил лишь «отрицательные типы». Положительных он нарисовать не мог… Вот почему он сжег вторую часть «Мертвых душ»…
Напрасно… А «Тарас Бульба»?.. Разве это не положительный, героический тип, достойный Илиады? Разве эти движения души украинского казака – души совершенно абсолютно русской – не достойны всяческого подражания?.. Критик Эллис
говорил когда-то, что в женщинах Гоголя много обольстительности – но имена! Ужас! Все эти Параски и Пиндорки… Что ж делать! Гоголь рисовал ведь реальности народной жизни, а не фантастику интеллигентщины… Тарас – героический русский тип, не то что его ополячившийся сын-красавец Андрей:
– А что, сынку, помогли тебе твои ляхи?.. Как, веру продать… Родину продать?
Пусть говорят, что угодно, – но «хохол» Гоголь целиком вполне в динамике русского духа…
Потому что никто иной, как Гоголь, в глухое николаевское время, во время тучных аксаковских обедов – провидел и осознал эту страшную динамику русской души:
– Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом собрал и снарядил тебя ярославский расторопный мужик… Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах слились в один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вот она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.
– Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дыбится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает, и остается позади… Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства…
Только в динамике мог бы изобразить Гоголь то, что хотела бы Русь, но в те николаевские времена – нельзя было писать в динамике…
* * *
Есть современная школа Гоголя; его мертвящая тоска подхвачена в литературе в «Мелком бесе» Сологуба
, в «Леоне Дрее» Юшкевича
. А его невысказанная им русская динамика – в Андрее Белом, этом неразгаданном доселе великом русском национальном писателе и философе… Нет, Гоголь – не быт! Гоголь – не «реалист». Гоголь – сверхбыт и сверхреалист, который показал, как никто в России, те движения русской души, которые движут нашу историю…
– Гоголя еще будут читать…
«Тень шинели»
Жарким утренним полымем вспыхнула на заре 19 века роскошная красота русской литературы… Какие имена! Какая сила понимания, пленительной изобразительности… На победоносном челе России, победившей Наполеона – это был действительно алмазный венец…
Велика тогда была победа! Привел Наполеон на Россию 420000 человек, да еще потом подошло 113000 разных «двенадцати языков», а через мутные воды Березины, в отребьях, в крестьянских тулупах, в церковных ризах утянуло ноги только 18 000 европейцев. И сам Наполеон промчался мимо них догорающим метеором в своей шубе зеленого бархата, рядом с внимательным, любезным, но находившимся в полном скрытом отчаянии Коленкуром…
Запела тогда Россия, заговорила, взяла в руки перо… засияла всеми красками своего первого свидания с миром, радостью первой сознательности… Поднялись имена, как звезды, и теперь, переживши то время всего на столетие, – мы пожинаем обильные юбилеи… Мелькнуло сто лет рождения Пушкина, подходит столетие его печальной смерти, мелькают юбилеи Лермонтова
, Пирогова
, Белинского
, Кольцова
, Бородина
, Мусоргского
, Менделеева
, Толстого
, наконец, Чехова
. 19 век в России – это век впервые пробужденного русского самосознания…
И, конечно, всех ярче, всех прекраснее пылает Пушкин. Пусть литературные и политические Сальери прикладывают к нему разные мерки, пусть алгеброй уловляют законы божественных, радостных метров его стихов, конечно, законы эти за гранью человеческого знания, за той громозвучной заповедной стеной творчества, которую можно пролететь только на среброкопытном Пегасе… Пушкин – радостный полдень русского духа, золотой, сияющий, певучий, как бы «Евгений Онегин» с его перебойными, нежно-певучими ямбами…
И в противность Пушкину, подобно тому, как при восходе солнца в наших утренних комнатках гнездится тень – через всю русскую литературу поднялся темный очерк Гоголя… Теперь подошел тоже юбилей его, этого мрачного певца того, что не только красит, сверкает, живит мир и природу, но и тайного соглядатая ее извечных и мрачных глубин….
На юбилей «Миргорода» отозвался в «Заре» издалека, из голубой Италии А. В. Амфитеатров, и не будем поэтому касаться «Миргорода»…
Коснемся лишь того, сильно распространенного взгляда, что Гоголь является самым «реалистическим» писателем.
«Реалистический писатель». Это значит, как говорит наш обыкновенный способ мышления, что человек – «что видит, то и описывает»… Он описывает мир так, как он есть… Разве так? Возьмем, например, одно из самых «реалистических» произведений Гоголя «Шинель» и посмотрим, насколько реалистично это произведение.
Где-то в Петербурге живет Акакий Акакиевич Башмачкин, чиновник, служащий по переписке в каком-то из департаментов… Среди роскошных площадей Петербурга, среди его квадратов, кубов и вообще прямолинейных геометрических линий движется скромная фигура этого человека, как некая черная точка… Именно над этим скромным, «ничем не защищенным человеком» поднял Петербург свой роскошный облик, такой жестокий, символический лик, что он оборотился к Акакию Акакиевичу одним-единственным своим аспектом – Зимой.
Даже когда Акакий Акакиевич сидит в департаменте и пишет, то чиновники ему на голову сыплют бумажки и говорят: снег!.. Белыми бумажками покрыта голова и плечи скромного чиновника, пишущего механически бесконечные копии… И мало белых бумажек, которые пускают на него чиновники… Когда он идет мимо стройки какого-нибудь нового дома – то «целую шапку извести» вываливают ему на голову штукатуры…
Люди едят арбузы, дыни и прочие вкусные вещи, но стоит только Акакию Акакиевичу пройти мимо этих окон, где живут эти люди, как на него сыплются корки «и разная тому подобная дрянь», которую он уносит тоже на плечах и на шляпе.
Пушкин был человеком сплошного сверкающего Лета, синих небес, грохочущих валов сине-зеленого моря… Люди же, как Акакий Акакиевич, являются людьми вечной суровой Зимы… Природа, жизнь, люди – как будто обратились к ним задом, страшным мертвым ликом.
Правда, есть у Пушкина тоже такие серые тени, которые мелькают иногда в его сверкающих красках… Есть! Вспомните, например, «Станционного смотрителя», у которого лихой гусар увез его дочь, тихую Дуню. Есть у Пушкина в «Медном всаднике» скромный чиновник Евгений, который так жестоко страдает в роскошном Петербурге, выстроенном волей Петра… «Добро, строитель чудотворный, ужо тебе!» – говорит Евгений памятнику Петра, и… грозится ему. У Евгения – погибает его невеста, жившая в затопляемой Галерной гавани…
Унижен, обижен, оскорблен Евгений. Унижен и обижен «Станционный смотритель»… Немного погодите, и знамя этих униженных и оскорбленных небрежной культурой людей – развернет в своих печальных, мутных романах великий наш Достоевский… Ах, что ж делать! Не только из светлых палящих красок создается жизнь, – писал как-то Гоголь… и черная тень «Шинели» встает над Петербургом…
В «Шинели», в этой реалистической повести, – не описано ни одного теплого, ясного дня для бедного чинуши… Нет, все наполнено какой-то словно растворенной сажей, и на фоне этой сажи – несется белый снег…
Черный вечер, —
Белый снег,
Ветер, ветер.
На ногах не стоит человек, —
вырвутся потом строки у другого русского поэта – нашего современника Блока. В его крутящейся метели пройдут страшные «Двенадцать» – а пока что – удары мороза и мертвящий лед снега испытывает на себе только один беззащитный Акакий Акакиевич…
У, какая зима царствует над Петербургом!.. Солнца нет, никакого блеска нет, даже дворцов как-то нет в этом «реалистическом» гоголевском Петербурге. Ничего нет, какие-то «дома и лачуги»… На лестницах – воняет кошками… Хозяйки жарят рыбу и подымают такой и чад, и вонь, и дым, что Акакий Акакиевич проходит через кухню к портному Петровичу, незамеченный его женой. Словно он вырос как дух из этого чада жизни. А пуще всего – зима!
Какая ужасная зима описана в «реалистической» «Шинели» Гоголя… Почитайте хорошенько…
Ударили морозы, и когда они ударили довольно сильно и стали пропекать сквозь старый «капот», только тогда пошел Акакий Акакиевич к портному… По всем признакам петербургского климата – это был ноябрь. Прошла по крайней мере неделя, пока Акакий Акакиевич собрался во второй раз к Петровичу… Потом, в результате этих переговоров, начался длительный период обдумываний, как построить шинель…
Долго ли он длился – судите сами – «на праздники» Акакий Акакиевич получил награду в своем департаменте, следовательно, это пришлось уже на Рождество Христово и на Новый год, когда, как известно, и раздавались награды… Награды было дано Акакию Акакиевичу не малая сумма – шестьсот рублей… Следовательно, прошел и Новый год, и святки… Предпринятые дальнейшие меры к экономии Акакия Акакиевича – в виде пользования хозяйкиной свечкой по вечерам и «небольшого голодания» заняли, – пишет Гоголь, – «еще два-три месяца». На дворе, стало быть, прошел и март.
Собрав необходимые средства в марте или начале апреля – пошли покупать сукно, и купили они с Петровичем очень хорошее сукно. Петрович начал шить шинель, и затратил на это дело – «две недели»… Стало быть – дело подошло к апрелю… К концу… Но, читаем мы у Гоголя, «никогда в другое бы время не подошла шинель так кстати, потому что начались довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться»…
Итак, по нашим несложным вычислениям, морозы пришлись во всяком случае на конец апреля, когда после департамента, вечером Акакий Акакиевич и был приглашен на пирушку к своему сослуживцу по случаю приобретения своей новой шинели… Когда он шел туда, то «стали попадаться бобровые воротники… и лихачи в лакированных санях с медвежьими одеялами пролетали улицу». При возвращении с вечеринки назад, как известно, на какой-то площади – и сняли с него шинель…
Акакий Акакиевич стал «хлопотать»… Хлопоты заняли тоже известное значительное количество времени, покамест бедняга ходил к частному приставу, а потом к роковому «значительному лицу»… После посещения «значительного лица», распекавшего весьма сильно Акакия Акакиевича за непочтительность – прошло еще три дня и на четвертый – Акакий Акакиевич умер…
«Значительное лицо», тоже через несколько времени – когда узнало о смерти Акакия Акакиевича (а в департаменте и то узнали об его смерти через четыре дня после похорон – то есть через неделю после кончины), значит – через еще больший промежуток времени – стало мучиться угрызениями совести. По нашему исчислению, – здесь должен был истечь и апрель, и вот – в мае это «значительное лицо» мчалось к своей «Каролине Ивановне», даме немецкого происхождения, которая была, как уверяет Гоголь «ничуть не лучше его жены». – Но что за странная погода была в это время: «Ветер резал ему лицо, засыпал снегом, хлобучил на голову воротник шинели»… Тут то, как известно, и явился оробевшему генералу покойный Акакий Акакиевич и снял с него шинель, в возмездие его несправедливостей.
* * *
Нет для Гоголя явлений природы; нет для Гоголя весны; для этого «реалиста» – все сминает, стирает, закрывает огромная черная тень шинели, этого символа бессердечной несправедливости, падающей на всю жизнь Акакия Акакиевича, на мир, на блистательный Санкт-Петербург, и сминающая все роскошные краски с палитры мира… Гоголь бредет в мире людских отношений, не видя ни смены зимы, ни прихода весны, ни распускающихся в мае листьев петербургских садов… Он бредет в мире, помня только о проклятой участи Акакия Акакиевича, памятуя только о той грандиозной несправедливости, которую проделал с бедным и безобидным человеком Петербург, поглотивший, сваривший его в своем медном чреве, и недаром при взгляде на этого человечка у одного молодого чиновника в душе как-то зазвучал голос – «я это, брат твой!»… И после этого голоса молодой чиновник уже не знал покоя… Не был ли этот молодой чиновник самим Гоголем?
Зазвучал этот голос и у Пушкина при взгляде на Евгения. Зазвучал потом этот голос и у Достоевского… И стал он звучать в русской литературе неперестающим призывом к социальной справедливости, стал вздымать души на протест против небрежения к малым сим.
Но ни у кого не зазвучал этого голос так ясно, так мощно, как у украинского мелкопоместного дворянина Николая Васильевича Гоголя-Яновского, и зазвучал он, как набат, стерши его ранние думы и об Украине, и об Запорожье, и о всем том, что радовало с юных лет его хохлацкое национальное сердце… Гоголь стал русским по своей высокой традиции, по своей целеустремленности… Это он проложил дорогу, по которой пошла потом русская литература, он, который стал бороться против этой вечной Зимы, против того «холодного света», который убил и Пушкина, и Лермонтова…
С тех пор, вот уже сто лет – роскоши и огнецветы русской души, написанные и отчеканенные Пушкиным – положены на черный Гоголевский фон… И тот, и другой – «реалисты». И все-таки реализм и того, и другого хватает куда-то в символ, в сверхреализм, в надзвездное пространство, где живут вечные Светы, и вечные, борющиеся против светов Тьмы…
С тех пор между Пушкиным и Гоголем и идет русская литература. От тихих светов, от сияний и зорь, от сладкой тишины мира – она идет к его теням, для того, чтобы потом идти все выше и выше, к вечным и подлинным светам, борясь с веющими тьмами, вьюгами, снежными заносами, черными вечерами – и, заметьте, – совершенно реальными, которые и погубили простого массового человека – Акакия Акакиевича…