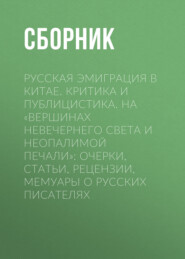скачать книгу бесплатно
. Однако Манилова с Чичиковым Гоголь еще может ошибкою по рассеянности вырядить летом в шубы на медведях, но приметы Черта в «Ночи под Рождество», сатанического Басаврюка в «Ночи под Ивана Купала», Колдуна в «Страшной Мести» он выписывает с точностью аккуратного паспортиста.
Мало того, Великому фантасту недостаточно было образов народной демонологии; он сам добавлял их, растил, размножал измышлением. Один из лучших знатоков демонологии поэт А. А. Кондратьев (автор замечательнейшего фольклорного романа «На берегах Ярыни»)
давно отметил в цикле своих мифологических стихотворений демона богатыря с железным лицом и с всевидящими глазами под веками, столь длинными, что их надо поднимать вилами, гениально выдуман самим Гоголем. Его Вий не имеет ничего общего, кроме имени, с народным украинским Вием, олицетворяющим теплое веяние степного ветра и, следовательно, силу не злую, но благодетельную.
Распространяющееся над жизнью дыхание злой силы Гоголь почувствовал уже в первом цвету жизни. Ребенком, как скоро он оставался один, в ясные, тихие до беззвучности дни его пугали зовы каких-то таинственных голосов, знаменитое признание в «Старосветских помещиках». От этих голосов он «обыкновенно [значит, бывало часто] бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием, и тогда только успокаивался, когда попадался навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустоту».
Мальчик вырос, сделался писателем. Уже в первом труде, привлекшем к нему внимание русского общества, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», он явил себя фантастом небывалой дотоле силы воображения, окруженным призраками невиданной яркости и пестроты. Вперемешку с резвым смехом и певучим лиризмом украинской идиллии врывались в уши читателей злобный вой и дикий хохот врага рода человеческого.
Злая сила, однако, не сразу выпустила свои цепкие когти во всю длину. Сначала она притворилась наивною, глуповатою, смешною: черт шалит, «шутит», как говорят в народе. Ходит в комической маске немца, губернаторского стряпчего или даже свиньи, собирающей с хрюканьем куски изрубленной красной свитки. Человеку легко черта дурачить и обратить себе на по-слугу. Кузнец Вакула едет на черте верхом в Петербург к царице, а вместо благодарности дерет нечистого хворостиной.
Пьяница-казак обыгрывает бесовское сборище в дурни.
Шутки нечистой силы почти добродушны. Украсть с неба месяц, чтобы пьяницы, броды в рождественскую ночь по селу не находили своих хат. Присрамить старика-кладоискателя, пугнув его медвежьим рыком и бараньим блеянием и заплевав ему очи чохом с табачной понюшки. Стащить у загулявшего казака шапку с зашитою в ней гетманской грамотой. «Перелякать» суеверную компанию свиным рылом, глянувшим в окно во время страшного рассказа.
Но это шутовство обманное. Веселится казак, пляшет, но «вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак – старик… «Это он! Это он!»… «Пропади, образ сатаны! Тут тебе нет места!».. «И, зашипев и щелкнув, как волк зубами, пропал чудный старик» («Страшная месть»).
Басаврюк «весь синий, как мертвец», «не кто иной, как сатана, принявший человеческий образ, чтобы открывать клады», вносит в благополучную идиллию украинской деревни соблазн на корыстное убийство, отнимает разум у злополучного убийцы, а между делом забавляется, мороча селян смешными призраками: вселяется в жареного барана, поданного на стол, пляшет в виде дежи с опарой по хате в присядку… «Смейтесь, однако, не до смеху было нашим дедам». («Вечер накануне Ивана Купала»).
Очень смешон чертяка с кругленьким пятачком на мордочке, «как у наших свиней», когда амурится с жирною деревенскою ведьмою Солохой. Но ведь рядом с этим комическим любовником встает исполинская фигура любовника трагического, ужасного: Колдуна из «Страшной Мести». Несравненно сильный образ греховного «озлобления плоти», страшный символ нечистой кровосмесительной страсти: отец, в ревнивом достижении обладания дочерью, истребляющий вокруг нее все живое, ею любимое: мужа, дитя, – наконец, и ее самое… Достоевский попробовал было написать вторую «Страшную Месть» в тонах своей современности: «Хозяйка». Но куда же! Есть предельные области искусства, есть сокровенные тайны и «глубины сатанинские», в области которых Гоголь недостижим для художественного уменья, хотя бы и даже – Достоевского!
Наиболее яркий и выразительный из современных «эпигонов» школы Гоголя А. М. Ремизов так характеризует своего великого учителя:
«Гоголь родился посвященным… Кто, как не посвященный, мог рассказать о волшебном полете в «Вии», перед которым “Призраки” Тургенева кажутся лётом паутинки, и о колдовстве – вызове живой души (астрального тела) в “Страшной Мести”, пред которой самое совершенное и страшное у Тургенева “Песнь торжественной любви” – только беллетристика. Сделайте опыт, прочитайте “Вечера” Гоголя, рассказ за рассказом, не растягивая на долгий срок, и я по опыту знаю, что и самому “бессонному” приснится сон. А это значит, что слово вышло из большой глуби, а накалено, а накалено на таком пламени, что и самую слоновую кожу прижжет и, как воск, растопит кость… И мне приходит в голову мысль: нет ли связи юмора с колдовством? Ведь почему-то Гоголь, показав самое смешное, изобразил и колдовство. Что оно такое – об этом он рассказывает в “Страшной Мести”» (А. М. Ремизов «Сны Тургенева»)
.
Б. К. Зайцев в «Жизни Тургенева», восхищаясь детальным портретом, который Тургенев написал с Гоголя после знаменитого свидания их 20 октября 1851 года, добавляет:
«В этом изображении не хватает еще запаха. У Гоголя должен был быть особый запах, – затхлый, сладковатый, быть может, с легким тлением. Свежего воздуха, красоты, чувства женственного – вот чего никогда не было у этого поразительного человека. Нелегкий дух владел им»
. Владевший Гоголем «нелегкий дух» – источник того запаха «легкого тления», мнится Б.К. Зайцеву неотъемлемо присущим Гоголю. Запах тления духа, чуть тронутого разложением мертвого тела, – «кадавра», как любит выражаться А. М. Ремизов. Сам большой мастер в изображении «кадавров» и странных происшествий с их участием, он, однако, справедливо признает, что в передаче сатанического обаяния «кадавра» Гоголь непревосходим.
Во всей мировой литературе нет более жуткого вампирующего рассказа, чем «Вий», хотя романтики прошлого века часто плодили великое множество подобных историй в стихах и прозе, и между ними имеются сокровища высокого художественного достоинства. Даже гениальные, как «Коринфская невеста»
Гете и первая часть «Дзядов» Мицкевича
, Гофман в «Серапионовых братьях», Эдгар По
, Красинский в «Небожественной комедии»
, Тургенев в «Кларе Милич» и «Песне торжествующей любви»
, – кто только не заплатил этой мучительно влекущей теме дани вдохновенного бреда?
Все эти великолепные словесные монументы, поставленные великими мастерами на границе между мирами живых и мертвых, грешно и увлекательно единят предельный смертный ужас с предельным сладострастием. Но, как ни жутки действующие в них загробные выходцы – символы посягновений хищной смерти на обманное обладание доверчиво страстною жизнью, – все они отличны от «Вия» тем, что, в конце концов, их сверх-и противоестественные драмы разрешаются так или иначе в примирительный аккорд. Их мелодия ведет, их гармония слагает гимны обожествления бессмертной красоты, вечной любви, не знающей конца, переживающей и победно преодолевающей смерть. В «Вие» ничего этого нет. Полное отсутствие примирительных нот. Он безжалостно страшен.
Как большинство очень страстных, но поборающих свои страсти насильственным целомудрием мужчин, Гоголь был громким и усердным хулителем женщин. Огромно число изображенных им типов женской пошлости, а в попытках вообразить женщину идеальную он, по искренности, терпел всегда самые неуклюжие неудачи (Улинька второй части «Мертвых душ», Аннунциета в «Риме» и т. д.)
В искренности же, если женщина Гоголю не противна, как пошлое ничтожество, то ненавистна, потому что тогда он видит в ней олицетворение красивой зловредности, – демоническую силу, победительно направленную ко злу и на пагубу миру.
Пером Гоголя порождены едва ли не самые яркие, самые захватывающие изображения женской красоты, самые увлекательные ее гиперболизации. Но это не красавицы человеческой породы, а нечистая сила или стихийные духи, «нежить». Русалка, зримая Хомою Брутом в «Вии»; астральные тела утопленниц, русалки, зримые Левком в «Майской ночи», – и среди них русалка-оборотень, ведьма-коршун с когтями, клейменная черною точкой в бело-прозрачном теле. (Курьезно, что Розанов в «Опавших листьях» применил этот образ… к самому Гоголю: «Проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся стеклянная и вся прозрачная… в которой вообще нет ничего! Ничего!!»)
Значительнее всех этих трагических привидений мертвая Панночка в «Вии»: «красавица, какая когда-либо бывала на земле», «такая страшная, сверкающая красота», «пронзительная», «резкая». «Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо… И, однако, это мнимо-живая красота – мертвая ведьма-людоедка, вампир, труп. И какой труп!
Не Коринфская невеста, не Клара Милич – обманные призраки, символы красоты, безвременно похищенной смертью, не позволившею им использовать свой темперамент, выполнить свое природное предназначение для любви. Эти траурные фантомы возвращаются к живым возлюбленным, чтобы поэтически обменяться с ними прядями волос и нашептать красивый бред: «розы, розы, розы!».
Нет, Панночка «Вия» – мерзкий, гнилой труп, в трехдневном последовательном разложении пред глазами своей уловляемой жертвы. Гоголь не пожалел тут ни жутких глаголов, ни эпитетов: «вся посинела»; «труп синий, позеленевший»; «вперил в Хому мертвые, позеленевшие глаза»; «ударила зубами в зубы» и «глухо стала ворчать она и начала выговаривать слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы». Какие уж тут «розы, розы, розы» и «холодок зубов» Клары Милич!
Для ужасов третьей ночи Гоголь упразднил в своем чудовище даже определение пола. «С треском лопнула крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он… зубы его… губы его… “Приведите Вия! Ступайте за Вием!” – раздались слова мертвеца». Также в мужском роде. Красавица-ведьма как бы забыта и Хомою Брутом, и автором: обоим, в предельной их панике, зрится только свирепый людоед-«мертвяк».
Ни одного человеческого духовного просвета не допустил Гоголь в непроглядно черную тьму своего вампира. В этом разлагающем трупе посмертно живыми позывами бушуют лишь дары злого духа: неистовая сатанинская ярость, потребность мстительного мучительства и «физиологическая» жажда крови. Может быть, эта красавица, умевшая при жизни скидываться черной кошкой и старухой, – та самая чудовищная «старая чертовка, что в «Вечере под Ивана Купала», вцепившись руками в обезглавленный труп (младенца Ивася), как волк, пила из него кровь». Словом, такой же дьявол в образе женском, как Басаврюк в образе мужском.
Однако страшному Басаврюку Гоголь все-таки придал несколько комических черт, а смех всегда умягчает паническое впечатление, подбодряя намеком, что страшилище, – лишь ряженое пугало. Но Панночки в гробу, летающем со свистом по церкви, Гоголь сам так испугался, что не решился нарушить ее несравненную «гармонию ужаса». Это действительно самый законченный «кадавр» из всех литературных «кадавров».
Глубоко пессимистическое творение «Вий» и мифологически лукав его неопределенный конец.
Угрюма и зловеща заброшенная без богослужения ветхая церковь среди «пустого поля и поглощенных мраком лугов», в которой Хома Брут читает псалтырь над убитой Панночкой-ведьмой. Философ лепит восковые свечи по всем карнизам, аналоям и образам, и скоро «вся церковь наполнилась светом». Но от этого «вверху мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам».
А когда, по нечестивым заклинаниям мертвеца, ворвались чудовищным полчищем «адские гномы», «вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы». И в свершившейся борьбе Гоголь оставляет читателя в сомнении, которая же из двух сил победила?
«Гномы» добились своего, – обнаруженный ужасным Вием Хома Брут умер от страха. Значит, демоны мрака одолели: желанная добыча досталась им в когти.
Но крик петуха не дал бесам использовать победу. «Испуганные духи бросились, как попало, в окна и двери, но не тут-то было». Значит, взяла конечный верх все-таки благая, светлая сила, ибо полонила темную и покарала приковав ее на веки веков к месту ее кощунственного вторжения.
Поутру, «вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги».
Ключ к запертой шкатулке. Гоголь, Андрей Белый, Мейерхольд
Вековому заблуждению, утвердившемуся в русском обществе ошибочного понимания репутации Гоголя как «реалиста», много содействовал театр – именно «школа Щепкина», с его учениками и последователями (Пров Садовский, Мартынов, П. и С. Васильевы, Шумский, Самарин и др.)
. Она владела театром, можно сказать, потомственно. Сперва через долголетнее непосредственное влияние этого блестящего артистического поколения (Прова Садовского, я, двенадцатилетним мальчиком, успел видеть однажды. Шумского и Самарина отлично помню из юношеских лет во многих ролях). Затем через «традицию», которой досталась еще на несколько десятилетий. Заколебалась она не ранее конца XIX века.
А. Ф. Писемский – реалист до мозга костей, в жизнь свою не написавший ни одной «сказки» или «фантазии», понимавший, ценивший и любивший Гоголя исключительно как реалиста и сам отличный актер-исполнитель гоголевских ролей
, – свидетельствует:
«Не многие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами массы публики, как Гоголь. Надобно было несколько лет горячему, с тонким чутьем критику (В. Белинскому), проходя слово за словом его произведения, растолковывать их художественный смысл и, ради раскрытия этого смысла, колебать, иногда даже пристрастно, устоявшиеся авторитеты; надобно было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении; надобно было наконец обществу воспитаться, так сказать, его последователями, прежде чем оно в состоянии было понять значение произведений Гоголя, полюбить их, изучить и развить, как это есть в настоящее время, в поговорки»
.
«Щепкинский театр» использовал Гоголя для своего нарождения, воспитания и развития; но и Гоголя он подчинил своим реалистическим требованиям: играл его, как сам хотел, не стесняясь мистическими толкованиями и желаниями автора.
Гоголь не любил своего «Ревизора» на сцене. «Представление “Ревизора” произвело на меня тягостное впечатление», – писал он Жуковскому, даже десять лет спустя после петербургского и московского «Ревизора». Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего»
.
Он написал несколько руководящих этюдов-наставлений как надо играть «Ревизора» и два огромных комментария к нему в драматической форме типа сократовских диалогов. («Развязка «Ревизора» и «Театральный Разъезд».) Он устраивал авторские чтения комедии, чтобы учить актеров, которые, к слову сказать, приходили на чтения крайне неохотно и лишь немногие выносили из них понимание авторских заданий или хоть смутную догадку, чего он ищет. Нравится публике им было важнее, чем удовлетворить автора.
А публика желала и любила реального «Ревизора». Хотела, чтобы Хлестаков был просто щелкопером, а не лживою «светскою совестью». Городничий – просто уездным хапугой, Держиморда – Держимордой, и финальный жандарм – просто жандармом, а не карающим ангелом «настоящей совести». Или даже, как уверяет Андрей Белый, «жандарм – рок, пережитый художником Гоголем по Эсхилу; он рок – над Гоголем, Дубельтом, Николаем, Империей»
.
Таким образом, Гоголь никогда не видел на сцене того «Ревизора», который мечтался ему в «Развязке» и в «Театральном разъезде».
Символическое толкование комедии стало просачиваться на русские сцены только, когда их обвеяло духом Ибсена и Метерлинка
, и полюбились обществу комментарии Мережковского, Брюсова
и других «декадентов». Зато с этих починов символический Гоголь начал и в театре, и в критике расти с стремительной быстротой, так что не замедлил дорасти до полного исчезновения реальности за символикой. Тень его на том свете, казалось бы, должна была вздохнуть радостно: «наконец то!». Но, как все удачи Гоголя, и эта оказалась смешанною с неудачею, и притом столь острою, что она уничтожила значение удачи и возбуждает сомнение в самой ее возможности.
В последние годы много шума наделала советская постановка «Ревизора» Мейерхольда
. Ее много и резко бранили, как возмутительную пародию. Судя по рецензиям, она действительно полна нелепыми и ненужными «отсебятицами», исказившими текст и привычный нам сценический строй гениальной комедии.
Осуждение Мейерхольда отнюдь нельзя приписать исключительно консервативным вкусам и привычкам публики и критики, закоснелых в «традициях» и тенденциозно предубежденных против новшеств Мейерхольда как декадентского измышления ради «революционного достижения». Резкие приговоры Мейерхольду вынесены «контрреволюционною» зарубежною печатью, но не мягки они и в официальной печати большевиков
.
Однако и там, и там, и в Зарубежье, и в СССР, сквозь дружный гул голосов, Мейерхольда порицающих и хулящих, слышны и отдельные возгласы склонных дать ему снисхождение, а то и вовсе его оправдать. А, например, Андрей Белый, едва ли не самый фантастический «гоголист» XX века, превознес Мейерхольда до небес и гимном во славу мейерхольдова «Ревизора» заключил свою книгу «Мастерство Гоголя», видя в мейерхольдовском труде точку и синтетический ключ ко всему Гоголю
.
Для Андрея Белого – постановка «Ревизора» – едва ль не последнее достижение не русской, а мировой сцены. Весьма знаменательно, что достижение это – и в Гоголе, и посредством его; она – не точная фантазия мысли, в себя вобравшей особенности мастерства и им давшей вещественное оформление, как знак, до чего Гоголь-мастер в нас жив. «Мейерхольд вынул нам Гоголя из самого гроба «собрания сочинений». «Соединив конец “Ревизора” с концом “Мертвых душ”, впаял оба конца и конец Гоголя». «Всюду палец (режиссера) показывает: «Гоголь в целом – вот что!». Постановка – сжатые в образ опыты исследования: «текстология Гоголя!»
.
«Гоголь, автор комедии, неотделим от прозаика-декламатора и декоратора, зоркое око которого дало недаром ведь выставку ярких провинциальных полотен; Гоголь – актер, чтец и мим – рвался к тому, чтобы голос его раздавался на сцене. Мейерхольд выполнил просьбу Гоголя, согласовав ритм, жест и красоту с наличием звукового образа Гоголя; у него и живопись, и предметность, и интонация – «Гоголь». Но ахнули: «Это ли “Ревизор”? “Оскорбил” память Гоголя! Надо бы кричать: впервые дал! Основные гоголевские словесные ходы: гипербола, звуковой, жестовый и словесный повторы, фигура фикции, лирика авторских отступлений (страницами), вводные предложения с деталями, будто ненужными (нужными!), читателю в лоб, превосходная степень, столпление действий, предметов, эпитетов до размножения каждого данного образа. Все дано вещественным оформлением Мейерхольда»
.
Оставляя без обсуждения восторги Андрея Белого «читателю в лоб» и брань противников Мейерхольда, коснусь сути дела, независящей от того, исказил ли Мейерхольд «Ревизора» или украсил: вопроса о том, имел ли Мейерхольд право подойти к «Ревизору», как к творенью символическому и допускающему фантастическую трактовку?
Этот вопрос едва ли может быть решен отрицательно. По-видимому, Мейерхольд не справился с большой задачей, которую себе поставил, но это – неудача его малой даровитости или дурного вкуса, т. е. личных качеств, а никак не самой задачи. В ней он преследовал, хотя по ошибочно взятой дороге, но как раз ту цель, что указывает Гоголь: внушить зрителю, что ПОД оболочкой веселой комедии «Ревизора» скрывается грозная общественная трагедия.
Рецензируя постановку Мейерхольда, сотрудница парижского журнала «Числа» Ю. Сазонова выявляет, что режиссер и впрямь развернул пред публикой картину «города, какого нет и быть не может», – города-призрака, города в четвертом измерении.
«В “Ревизоре” резко и определенно сказывается тяготение к реализму, смешение его с фантастикой и потребность пояснять слова жестами, которые в пантомиме назывались «описательными». Действие не развивается равномерно, с моментами передышки, но стремится в каком-то крутящемся водовороте, все время сохраняя крайне напряженный темп. Как бы для показания внутренней бесцветности этого движения среди множества человеческих фигур, все время крутящихся и юлящих, в центре поставлено выдуманное режиссером маленькое облезлое существо, молчаливое, жалкое, полусонное – и оно определяет какую-то статику в этой динамике пущенного махового колеса». (Не видав своими глазами мейерхольдова «Ревизора», не решаюсь утверждать, что символизирует эта облезло-недвижная центральная фигура. Вековую пошлость, что ли? Или захудалого «чорта», сонно владычествующего в неизменяемо трясинном городе? Г-жа Сазонова не объясняет.)
Каков же психологический результат этой бешеной суматохи? По словам рецензентки, именно тот, какого искал творец «Ревизора»: трагическое.
«“Тягостное впечатление”, о котором говорит Гоголь и которое в последние десятилетия смягчилось сознанием отдаленности изображенной эпохи, сгущено до полного ужаса, и круг безвыходного отчаяния кажется на веки замкнутым и непреходимым… Несмотря на костюмы николаевской эпохи, стертость границ времени и пространства, созданные намеренным пренебрежением к реальности, приближает к нам действие настолько, что зритель ощущает себя в современности. Хлестаков из хвастуна и вертопраха превращается в странный образ какой-то метафорической пустоты; Сквозники-Дмухановские перерастают казаться символическими фигурами далеко отошедшей эпохи. Тягостный кошмар кажется вечным и непреодолимым»
.
Следовательно, худо ли, хорошо ли, это другой вопрос, но выполнена, по крайней мере, наполовину прямая Гоголева программа: зрителю предлагается «побывать в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, – в котором бесчинствуют наши страсти как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей»
. Пред зрителем, дерзнувшим проникнуть в этот таинственный, небывалый, но вездесущий город, «открываются такие страшилища, что от ужаса поднимается волос»
(«Развязка»). Он видит оправдание знаменитого Гоголева эпиграфа: кривые рожи, в кривизне которых нисколько не виновато то комическое зеркало, потому что они зверски и скотски искривлены самою природою, наделившей их зверскими и скотскими страстями.
Каков плод этакого созерцания? Нехороший. Вторая половина гоголевой программы, бодрящая упованием, – проваливается. «Зритель теряет веру в возможность спасения. Та духовная площадка, с которой смотрел Гоголь и откуда на зрителя падал свет надежды, не существует в новой переделке, и “смех, родившийся из любви к человеку”, сменяется горькой и безнадежной гримасой ненависти. Ненависть и отвращение к человеку является содержанием мейерхольдовой постановки»
.
Это – несомненно, не от Гоголя, но против Гоголя. По его мысли, «искусство есть примирение с жизнью», а его комедия должна «все, что ни есть, от мала до велика» подвигнуть на служение «Тому же, Кому все должно служить на земле» и возносить «туда же кверху, к Верховной вечной красоте!»
То обстоятельство, что «Ревизор» Мейерхольда, вместо вознесения кверху, к Верховной вечной Красоте, опустился куда-то совсем насупротив, глубоко вниз к низменному безобразию, зависит прежде всего, конечно, от жестоких нравов и диких вкусов государства, в котором этот режиссер работает «по социальному заказу» и атмосферой которого он, волею не волею, пропитан. А может быть, и от личного пессимистического мировоззрения и мрачного характера самого г. Мейерхольда. Это опять-таки случайное, личное, временное. Неудача по внешним причинам, которая есть, но которой, в лучших социальных условиях, могло бы и не быть.
Но ведь большой вопрос: Гоголь-то сам верил ли – в самом деле – в благотворный этический исход своей символической программы? Ведь знаменитый программный монолог «Развязки» – проповедь «Первого комического актера» – притча о «ключе к запертой шкатулке» с финальным призывом «кверху, к Вечной красоте» – выражает только, как, по намерению автора, должен быть понимаем и какое действие на зрителя должен оказывать «Ревизор». Но понятен ли он так и таково ли его действие на деле, остается под сомнением.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: