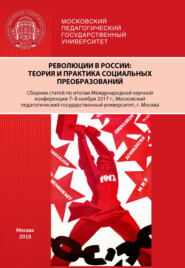 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
В мае, июне и октябре произошли волнения в воинских частях, расположенных в различных городах Словакии. Солдаты отказывались ехать на фронт, а в некоторых частях – в 71-м пехотном полку, в Претповском гарнизоне и др. – поднимали восстания, жестоко подавленные австрийскими властями230. Надо подчеркнуть, что большую роль в развертывании революционного движения в Словакии играли, как писала австрийская полиция, «солдаты, возвращающиеся домой из русского плена»231. Особенно широкий размах революционное движение в Словакии получает с осени 1918 г. Идея создания Советов здесь была особенно популярной именно в это время. После ухода из Словакии австро-венгерских войск, словацкие рабочие и солдаты в конце декабря 1918 г. создали Революционный комитет, призвавший Рабочие советы взять власть в свои руки. Была организована Красная Гвардия. Но 31 декабря войска чехословацкого правительства заняли Братиславу и установили в Словакии свои порядки. Хотя некоторые Рабочие советы, например во Врутках, действительно представляли собой органы власти, но они не обеспечили себе вооруженной защиты и потому почти без сопротивления уступили власть представителям правительства. Однако забастовочное рабочее движение в Словакии не утихало и в феврале и марте 1919 г. Усилилось также и крестьянское движение. «Крестьяне и солдаты захватывали помещичьи земли, а кое-где поднимали восстания и устанавливали свои органы власти»232. После вступления в пределы Словакии венгерской Красной Армии Советы как органы рабоче-крестьянской власти начали создаваться повсеместно. 16 июня 1919 г. в Прешове Словакия была объявлена Советской республикой. Но Словацкая Советская республика просуществовала только три недели. В июле румынские, югославские и чехословацкие войска под командованием французских генералов начали наступление на Венгрию. Венгерская Красная Армия отступила из Словакии, Советы были разогнаны, а 1 августа румынские войска вошли в Будапешт, и Венгерская Советская республика пала.
Что касается Болгарии, то ко времени Октябрьской революции она уже была самостоятельным государством, но, находясь под властью немецкой династии Кобургов, втягивалась в орбиту политики Германии и Австрии, а поэтому часто противопоставлялась другим балканским народам. После Октябрьской революции и здесь назревает стремление к освобождению от немецкого влияния. Выражением этого стремления и протеста против антинациональной политики правительства, вовлекшего болгарский народ в войну, явились активные антивоенные выступления, развернувшиеся в Болгарии сразу после Октябрьской революции. Декрет Советского правительства о мире был сразу же переведен на болгарский язык, отпечатан и широко распространен среди гражданского населения и в воинских частях. Он стал программой болгарского антивоенного народного движения, требовавшего «принятия советских предложений и прекращения войны за чуждые трудящемуся народу интересы»233.
Антивоенное движение выражалось не только в митингах и собраниях, не только в «женских бунтах», в которых принимали участие и инвалиды войны, и отпускники солдаты, и молодежь, но также в создании в воинских частях тайных солдатских комитетов, в широких волнениях солдат, требовавших немедленного заключения мира. Однако вплоть до 28 сентября 1918 г. никакие меры правительством не принимались. И только после поражения в секторе Градо-Поле, когда вспыхнуло солдатское восстание, угрожавшее перерасти в гражданскую войну, правительство поспешило обратиться к командованию войсками Антанты с просьбой о перемирии, которое и было подписано 29 сентября. Таким образом, народ добился заключения мира.
Добившись прекращения войны, болгарские революционеры развернули классовые бои, что создало в конце 1918 г. и в 1919 г. революционную ситуацию. Нарастанию движения способствовали тяжелое материальное положение большинства населения, вызванная войной хозяйственная разруха, недостаток продовольствия в стране, безработица, большое количество беженцев из районов военных действий, где хозяйство пришло в полный упадок. В начале 1919 г. выступили шахтеры Перника, которыми руководил Георгий Димитров. 27 июля 1919 г. состоялись массовые народные выступления, а в конце 1919 г. к движению присоединились транспортники. Важно отметить, что демонстранты и стачечники выдвигали кроме экономических и политические требования: отмены военного положения, восстановления и расширения политических свобод и т.д. Руководящей силой революционного движения в Болгарии была Болгарская рабочая социал-демократическая партия.
Под воздействием Октябрьской революции усилились движения и в болгарской деревне. Активизировался Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС), имевший большое влияние в деревне.
Таким образом, под непосредственным влиянием Октябрьской революции 1917 г. развернулось, принявшее весьма широкий размах, национально-освободительное движение славянских народов. Оно привело к образованию ряда независимых государств, что имело большое значение для дальнейшего движения за социальное освобождение в странах Балканского региона.
Политическая, экономическая и культурная сущность советской революции и советского общества
Особенности общественно-политического участия в СССР
Березкина О.С.
Аннотация. В статье рассматривается общественно-политическое участие в СССР как один из ключевых параметров режима «тоталитарной демократии». Участие, помимо голосования на плебисцитарных выборах, реализовывалось в многообразных формах, не только типичных для стран с демократическими процедурами, но и отражавших специфику советской системы. Эти формы соответствовали представлениям партийной элиты о целях и возможностях вовлечения рядовых граждан в общественно-политическую жизнь. Расширение участия и его институциализация позволяют говорить о признаках политической модернизации, о ее особой, по сравнению с Западом, модели в СССР.
Ключевые слова: политическое участие, коммунистическая партия, Советы, народный контроль, легитимация, «тоталитарная демократия», политическая модернизация.
FEATURES OF SOCIAL AND POLITICAL PARTICIPATION IN THE USSR
Beryozkina O.S.
Abstract. The article discusses political participation in the USSR as one of the key parameters of the regime “totalitarian democracy”. Participation, other than voting in plebiscite elections, was implemented in diverse forms, not only typical for countries with democratic procedures, but also reflecting the specifics of the Soviet system. These forms corresponded to the views of the party elite on the goals and ways of involving ordinary citizens in public and political life. Widening participation and its institutionalization allow us to speak about the signs of political modernization, of its special, compared to the West, model in the USSR.
Keywords: political participation, the Communist party, the Soviets, the people's control, legitimation, "totalitarian democracy", political modernization.
Вовлечение масс в широкомасштабное участие в общественно-политической жизни стало характерным признаком модернизационных изменений в СССР. В режимах с демократическими процедурами санкционированное (законное) участие реализуется в формах голосования на выборах, деятельности в качестве «активистов» в избирательных кампаниях, посещения митингов и демонстраций, участия в деятельности партий и других общественных организаций, в формах индивидуальных контактов с политиками, письмах в органы власти, в СМИ и др. Все эти формы масштабно практиковались в СССР, однако их содержание, как и трактовка участия в целом, имели существенные отличия.
Во-первых, отсутствовала возможность альтернативных выборов, что придавало любым выборам плебисцитарный характер (надо было ответить «да» или «нет» по единственной кандидатуре). Тщательная агитационно-пропагандистская и организационная подготовка к выборам в Советы в совокупности с политической поддержкой или, по крайней мере, лояльностью населения к власти, установкой на сотрудничество с ней обеспечивали высокую явку и почти стопроцентную поддержку выдвинутых кандидатов. Даже десятые и сотые доли процента «против» анализировались и расценивались как результат «плохой работы по подбору кандидатур и их выдвижению»234.
Во-вторых, общенародные выборы не затрагивали механизма формирования структур, в которых сосредоточивалась реальная политическая власть (партийный аппарат), и превалирующей политической функцией этих выборов была легитимация режима. В-третьих, все другие формы легальной политической активности могли осуществляться только под патронажем партийной элиты и в устанавливаемых ею границах. Наконец, все это было тесно связано не только с практической потребностью сохранения политического режима, но с самой марксистской доктриной «отмирания» государства после уничтожения антагонистических классов, когда народ непосредственно участвует в «повседневном управлении» общественными делами.
Попытки совмещения авторитарной власти с установками на «самоуправление» народа дали специфический режим, при котором участие осуществлялось в действительно широких масштабах, однако было дистанцировано от процесса отбора политических лидеров, не имело, помимо партии, каналов организованного воздействия на процесс принятия принципиальных решений и проявлялось в наибольшей степени на стадии реализации и корректировки решений в процессе их оценки и проверки исполнения. Вместе с тем политизация всей общественной жизни превращала даже борьбу «с бесхозяйственностью» или «за повышение качества продукции» в вопрос политической значимости, а участие в соответствующих мероприятиях – в действия по выполнению директив партии и, следовательно, в показатель политической поддержки режима.
При социализме, подчеркивал В.И. Ленин, «масса населения поднимается до самостоятельного участия не только в голосовании и выборах, но и в повседневном управлении»235. На практике именно на выработке «безопасных» для режима видов участия в повседневном управлении был сделан акцент в ходе поиска практических форм, в которых могла бы осуществляться «демократия для большинства». Найденные же формы приобрели действительно беспрецедентный размах. Речь идет о системе «наказов» избирателей своим депутатам, практике внештатной («на общественных началах») работы в партийных и советских органах, об участии в органах народного контроля, о массовом характере писем и обращений в партаппарат, печать, другие инстанции с жалобами, указаниями на недостатки и предложениями по их устранению, о ячейках самоорганизации и самоуправления в виде различных «советов», «товарищеских судов», собраний трудовых коллективов и пр. Все это активно функционировало в режиме политической монополии КПСС, создавая сложный и недостаточно исследованный на сегодняшний день механизм взаимосвязи власти и общества.
Отношение партийной элиты к массовому участию граждан окончательно определилось к концу «переходных» 1920-х гг., когда шел поиск приемлемых с точки зрения сохранения режима и реализации его целей организационных форм. Поворот к политике активного привлечения масс к политическому процессу на стадии контроля за реализацией решений начался после завершения сотрясавших партию дискуссий, стабилизации положения внутри партии, в условиях укрепления партийного аппарата. Суть нового курса состояла в том, чтобы выйти за пределы «узкого круга правящих» в решении насущных проблем, «воспитать» в массах ненависть к недостаткам, «обязать» их следить за исполнением директив и «в случае чего» «сигнализировать», прежде всего, в парторганы, органы ЦКК-РКИ (Центральная контрольная комиссия – Рабоче-крестьянская инспекция). Партийные лидеры отмечали, что массы «рвутся» на борьбу с недостатками, и, если возглавить их инициативу и направить ее в нужное русло, то это может дать «быстрый политический эффект»236.
С конца 1920-х гг. активизировалась деятельность «бюро жалоб», началась запись добровольцев для участия в их деятельности. Тысячи граждан участвовали в кампаниях по расследованию жалоб: например, на Украине в «обследованиях» организаций и работе бюро жалоб окружных РКИ 1929 г. участвовало более 180 тыс. человек237. Специально организовывавшиеся «группы содействия», «рабочие бригады» призваны были оказать активную помощь КК-РКИ в «чистке» госаппарата от бюрократов и выявлении «вредителей» (в результате, например, в Центросоюзе штаты сократились на 50%). Распространялось «шефство» рабочих над учреждениями: к 1932 г. около 1500 предприятий были вовлечены в «шефскую работу»238. Создавались «ячейки содействия» РКИ на предприятиях и в учреждениях, комсомол сформировал «легкую кавалерию» молодежи, активно участвовавшей в массовых «налетах» на учреждения. Сотни тысяч человек участвовали в собраниях и общественных судах, в открытых партсобраниях, производственных совещаниях, митингах и демонстрациях, посылали письма в газеты и т.д.
Безусловно, партийная элита, «отпустив вожжи», развязала сложноуправляемую стихию общественной активности, способствовавшей проявлению не только положительных, но и худших человеческих качеств, обрекавшей массу управленцев в лучшем случае на увольнение и «общественный суд», не говоря уже о реальных известных судебных процессах этого периода, организованных и подготовленных «сверху». Однако подключение механизмов массового участия решало на тот момент важные стратегические задачи, давая зримое подтверждение постулатов о «пролетарской демократии», возможности рядовых тружеников участвовать в повседневном управлении государством, связывая политическую элиту и массу в ходе грандиозной общественной трансформации. Курс на масштабное расширение участия становился одним из факторов легитимации политического режима.
В 1934 г. ЦКК-РКИ была ликвидирована, вновь образованные контролирующие органы наделялись гораздо меньшими полномочиями, фактически отменялась сеть «групп содействия» (хотя вплоть до конца 1930-х гг. работа «общественности» оставалась достаточно активной). Постепенный процесс «затухания» наиболее радикальных форм участия демонстрирует динамика создания «общественных комиссий» при партийных комитетах с привлечением рядовых коммунистов: если в 1927–1934 гг. число комиссий при Политбюро ЦК ВКП(б), Оргбюро, Секретариате быстро росло, то в последующие годы оно неуклонно снижается и в 1937 г. не создается ни одной239. В 1939 г. принимается постановление, предусматривающее ограничения привлечения трудящихся к работе госконтроля, а положение о Народном комиссариате госконтроля, принятое в предвоенный 1940 г., вовсе не содержит упоминаний о связи с рядовыми гражданами240. Возрождение массовой активности в формах и масштабе, сопоставимых с периодом 30-х гг., связано уже с деятельностью Н.С. Хрущева.
В постсталинскую эпоху участие масс в общественно-политической жизни упорядочивается и институализируется, снижая накал, по сравнению с периодом 30-х гг., и в большей степени «дистанцируясь» от номенклатуры (уже нельзя было добиться с помощью «сигнализирования» не только немедленного смещения, но и преследования руководителя). Однако масштабы его отнюдь не становятся меньшими. Так, в 1960–1970-е гг. расширялось число постоянных комиссий в Советах, к работе которых привлекались внештатные сотрудники, создавались многочисленные секции, депутатские группы и пр. В середине 1960-х гг. группы внештатных инспекторов и инструкторов насчитывали 400 тыс. активистов, в деятельности постоянных комиссий всех местных Советов участвовало около 2,5 млн «общественников» (через 10 лет их число вырастет незначительно и в целом «застой» отразился и на проблеме участия, когда «вал» – количество охваченных общественной работой – во многом заменял действенность предпринимаемых усилий). В ходе подготовки к выборам в Советы на собраниях избирателей принимались сотни тысяч «наказов», причем, по имеющимся данным, подавляющее большинство из них выполнялось241. Конечно, содержанием наказов были преимущественно не политические требования, а «нужды и интересы трудящихся», связанные с решением социально-бытовых проблем, однако стоит учесть, что система «наказов» являлась одним из важных компонентов взаимосвязи власти и общества, позволяя учитывать наиболее существенные для рядовых граждан вопросы.
Одной из форм общественной активности, особенно развитой в СССР, были «письма трудящихся» в печать, партийные и государственные органы. Такие центральные газеты и журналы, как «Правда», «Коммунист» получали, по данным на 1988 г., в среднем полторы тысячи писем в день, причем на одну только критическую статью О. Лациса в «Известиях» поступила, по его словам, тысяча откликов. Г. Селезнев, тогда главный редактор «Комсомольской правды», отмечал огромное количество писем с жалобами, поступающих в газету242. М. Горбачев в контексте обсуждения вопроса об изменении механизма избрания первых секретарей упоминал о письмах, в которых содержались предложения на этот счет: «Мне об этом письма идут, я перевариваю их все и, естественно, обдумываю»243. Огромное множество писем в партийные и советские органы содержало сведения о неправомерных действиях конкретных чиновников на местах, бюрократизме, различных нарушениях, касалось решения социально-бытовых проблем.
Со второй половины 1950-х гг. началась реанимация системы народного контроля – вновь был взят курс на тесную связь с общественными организациями, формирование групп и постов содействия, привлечение внештатных инспекторов, контролеров, возрождение активной деятельности «бюро жалоб и предложений трудящихся». К концу 1965 г. в группы и посты контроля трудовыми коллективами было делегировано более 5 млн человек. Народные контролеры развернули бурную деятельность: по данным на 1966 г. «по предложениям народных контролеров» административно-управленческий и обслуживающий персонал за несколько предшествовавших лет сократился на 300 тыс. человек244. Несмотря на наличие ряда властных полномочий у комитетов народного контроля, основным средством воздействия считалась «проработка» на собраниях общественности, общественное мнение.
Такой подход имел под собой определенную почву: например, по данным исследований социологов, проведенных в 1970-е гг. в Свердловской и Челябинской областях, положительное отношение к общественной работе высказали 84% опрошенных, из них 68% заявили, что активно в ней участвуют. В стране работали многочисленные «комитеты», «советы», «товарищеские суды», «народные дружины» и другие органы, в которых могла проявиться активность людей245. Конечно, официальные источники фиксировали внимание преимущественно на «валовых» показателях, однако даже с учетом этого фактора в них нашли отражение важные особенности общественно-политического участия в СССР.
Следует подчеркнуть, что в советском обществе существовали значительные элементы активистской культуры, обладавшие своеобразием. Массовое участие, включавшее, помимо плебисцитарных выборов, и другие разнообразные формы, было одной из характерных черт «тоталитарной демократии»246. На наш взгляд, говорить исключительно о мобилизованном участии было бы упрощением реальной картины: многие советские граждане сознательно проявляли общественную активность, которая была способом самореализации и формировала чувство сопричастности жизни страны. Если принимать расширение и институционализацию участия в качестве критерия политической модернизации, стоит говорить о ее особой, по сравнению с Западом, модели в СССР. Параметры сформировавшейся «тоталитарной демократии», причины ее успехов и конечной неудачи, особенности советской политической культуры нуждаются сегодня в дальнейших исследованиях.
Изменение художественной и литературной атмосферы после 1917 г. в России
Ефремов С.А.
Аннотация. В статье говорится об отношении высшего партийного руководства к литературе и ее роли в обществе. Также рассматриваются различные аспекты изменения художественной и литературной атмосферы в послереволюционной России. На примере А. Белого, его мемуарной и дневниковой прозы, показано изменение восприятия поэтами Серебряного века обстановки в СССР.
Ключевые слова: революция, большевики, Серебряный век, футуристы, символисты.
THE CHANGE IN ARTISTIC AND LITERARY ATMOSPHERE AFTER 1917 IN RUSSIA
Efremov S.A.
Abstract. The article talks about the attitude of the top party leadership in literature and its role in society. Also discusses various aspects of the change in art and literary atmosphere in post-revolutionary Russia. The example of A. Bely, his memoirs and diaries prose shows the change of perception of the poets of the Silver age situation in Russia.
Keywords: revolution, the Bolsheviks, the Silver age, the futurists, the symbolists.
Практически во всех работах, посвященных литературе «позднего» Серебряного века, поднимался вопрос об изменении условий жизни поэтов и писателей после революции, и – шире – изменении условий жизни в СССР. Конечно, в работах советского периода о многих причинах этих перемен умалчивалось – так, скажем, Э. Миндлин писал, что «то было время … нищих и вдохновенных людей»247 (в эссе о М. Цветаевой), в то время как следовало бы говорить о гибельных (и в буквальном смысле тоже) условиях жизни. Еще в большей мере внимание художественной атмосфере в послереволюционной России, динамике ее изменения уделяется в источниках личного характера.
Официальная позиция большевистской партии в отношении литературы, артикулированная в решениях съездов и публицистических статьях ее лидеров, была очевидной для оппонентов и сомневающихся.
Еще в 1905 г. в известной статье «Партийная организация и партийная литература» В.И. Ленин пишет, что «получить неклассовую литературу и искусство… будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе»248. Пока же не наступило это «прекрасное завтра», вождь мирового пролетариата намеревался «лицемерно-свободной… литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу»249. Позже, в 1920 г., уже после захвата власти, Ленин уточнял: «В советской рабоче-крестьянской республике вся постановка дела… должна быть полностью проникнута опытом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры… Только дальнейшая работа на этой основе … может быть признана развитием действительно пролетарской культуры»250.
В схожем духе (правда, не о литературе или культуре, а вообще о печати) высказывался Сталин: «Печать – самое сильное оружие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом»251. И даже Луначарский, находившийся в приятельских отношениях со многими писателями и поэтами Серебряного века и покровительствующий им, вмешавшись в дискуссию 1922 г. о роли Пролеткульта и пролетарской культуры, заявил: «Пролетариат в высокой степени объективно заинтересован в создании для себя идеологического оружия»252, оговорившись, правда, что «тут может быть только… медленная постройка нового здания»253.
Таким образом, дискуссии о роли культуры вообще и литературы в частности в партии не возникало, разногласия были только по вопросу насколько быстро и радикально новые власти должны ставить себе на службу прежнюю «служанку буржуазии», то есть литературу.
Надо сказать, что, несмотря на отсутствие дискуссий, новые власти вполне отдавали должное возможностям литературы, следствием чего явился тот факт, что новый «Декрет о печати» появился всего лишь через два дня после их прихода к власти. Столь оперативное издание нового Декрета диктовалось, конечно, необходимостью как можно более скорого закрытия явно оппозиционных изданий (скажем, либеральных вообще и кадетских в частности), но и важностью подведения под «революционные» меры некоей законодательной базы.
В первом же предложении Декрета было заявлено: «Временный Революционный Комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков»254, – этими словами оправдывались уже совершенные действия цензурного характера. А далее заявлялись уже с прицелом на будущее: «Закрытию подлежат лишь органы прессы… сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов… призывающие к деяниям явно преступного характера»255.
Эту новую политику большевистских властей сами литераторы, безусловно, почувствовали: в стихах целого ряда поэтов, восторженно принявших февральскую революцию, в отношении революции октябрьской звучат нотки сомнения. В меньшей степени это коснулось футуристов, в массе своей принявших и октябрьскую революцию (хотя, скажем, Д. Бурлюк и И. Северянин оказались в эмиграции), в гораздо большей степени – тех, кого сами большевики относили к числу «попутчиков».
Скажем, в стихотворении О. Мандельштама «Кассандре» (опубликовано в последний день 1917 г.) рисуется достаточно неприглядная картина современных событий: «На площади с броневиками // Я вижу человека – он // Волков горящими пугает головнями: // Свобода, равенство, закон»256.



