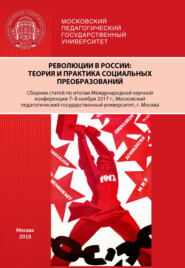 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
События, происходившие на Востоке в 1919–1920 гг., говорили о том, что влияние победы Великой Октябрьской социалистической революции на борьбу народов Востока имело решающее значение. С каждым днем продолжала расширяться борьба народов Индии и Китая, Персии и Афганистана за достижение национальной независимости. В этот период Советское правительство было вынуждено решать вопросы, связанные с Гражданской войной, и не могло оказать полноценную помощь борющимся народам Востока.
Практическая реализация этой помощи началась в 1921 г. 26 февраля 1921 г. был заключен договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией. Провозглашались новые принципы взаимоотношений между странами, основанные на решениях, принятых и провозглашенных Советским правительством после победы Октябрьской революции.
Помощь народам Востока заключалось не только в продвижении лозунгов, родившихся в революционной борьбе, она носила со стороны охваченной Гражданской войной Советской России и военный характер. Выступая 28 февраля 1921 г. на заседании Пленума Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов, В.И. Ленин сказал: «И если народы Востока до сих пор были только овечками перед империалистическими волками, то Советская Россия первая показала, что, несмотря на ее неслыханную военную слабость, протянуть к ней когти и зубы не так-то легко»221.
Таким образом, переориентация реализации идеи мировой революции на Восток доказала состоятельность представлений об объективности революционного процесса. Борьба народов Востока, вдохновленных успехом Великой Октябрьской революции и деятельностью Советского государства, его поддержкой национально-освободительной борьбы угнетенных народов, привела в конечном итоге к разрушению мировой колониальной системы и новому развитию мирового сообщества, где народы Востока стали равной силой с развитыми мировыми державами.
Геополитическая роль Французской и Русской революций в мировом цивилизационном процессе
Шепелев М.А.
Аннотация. Великая Французская революция рассматривается в качестве «водораздела» между эпохами высокой культуры и цивилизации как процесса ее разложения в истории Запада, а Великая Русская революция – как первый глобальный индигенизационный проект, положивший начало процессу исторического реванша Незапада.
Ключевые слова: Великая Французская революция, Великая Русская революция, цивилизация, универсализм, модернизация, индигенизация.
THE GEOPOLITICAL ROLE OF THE FRENCH AND RUSSIAN REVOLUTIONS IN THE WORLD CIVILIZED PROCESS
Shepelev M.A.
Abstract. the Great French revolution seen as a “Rubicon” between eras of high culture and civilization as a process of degradation in the history of the West, and the Great Russian revolution – how the first global indigenizational project which began the process of historical revenge of the Non-West.
Keywords: the Great French revolution, the Great Russian revolution, civilization, universalism, modernization, indigenization.
Общность черт великих классических революций эпохи Модерна уже в разгар революционных событий в России привлекала к себе серьезное внимание. Не случайно, например, сначала Ленина сравнивали с Робеспьером, а затем Сталина – с Бонапартом. Осознавая наличие многих параллелей, отражающих общую логику революционного процесса, и большевики, и их противники прямо обращались к французскому революционному наследию, говоря словами К. Маркса, «для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы заставить снова бродить ее призрак»222: взять хотя бы названия «Учредительное собрание», должности «комиссаров» или избранное противниками революции наименование «белые». Однако помимо стилистической общности и наличия общей структурной логики в двух великих революциях, существует и определенная преемственность в плане их места и роли в мировом цивилизационном процессе.
Дело в том, что Великая Французская революция являет собой знаковый рубеж в истории Запада, а именно «водораздел» между эпохами высокой культуры и цивилизации в шпенглеровском значении этих понятий (не случайно он датировал 1800 г. вступление Запада в первую фазу цивилизации). Ликвидация «Старого порядка» с заменой абсолютизма и легитимизма народным суверенитетом и демократическим национализмом, отменой сословных привилегий, утверждением принципа единых для всех норм, созданием массовой «народной» армии на основе всеобщей воинской обязанности, введением всеобщего избирательного права и первыми проявлениями политики дехристианизации, воплощают завершение длительного периода поступательного движения высокой культуры Запада и начало ее инволюции в цивилизацию. Важнейшую роль в «запуске» этих процессов, безусловно, сыграли создание революционной Коммуны в Париже и установление якобинской диктатуры, не случайно считающейся вершиной Великой французской революции. И именно эти тенденции в дальнейшем получат развитие в европейской политике, экономике и культуре (что особенно очевидно с началом второй фазы цивилизации после 2000 г.). Все это позволяет говорить о том, что эта революция была не только социальной в традиционном понимании, но и цивилизационной (в специфическом шпенглеровском понимании).
Особенно стоит в связи с этим обратить внимание на процесс дехристианизации. Очевидно, что высокая культура Запада основана на христианской традиции (хотя и вобравшей в себя многие элементы античной культуры). И хотя с завершением эпохи религиозных войн религия была вытеснена на периферию светской общественной жизни, тем не менее христианские мировоззренческие установки, моральные нормы и ценности по-прежнему играли ключевую роль в повседневной жизни европейцев. Локальные антихристианские выступления время от времени встречались и в дореволюционном прошлом, но именно в революционной Франции была впервые предпринята попытка сделать дехристианизацию (и даже шире – детеизацию) частью государственной политики. Правда, на практике отношение власти к религии и священнослужителям было весьма различным в разных частях страны, а под давлением М. Робеспьера кампания дехристианизации была вскоре в значительной мере свернута, однако сам факт ее проведения уже был сигналом, обозначавшим принципиально новые тенденции в развитии Запада (можно сказать, открылось новое «окно Овертона»). Именно этот процесс, начало которому положила революционная Коммуна во главе с Шометом, получив развитие в ХIХ–ХХ вв., привел Запад к его нынешнему состоянию абсолютно релятивистского и даже воинствующе-секулярного общества, в котором под прикрытием «толерантности» преследуются внешние демонстрации христианского вероисповедания, а помещения церквей превращаются в магазины и отели.
В геополитическом смысле Великая Французская революция означала существенный пересмотр традиционных европейских представлений об организации международных отношений с позиций революционного универсализма, в дальнейшем получившего развитие в США (хотя сами революционные события и успехи революционных армий Франции напугали американских «отцов-основателей» не меньше, чем европейских монархов). Особенно примечательны четыре пункта, внесенного Робеспьером 24 апреля 1793 г. в Конвент проекта Декларации прав человека и гражданина, которые гласили: «1. Люди всех стран – братья, а различные народы должны помогать друг другу по мере возможности, как граждане одного государства. 2. Тот, кто угнетает один народ, заявляет себя врагом всех. 3. Ведущие войну с народом, с целью задержать успехи свободы и уничтожить права человека, должны подвергнуться преследованию всех, не только как обыкновенные враги, но как убийцы и бунтовщики – разбойники. 4. Короли, аристократы, тираны, кто бы они ни были, суть рабы, возмутившиеся против верховного повелителя земли, т.е. человеческого рода»223. Под всеми этими пунктами (если убрать упоминание о королях и аристократах) вполне могли бы подписаться и Вильсон, и Буш-младший, и Обама, чтобы использовать их для целей «нового мирового порядка» и «глобальной демократической революции».
Революция во Франции разворачивалась в атмосфере длительного англо-французского противоборства и во многом сама была его результатом, так как именно вызванное им финансовое истощение вынудило короля созвать Генеральные штаты, после чего «процесс пошел». Он подпитывался поначалу недовольством неспособностью «Старого режима» использовать во французских интересах даже поражение, нанесенное Британии в войне 1781– 1783 гг. Поэтому не так уж парадоксально выглядит тот факт, что «именно несчастный Людовик XVI, окончивший жизнь на гильотине, был единственным из Бурбонов, кому удалось выиграть войну против Англии»224.
В развернувшемся с новой силой противостоянии Британия выступала в качестве консервативной, а Франция – революционной силы, но не только в социально-политическом, а и в геополитическом смысле. Британская корона защищала стабильность пространственного порядка, который был положен в основу современной мировой системы, тогда как республиканская Франция впервые выступила носителем универсалистских тенденций, подорвавших этот порядок в начале ХХ в. В этом смысле революционные и наполеоновские войны представляли собой незавершенную геополитическую революцию. И все же влияние Великой Французской революции распространилось по всему западному миру и охватило даже Латинскую Америку, где революционные идеи способствовали Освободительной войне против испанского господства.
Но то, что не удалось Робеспьеру и Наполеону в борьбе с британским гегемонизмом, удалось Ленину и, особенно, Сталину – творцам первого в мире социалистического государства, ставшего ядром альтернативной «мировой социалистической системы». Благодаря им Великая Русская революция превратила гомогенную, неконкурентную мировую систему в гетерогенную, конкурентную. При этом она положила начало длительной эпохе идеологических войн. Идеологи большевизма выдвинули в 1920-е гг. два ключевых тезиса, которые легли в основу советской стратегии идеологической войны – тезис о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране и тезис о мирном сосуществовании государств с противоположным общественным строем как форме классовой борьбы. Провозглашая отказ от прямого военного столкновения с капиталистическими странами, концепция «мирного сосуществования» делала акцент на тактике мирной дипломатии посредством активного маневрирования, привлечения на свою сторону колеблющихся, «игры на межимпериалистических противоречиях», с опорой на поддержку мирового пролетариата и угнетенных наций, в интересах укрепления позиций социализма. Такое понимание «мирного сосуществования» не устраняло коренной противоположности между социализмом и империализмом, не отменяло борьбы между ними, но стимулировала дух состязательности, конкуренции. А без него едва ли у западных элит возникло бы стремление к социальным реформам, воплотившееся в построении «государства всеобщего благосостояния»: показательно, что с исчезновением конкуренции двух систем рухнула и данная модель.
Геополитическим итогом политики Сталина стало превращение СССР в самодостаточную, конкурентоспособную, лидирующую на мировом уровне цивилизацию, одну из двух мировых сверхдержав. Именно благодаря Сталину Великая Русская революция стала первым глобальным индигенизационным проектом, хотя едва ли замышлялась «ленинской гвардией» именно таким образом. Под индигенизацией понимается процесс адаптации техносферы традиционными цивилизациями к собственным культурным особенностям, который является основой утверждения незападных культурных ценностей, укрепления цивилизационной независимости незападных обществ в современном мире. Достаточно упрощенным, но в целом адекватным определением индигенизации является «модернизация без вестернизации».
Реализации этого курса под руководством Сталина в СССР способствовали принятие тезиса о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране, прекращение политики воинствующего атеизма и достижение примирения с РПЦ, а также борьба с «безродным космополитизмом», что успешно сочеталось с программами индустриализации и реализацией ядерного проекта. Этот курс явно обозначился в годы Великой Отечественной войны и после ее победоносного завершения, с превращением СССР из единственного социалистического государства в центр растущего социалистического содружества. С его появлением и расширением социализм в сущности стал идеологическим инструментом осуществления глобального индигенизационного проекта. Особую роль в его распространении сыграла поддержка социалистической революции в Китае, благодаря чему Сталин создал для СССР с провозглашением КНР мощного союзника в Азии. Понимая, что с Китаем невозможно вести себя так же, как с малыми странами Восточной Европы, Сталин взял курс на формирование стратегического союза Москвы и Пекина, основанного на признании особой самостоятельной роли КНР и ее специфических национальных интересов. Вообще, в известном смысле окончанием Великой Русской революции можно считать ХХ съезд КПСС и последовавший за ним разрыв с Компартией Китая: после этого верх берет ревизионизм, переросший в контрреволюцию 1991 г.
Следует отметить, что термин «индигенизация» стали использовать западные христианские миссии на заре Нового времени, он связывался прежде всего с переводом евангелических текстов на языки местных жителей, что облегчало вовлечение неофитов в христианские церкви (в этом смысле символично, что Сталин учился в православной духовной семинарии). Сегодня западная церковь почти не обращается к этому принципу, который сделал возможным появление так называемой аборигенной церкви, прочно привязанной к культурно-цивилизационным установкам определенной местности, но зато его давно взяли на вооружение соперничающие идеологические течения. В более широком культурном смысле индигенизация означает стремление видеть мир сквозь призму собственной культуры, или, иначе говоря, «глазами своего бога». Она способствует сохранению необходимого оптимума культурного разнообразия в мире, поддержанию альтернативных экономических укладов и воспроизводству привычных образов жизни.
Индигенизация предусматривает привлечение лишь тех элементов моделей модернизации, которые проходят оценку незападной системой на возможность их согласования и взаимодействия с традициями, созвучными культуре модернизирующегося общества. Процесс индигенизации в современных условиях является вариантом адаптации незападных систем к стремительно меняющемуся миру, к окружению, которое собственными изменениями бросает вызов соседям, и этот вызов должен быть воспринят и использован для дальнейшего совершенствования и развития.
Индигенизация означает, что привнесенные экономические и политические практики приобретают специфическую цивилизационную окраску, вписываются в конкретную цивилизационную систему в соответствии с ее нормами и иерархией ценностей. Классическими примерами процессов индигенизации является построение «социализма с китайской спецификой», становление японского, сингапурского и других восточных альтернативных капитализмов, и конечно же, «большевизация» коммунистического проекта в Советской России. Думается, что в этот ряд следует поставить и такие режимы, как франкизм и перонизм, сочетавшие модернизацию в ее технократическом понимании с национально-консервативной политикой. Но появление всех этих моделей так или иначе было обусловлено импульсом, который привнесла в мировую историю Великая Русская революция: без нее не появилась бы идеологическая альтернатива длительной монополии либерализма, создавшая конкурентную среду, в которой стали состязаться различные социально-экономические и политические проекты.
Именно Великая Русская революция активно способствовала «пробуждению Азии» и подъему национально-освободительных движений, приведших к крушению мировой колониальной системы и широкому распространению индигенизационных процессов (проекты арабского, африканского, индийского, индокитайского, индонезийского, индеанского социализма, «социализма с китайской спецификой», воплощавшиеся с разной степенью успешности). Результатом активизации процессов индигенизации в современном мире стало значительное усиление культуроцентризма, который становится своеобразным средством профилактики опасных вирусов неолиберализма и ответом на вызовы глобализма с его попытками насильственной унификации мира по западным стандартам.
В политической сфере «индигенизации способствует демократический парадокс: принятие незападными обществами западных демократических институтов поощряет и дает дорогу к власти национальным и антизападным политическим движениям». Это подтверждает, что цивилизационный стиль и традиции оказываются сильнее демократических квазиуниверсалий западного сорта, что отмечает С. Хантингтон, когда говорит, что «демократизация вступает в конфликт с вестернизацией, а демократия по своей сути является процессом, ведущим к защите местнических интересов, а не космополитизации»225.
Так что, хотя проект строительства социалистического общества в СССР был сорван, а социалистическое содружество оказалось разрушенным, Великая Русская революция все же имеет колоссальное всемирно-историческое значение. Если Великая Французская революция стала для Запада «Рубиконом» между высокой культурой и цивилизацией, то Великая Русская революция положила начало процессу исторического реванша Незапада над надломившимся западным миром. Не случайно классики евразийства тогда говорили об «исходе к Востоку», усматривая роль большевизма (как русской реакции на два столетия вестернизации) в том, чтобы поддержать национально-освободительные движения и возглавить поход против западной гегемонии (или можно выразиться иначе – движение за постсовременную мировую систему). То обстоятельство, что это движение шло под знаменем социализма – идеологии западного происхождения, причем исторически и ценностно наиболее близкой либерализму – не только не меняет его сути, но и демонстрирует восстановление способности незападных обществ абсорбировать и трансформировать западные идеологические влияния, используя их для защиты и продвижения собственных культурных ценностей, для укрепления своей самобытности перед лицом унификационных вызовов западоцентричной глобализации.
Влияние Октябрьской революции 1917 г. в России на страны балканского региона
Шмелева О.И.
Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния Октябрьской революции 1917 г. на страны Балканского региона. События 1917 г. в России были встречены балканскими народами с одобрением и дали толчок новому этапу национально-освободительных движений. Особенностью данного этапа является то, что кроме экономических выдвигались и политические требования: отмена военного положения, восстановление и расширение политических прав и т.д. Результатом влияния стало образование независимых государств, их национальное и политическое самоопределение.
Ключевые слова: антивоенное выступление, Балканский регион, военное положение, война, забастовка, коммунистическая партия, национально-освободительное движение, независимость, политические свободы, революция.
THE INFLUENCE OF THE OCTOBER REVOLUTION 1917 ON THE COUNTRIES OF THE BALKAN REGION
Shmeleva O.I.
Annotation. The article is devoted to the problem of the influence of the October Revolution of 1917 on the countries of the Balkan. The events of 1917 in Russia were met with approval by the Balkan people and gave impetus to a new stage of national liberation. The peculiarity of this stage is apart from economic ones, political demands were put forward: the abolition of martial law, the restoration and expansion of political rights, etc. The result of the influence of the October Revolution was the formation of independent states, their national and political self-determination.
Keywords: An antiwar statement, the Balkan region, a martial low, a war, a strike, a communist party, a national liberation movement, an independence, political freedoms, a revolution.
Октябрьская революция 1917 г. явилась переломным моментом в истории всего человечества и оказала огромное влияние на подъем и развитие революционных движений за национальное и социальное освобождение во многих странах мира, в том числе в странах Балканского региона.
Влияние идей Октября на Балканах было в значительной степени обусловлено географической близостью этих стран к России, этнографическим родством населения этих стран с ее народами, сравнительно одинаковой степенью их экономического и политического развития, историческими, культурными и политическими связями. Российская общественность искренне сочувствовал борьбе западных и южных славян за национальное освобождение. Образование Сербского и Болгарского государств было непосредственно связано с помощью сербскому и болгарскому народам, оказанной народами России Значительную роль в истории зарубежных славянских народов сыграли связи между революционерами России и славянскими революционерами, установившиеся с середины XIX в.226
События февраля 1917 г. в России были встречены балканскими народами с одобрением и дали мощный толчок новому этапу в развитии революционного и национально-освободительного движения. Но своего апогея эти движения достигли после того, как свершилась Октябрьская социалистическая революция.
В связи с тем, что советское правительство с первых дней своей деятельности начало проводить новую внешнюю политику, основанную на признании прав народов на самоопределение, необходимости дружбы народов в интересах свободы трудящихся, мира и прогресса, оно привлекло массы трудящихся разных стран и оказало определяющее влияние на ход исторических событий в странах Балканского региона. Безоговорочное признание независимости Польши и Финляндии убеждало, что Советская власть не ограничивается декларациями, а осуществляет принцип национального самоопределения на деле. Кроме того, большое впечатление произвели советские декреты о мире и самоопределении народов, о земле, о переходе власти в руки трудового народа.
Сильное впечатление на крестьян Хорватии, Словении и Воеводины (где сохранилось много феодальных пережитков) произвело разрешение в Советской России земельного вопроса. Рабочие этих областей участвовали в забастовках в январе 1918 г., проходивших под лозунгом прекращения войны, а крестьяне начинали захватывать помещичьи земли. В ряде районов возникли партизанские отряды, боровшиеся с австрийскими властями, полицией и помещиками227.
Большое значение имело движение солдат и матросов. В Хорватии, Боснии, Славонии, Истрии и Далмации осенью 1918 г. развернулось движение отрядов так называемых «зеленых» («Зеленый кадер»), состоявших из солдат-славян, не желавших воевать на стороне Австро-Венгрии. В ряде районов крестьяне с помощью этих отрядов захватывали помещичьи земли и прогоняли помещиков. Крестьяне снабжали отряды продовольствием, фуражом, одеждой228.
В конце октября 1918 г. хорватские полки изгнали из столицы Хорватии Загреба австрийские войска и овладели городом. В то же время рабочие-докеры и железнодорожники в Триесте захватили власть в свои руки. 28 октября 1918 г. в военной гавани Пола восстали портовые рабочие, к которым присоединились матросы всех кораблей, стоявших в этой военно-морской базе.
После капитуляции Австро-Венгрии все южнославянские земли объявили 29 и 30 октября 1918 г. о разрыве с империей Габсбургов. В Загребе было созвано Народное Вече, объявившее себя временным правительством всех южнославянских земель, входивших в состав Австро-Венгерской империи. В Женеве была созвана конференция представителей Лондонского эмигрантского Комитета и Загребского Народного вече, на которой было вынесено решение о создании Югославского государства во главе с сербской династией Карагеоргиевичей. На основе этих решений сербский принц-регент Александр 4 декабря 1918 г. опубликовал манифест о создании Королевства сербов, хорватов и словенцев. Однако в манифесте ничего не говорилось об обеспечении прав отдельных народов, входивших в новое государство. Так, в общих чертах, завершился процесс объединения южнославянских земель, ставший возможным благодаря подъему национально-освободительного движения, в котором приняли непосредственное участие пленные и эмигранты, возвратившиеся из советской России.
Значительные революционные сдвиги произошли после Октябрьской революции и в Словакии. Здесь, под влиянием первых декретов Советской власти, во время забастовок в Братиславе, Кошице, Рыбополе, Зволене, Врутках и других городах, а также в день празднования 1 мая 1918 г. провозглашались лозунги национальной независимости и немедленного заключения мира с Советской Россией, ибо «русская революция является общим делом демократии и социализма всего мира». Кроме того, выдвигалось требование 8-часового рабочего дня и ряд других требований экономического характера229.



